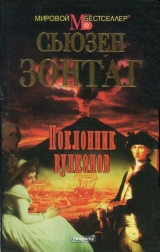
Текст книги "Поклонник вулканов"
Автор книги: Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
Вдохновляющие слова гимна и волшебный голос певицы, похоже, размягчили и убаюкали короля. «А мне нравится, что она становится толстушкой», – думал он в полудреме и кричал хору: «Браво! Браво! Браво!»
Ну раз уж в город они не ходили, то город приходил к ним. На барках приплывали главы знатных родов, чтобы выразить все почтение королю, герою и Кавалеру с супругой и разъяснить, что они никогда с республикой не сотрудничали, ну разве что только под угрозой смерти. Корабль все время окружала пестрая флотилия суденышек мелких торговцев: мясников и зеленщиков, виноторговцев и булочников, наперебой расхваливавших свою свежайшую провизию, торгующие тканью и готовой одеждой предлагали рулоны шелка и атласа, а галантерейщики – новые шляпки для Кавалерши, продавцы книг привозили старые фолианты или последние издания по естественным наукам в надежде соблазнить Кавалера. А соблазнить его ничего не стоило – он соскучился по книгам. В Палермо их достать было практически невозможно. Среди предлагаемой литературы имелись и редкие экземпляры, которые он сразу опознал, – видел их в библиотеках своих знакомых и друзей, которые теперь томились в тюрьмах в ожидании решения своей участи, и никто не знал дальнейшую судьбу. Ему было больно думать, что у книг не стало хозяев, но тем не менее Кавалер не отказывался от покупок. Нет, он не принадлежал к тем коллекционерам, которые безо всякого зазрения совести скупают и подбирают вещи, конфискованные или нечестно отнятые у других коллекционеров. Однако не видел ничего дурного в покупке дорогих и редких книг, ведь если он не купит, то издания пропадут или их растащат по листочкам.
Залив превратился в своеобразный лес кораблей: военные суда героя были выкрашены в черный цвет с желтой полосой вдоль левого борта и с белыми мачтами: это были его флагманские цвета. Повсюду преобладал белый цвет; когда солнце садилось за остров Капри, белые паруса становились в лучах розовыми. На ярко раскрашенных небольших суденышках каждый вечер подплывали музыканты, чтобы услаждать короля с героем, Кавалером и Кавалершей. А на более скромных одноцветных барках приплывали группы хористов, одетые в матросские робы (всем строго-настрого запретили говорить об этом герою). Ну а для сексуальных забав короля одну за другой подвозили каждый час затейниц.
Непоседливый король повадился отплывать от корабля в отдаленные бухточки залива и несколько раз высаживался на Капри поохотиться на африканских куропаток. Кавалер теперь не мог сопровождать его. Ноги у него болели, и он не в силах был карабкаться по крутым каменистым склонам горных хребтов острова. Не плавал он с королем и на охоту с острогой на рыбу-меч и вообще отказался от рыбной ловли, чем так любил заниматься совсем еще недавно, а проводил большую часть дня под тентом на шканцах, перечитывая книги, встречаясь с женой и героем только за ужином. Отужинав, они иногда выходили на корму полюбоваться ночным небом и очертаниями стоящих поблизости кораблей. Хотя Кавалер прекрасно знал, почему на корме горели три фонаря (таким образом в темноте отмечали флагман), он представлял порой, правда, тут же сердился на себя за подобную глупую детскую мыслишку, будто три зажженных фонаря символизируют супругу, героя и его самого.
Все они воображали о себе черт-те что, возможно, житье на водах залива способствовало усилению их самомнения. Герой считал свою деятельность на этом поприще от имени бурбонских монархов очередной ступенькой славы, к тому же он по-прежнему парил на крыльях любви. Как-то ночью, вместе с героем в его каюте, жена Кавалера взяла с полочки подле постели наглазную повязку и примерила на свой правый глаз. Такая выходка шокировала его, и он настоятельно попросил немедленно положить повязку на место.
– Нет уж, позволь мне поносить ее немного, – запротестовала Кавалерша. – Мне очень хочется побыть одноглазой, чтобы походить на тебя.
– Да ты и без того – это я, – ответил он, как всегда говорят и чувствуют настоящие любовники.
Но она считала себя не только его вторым «я». Иногда, когда они оставались одни, Эмма перевоплощалась и в других людей. Она умела ходить вразвалочку, как король, передразнивать его, с жадностью набрасывалась на пищу или распевала, подражая его речетативу, фривольные неаполитанские песенки (которые очень нравились герою, хотя он не понимал по-неаполитански ни слова). Могла передразнивать хитрого и коварного Руффо, прикрывая, как он, глаза и произнося слова с аристократическим прононсом. («Ага! Вот-вот! Здорово похоже!» – восклицал герой.) Мастерски представляла она суровых и мужественных английских офицеров, вроде преданного и честного капитана Харди и честолюбивого Трубиджа. Кавалерша умела менять выражение лица, обличье, голос и подражать грубым выкрикам и покачивающейся матросской походке морских волков адмирала. Как же он хохотал, видя эти сценки. Внезапно она останавливалась, и герой понимал, что теперь Эмма будет изображать Кавалера, великолепно передавая его чопорную, осторожную походку, его смущенный и в то же время недоверчивый голос, когда он расписывает красоты какой-нибудь вазы или картины, изредка повышая тон, будто не в силах сдержать свое восхищение, и тут же умолкая, спохватившись. Герой встревожился, не жестоко ли для любимой женщины вышучивать человека, которого он все же уважает и почитает, как отца родного. И это он, каждый день подписывающий десятки смертных приговоров, встревожился, боясь оказаться жестоким по отношению к тому, кто всячески поддерживал его. Но, прислушавшись к собственной совести, герой решал, что ей не зазорно передразнивать Кавалера и невинно подшучивать над его походкой и манерой говорить. Нет, они с Эммой все-таки не жестоки, ну совсем даже ни чуточки не жестоки.
Многие важные и срочные дела не давали возможности герою и супруге Кавалера часто оставаться наедине. Большую часть времени герой проводил в своей громадной каюте и совещался с капитанами боевых кораблей его эскадры. Если же приходилось вести переговоры с неаполитанскими офицерами, то рядом с ним сидела Эмма и переводила. «Моя доверенная переводчица на все случаи жизни», – прилюдно называл он ее. И все же нет-нет да и выпадали счастливые минутки, когда любовники оставались одни, даже в той же каюте, и тогда целовались, счастливо улыбаясь друг другу и тяжело вздыхая.
«Надеюсь, что эта страна станет еще более счастливой, чем была», – писал герой своему новому командующему Средиземноморским флотом. Командующий лорд Кейт ответил тем, что приказал герою двигаться со своей эскадрой (составлявшей значительную часть английского флота, ведущего военные действия против французов в Средиземноморье) к острову Менорка, где, как ожидалось, англичане вступят в бой с французским флотом. Герой дерзко отписал, что Неаполь гораздо важнее Менорки; миссия, возложенная на него в этом городе, не позволяет ему вести эскадру на соединение с флотом, а потом не удержался и выразил надежду, что с его мнением будут считаться, хотя и знал: за невыполнение приказа может угодить под суд, и даже приготовился к худшему.
– Как много еще предстоит сделать! Ради блага всего цивилизованного мира, – сказал герой Кавалеру, – давайте повесим этого негодяя Руффо и всех заговорщиков и интриганов, выступавших против неаполитанского короля, настроенного проанглийски. Это будет лучшим деянием в нашей жизни.
Неделю спустя лорд Кейт снова приказал герою прибыть к нему, тот опять отказался, но все же разрешил четырем кораблям своей эскадры отплыть в указанное место, чтобы принять участие в сражении, которое, как нередко бывает, так и не состоялось.
Обжигающий ветер южного лета и горячий ветер истории.
С кораблей было очень удобно вести наблюдение, словно из домашней обсерватории Кавалера. Неаполь лежал как на ладони. Его прекрасно можно было рассмотреть с одного и того же места. С корабля рассылались приговоры, их доставляли для исполнения через залив; продолжались пародии на справедливые суды, на которых обвиняемые подчас даже не присутствовали; осужденных приводили на рыночную площадь и затаскивали на эшафот. Единственного способа казни не применялось. Самых зловредных мятежников, чтобы посильнее унизить, преимущественно отправляли на виселицу. Но кое-кого и расстреливали. Другим отрубали голову.
Если вершившие суд считали, что урок нужно преподать смертью, то те, кто умирал, полагали, что своею смертью они являют пример мужества. Они также видели себя запечатленными во всемирной истории как граждане будущего, как творцы поучительных исторических моментов. Вот, дескать, как мы страдали, не боясь мучений и даже самой смерти. Показывать пример – значит быть стойким. Хотя перед смертью лица у них бледнели, губы дрожали, поджилки тряслись, а у некоторых были и мокрые штаны, на эшафот они шли с гордо поднятой головой. Подбадривая себя перед казнью мыслями о том, что становятся бессмертными символами (и не ошиблись в этом). Образ символа, даже в самых прискорбных случаях, всегда обнадеживает.
Так как в художественном образе выражается всего лишь один исторический момент, то художник или скульптор должен выбрать тот, который лучше всего раскроет зрителю внутреннюю сущность изображаемого объекта.
Но что зрителю нужно знать и испытывать, глядя на образ?
Возьмем, к примеру, судьбу троянского жреца Лаокоона, который пытался остановить своих соотечественников втащить в городскую черту осажденной Трои деревянного коня (которого те приняли за божественный дар), подозревая в этом ловушку греков и предсказывая, что конь принесет троянцам несчастье. Но так как боги уже предопределили судьбу Трои, Посейдон наказал Лаокоона за вмешательство и обрек жреца и двух его сыновей на ужасную смерть. Их предсмертные муки лучше всего выражены в знаменитой античной группе, изваянной родосскими скульпторами в I веке до нашей эры, которую Плиний Старший назвал высшим техническим воплощением искусства живописи и ваяния, а ведущие художники – современники Кавалера – восхищались ею как законченным художественным произведением, потому что скульптура пробуждала в памяти самое ужасное, но все любовались ею, не испытывая ужаса. Она была общепринятым эталоном того, как нужно изображать страдания во всей их величественной красе, где чувство собственного достоинства превалирует над ужасом. Вместо того чтобы изобразить жреца и его детей так, как они, может, и выглядели в тот момент: замерших на месте, с широко раскрытыми в предсмертном крике ртами, не в силах сделать и шагу при виде двух гигантских змей, подползающих к ним; или же, что еще страшнее, – с искаженными, раздутыми от удушья лицами, с вылезшими из орбит глазами, скульпторы показали мужественное напряжение человека и героическое сопротивление удушающей смерти. Как морское дно, спокойно лежащее под бушующими волнами моря, – писал Винкельман, оценивая «Лаокоона», – так и великая суть скульптуры остается спокойной среди схватки страстей. Посмотрим же и на самые ужасные картины и произведения искусства. Даже «Лаокоон», который ближе к современным вкусам, требующим отражения правды, не считаясь с горькими чувствами, был бы счастлив, что он всего лишь скульптура. В этом античном изваянии чудовищные змеи больше не могут сжимать своими кольцами жреца из Трои и его двух сыновей. Их агония навечно запечатлена в мраморе. И, наверное, более выразительно этого не сделать. Играющий на флейте силен Марсий, опрометчиво дерзнувший состязаться в музыке с самим Аполлоном, изображен на картине в тот момент, когда с него вот-вот сдерут кожу. Выхваченные ножи; глупый, бессмысленный взгляд; глаза выражают готовность вытерпеть зверские муки; но мучители еще не коснулись его тела. Всего через секунду он окажется во власти чудовищных мук, из-за которых его будут помнить вечно.
Помимо этого, люди восхищаются искусством (классическими образами), которое мастерски преуменьшает боль и горечь утраты. Великие творцы изображают людей, которые могут сохранять внешние приличия и хладнокровие, испытывая поразительные страдания.
Мы восторгаемся искусством из-за его правдивости и точности: страшные раны, жестокость насилия, физические мучения. (При этом возникает вопрос: а мы сами испытываем такое?) Для нас показательным моментом здесь является то, что мы тревожимся больше всего.
Спокойствие и невозмутимость проявляются по-разному.
Вот что писал строптивый герой лорду Кейту: «Имею честь доложить Вам, что нет на свете столицы спокойнее Неаполя».
Невозмутимость же устоялась в сердце Кавалера. Он успокаивал себя: «Спокойно, спокойно. Помочь ты не можешь. Это не в твоих силах. Теперь у тебя власти нет. Да, собственно реальной власти никогда и не было. Смотри на все издали: мы здесь, а они – там».
Прошли июнь, июль, затем август – самый разгар лета. На «Фудроинте» полы в каютах красили в красный цвет, как и на всех английских военных кораблях, чтобы не были видны следы крови в случае ранения моряков; в корабельных помещениях и днем было мало света, а в межпалубных пространствах не высыхала влага, так как весь год напролет там не позволялось разводить огонь, за исключением разве что камбуза. По ночам в спальных каютах стояла духота даже при открытых иллюминаторах. Любовники обнимали и ласкали друг друга, а Кавалер беспокойно метался в своей кровати, но в конце концов ему удавалось утихомирить тупую боль в ревматических коленях. Из камбуза, расположенного на самой нижней палубе, тянуло запахом пищи, или ему так казалось. От мягкого покачивания судна все время потрескивал пол и продолжали мокнуть стены.
Конечно, для них было бы лучше перебраться в покоренный город и жить там. Можно быстренько подготовить какую-нибудь разграбленную виллу или прежний особняк британского посланника, даже загаженный королевский дворец. Но у короля и всей троицы вопроса о переезде на берег даже не возникало. Неаполь стал для них неприкасаемым, сердцевиной тьмы.
Может, кому-то и казалось, что Неаполь относится к великолепным, пышным городам, Европа продолжала нежно любить его, потому что в городе были обновленный оперный театр, знаменитые музеи. Любовь вызывали и великолепные гуманитарные реформы. Управлял же им король с толстой оттопыренной нижней губой, являющейся отличительной чертой габсбургского рода монархов[74]74
Так у автора. На самом деле король принадлежал к роду Бурбонов, для которых характерными были длинные носы.
[Закрыть]. Но правители покинули город, превратив его в фильтрационный лагерь или задворки Европы, где нужно безжалостной рукой наводить порядок, предназначенный для колоний и непокорных провинций. (Скарпиа сказал бы: «Жестокость – это одно из проявлений чувствительности. Очищение людей от остатков свободы забавляет меня. Мне нравится держать их в узде…») Но дела тут вершил не Скарпиа. И это было не проявление жестокости ради забавы, а политика. С Неаполем стоило обращаться как с колонией. Он стал Ирландией (или Грецией, или Турцией, или Польшей). «Ради блага всего цивилизованного мира», – как любил говорить герой. Вот они и выполняли работу на благо цивилизации, что означало – на благо империи. Безропотное подчинение! Обезглавить мятеж! Казнить любого, кто мешает проведению такой политики!
Руффо так и не удалось повесить. Но вот приятеля Кавалера и его домашнего врача, престарелого Доменика Чирилло повесили, а также знаменитого юриста и лидера умеренных Марио Пагано[75]75
Пагано Франческо Марио (1748–1799) – итальянский просветитель, республиканец, член временного правительства и президент законодательного комитета Партенопейской республики.
[Закрыть], кроткого и безвредного поэта Игнацио Кьяджу и Элеонору де Фонсека Пиментель, фактически министра пропаганды революционного правительства. И еще многих, многих других.
Если бы казни вершила толпа, тогда бы негодовали, что зверь упивается кровью. Ну а поскольку приговоры выносили конкретные личности, заявлявшие, что они поступают так ради блага всего общества («Мой принцип состоит в том, чтобы восстановить мир и счастье для человечества», – писал герой), то про них говорили, дескать, они сами не ведают, что творят. Или что они стали жертвами обмана. Или же что после всего этого должны чувствовать себя виноватыми.
Вечный стыд и позор герою!
Они находились на борту «Фудроинта» целых шесть недель – срок довольно приличный.
Странно как-то было смотреть на Неаполь со стороны моря, а не из окон и с террас особняка, откуда в течение многих лет Кавалер любовался великолепным видом. Теперь все было наоборот: Капри и Искья лежали позади; Везувий виднелся справа, а не слева, его расплывчатые серые очертания освещались заходящим за горизонт солнцем; а морские замки и дворцы на Кьяйе бросали на рябь моря трехмерные, трепещущие, золотистые отражения. Странно было также смотреть и на героя с другой стороны, под другим углом, с точки зрения истории – как будут судить о нем и его компаньонах будущие поколения вместе со многими его современниками. Он будет казаться совсем даже не великодушным рыцарем, а мстительным лицемером, которого не разжалобить и не смягчить даже самыми явными доказательствами невиновности человека. Кавалер же станет представляться вовсе не доброжелательным и беспристрастным посланником, а пассивным и робким мямлей. Ну а Кавалерша – не кипучей и жизнерадостной вульгарной особой, а хитрой, жестокой и кровожадной стервой. Вся троица оказалась замешанной в ужасных преступлениях. Каждый из них обрел новое (не такое уж симпатичное) лицо. Но все же самого сурового порицания заслуживает супруга Кавалера.
Все они составляли одну семью, творившую зло. Семья эта являла собой пример государственного управления, но управления вредоносного, чрезвычайно дурного, против которого и разразилась революция. Одно из последствий прежнего режима, где бразды правления передавались по наследству, заключалось в том, что заметной и довольно реальной властью обладали женщины, правда, таких примеров немного. Иногда сами монархи, а чаще их советники, которые были сыновьями, мужьями, братьями или еще какими-то близкими родственниками царствующих дам, не могли полностью исключить своих родственниц из семейной жизни. (При новом же образе правления органом власти является ассамблея или собрание, состоящее исключительно из мужчин, поскольку оно приобретает законность из гипотетического согласия между равными. Женщины же в ассамблею допускаются с ограничениями, ибо считается, что они недостаточно умственно развиты или не вполне свободны и не могут быть полноправными партнерами в таком согласии.)
Были и такие семьи, дурно осуществляющие власть, в которых женщины верховодили. Определенная часть скандальных дел из-за неверного и злого правления возникла как раз в связи с явно доминирующей ролью женщин. Другая семейная драма старого режима – это выпячивание на передний план женщин с сильным характером, поставивших крест на свойственных их полу функциях (воспитание детей, домашнее хозяйство, любительское увлечение искусством) и рвущихся к власти, женщин порочных, поработивших слабохарактерных и развративших добропорядочных мужчин посредством чар и сексуальных ухищрений.
Бессердечность и мстительный нрав Кавалерши иллюстрируют множество всяких былей и небылиц.
Вот возьмем, например, преследование либерального аристократа Анджелотти, которого в свое время арестовал и засадил в темницу Скарпиа за хранение запрещенных книг. А позднее Анджелотти снова влип в историю и подвергся безжалостным гонениям со стороны супруги Кавалера за то, что много лет назад нанес ей смертельную обиду, публично рассказав о ее грязном и недостойном прошлом.
Это случилось в 1794 году, в год террора, когда Скарпиа получил задание от королевы выявить и изловить республиканских заговорщиков и последователей Французской революции. Во время большого приема во дворце британского посланника Кавалерша, как всегда, своим громким, несколько визгливым голосом рассказывала о дорогой-любимой королеве, об ужасах французов, о подлостях и позоре революции и о вероломстве некоторых аристократов, которые осмелились выражать симпатии могильщикам порядка и приличий и к тому же еще и убийцам родной сестры королевы, к этим предателям, сказала она, нельзя проявлять никакого снисхождения.
На этом памятном приеме присутствовал, и маркиз Анджелотти. Хотя он и не считал себя объектом нападок супруги британского посланника, поскольку в ту пору не был еще антироялистом, тем не менее воспринял ее слова как личное оскорбление. Может быть, он просто не знал тогда о ее бестактности и агрессивности, о чем было известно многим. А может, ему не нравились чересчур болтливые женщины. Так или иначе, но рассказывают, что ее злобная тирада против республиканцев настолько задела маркиза за живое, что он схватил бокал с вином обеими руками и высоко поднял его.
– Хочу предложить тост за хозяйку этого дома, – громко выкрикнул Анджелотти, – и удостовериться, что имею удовольствие видеть ее в таком хорошем настроении и такой же возбужденной в месте, столь разительно отличающемся от того, где впервые повстречал ее.
За столом зашептались, все взгляды устремились на маркиза.
– Где же это было? Ну что же вы не спрашиваете? – выкрикнул он снова.
В ответ – красноречивое молчание.
– В Лондоне, – продолжал маркиз громким голосом, – в Воскхолл-гардене. Много лет тому назад. Да, да. Смею утверждать, что имею честь быть знакомым с женой Кавалера дольше, чем любой из сидящих здесь за столом, в том числе и его превосходительство, ее супруг.
Кавалер поперхнулся – только он один во время тирады Анджелотти продолжал жевать как ни в чем не бывало.
– Да, да, – не унимался маркиз, – я гулял с двумя приятелями: графом дель… из Неаполя и нашим общим английским другом сэром… как вдруг подошла и заговорила со мной одна из тех жалких созданий, которые шастают по общественным паркам в поисках еды или еще какой подачки. На вид ей было не более семнадцати, такая вся неотразимая, от шляпки до светлых чулок, и еще помню, у нее были прекрасные голубые глаза. Думаю, нас, неаполитанцев, такие голубые глаза больше всего соблазняют. Я бросил приятелей и пошел с этой чаровницей, которая оказалась гораздо приятнее, чем я ожидал, хотя, будучи иностранцем, понимал далеко не все, что она говорила со своим волнующим деревенским акцентом. К счастью, она любила не только поболтать, но и кое-что другое. Наша связь продолжалась восемь дней. Она не могла, как я понял, долго заниматься этим делом, поскольку в ней еще чувствовалась провинциальная наивность, что, впрочем, придавало особую пикантность одному из самых легких удовольствий, которые можно получить в большом городе. Как я уже сказал, наша связь длилась всего восемь дней, оставив мне смутные воспоминания, ничуть не ярче тех, которые бывают при случайных встречах. Представьте же мой восторг, когда спустя столько лет я снова встречаю ее и вижу, что она, став совершенно иной, ведет другую жизнь и восседает здесь, среди нас, являясь не только лучшим украшением нашего музыкального общества, но и источником наслаждений выдающегося британского посланника, а также обожаемой подругой нашей королевы…
Ходил слух, будто ее величество приказала арестовать Анджелотти спустя всего несколько дней после просьбы Кавалерши. Состоялся скорый суд, и маркиза приговорили к трем годам каторжных работ на галерах за то, что он будто бы переметнулся из лагеря сторонников конституционной монархии к республиканцам. Разумеется, рассказчики этой истории могли утверждать (и, соответственно, так и утверждали), будто Анджелотти арестовали по просьбе Кавалера, которому заморочила голову его супруга. Но так или иначе, вину всегда возлагали на Кавалершу. Когда все кончилось, стали поговаривать, что герой никогда бы не сделал того, что натворил если бы не попал под влияние женщины, которая была близкой подругой неаполитанской королевы. Сам же английский адмирал, как утверждали, не согласился бы стать по своей воле палачом у Бурбонов.
В таких повествованиях не только одни мужчины представлены одураченными женщиной, но и женщина – мужчинами. После того как их действия получили по всей Европе скандальную огласку, начали поговаривать, что во все виновата эта развратная Кавалерша – она, дескать, оказывала дурное влияние на восприимчивую королеву и вынуждала отдавать приказания по поводу судилищ и вынесения смертных приговоров неаполитанским патриотам. Однако другие с пеной у рта утверждали, что именно порочная королева сделала слепо преданную и доверчивую подружку послушной пешкой в своих руках. В любом случае королеву осуждали строже чем короля. Она же ведь происходит из злобного выводка деспотичной Марии Терезии, поэтому, дескать, ей ничего не стоило вертеть своим безвольным и невежественным мужем. Считалось, что король в силу своего характера никогда бы не допустил подобных жестокостей. Женщину можно легко обвинить в непосредственном участии в преступлении (хотя она всего лишь подбивала на это мужчин), а также в попустительстве, если она не сумела предотвратить преступление. Когда было решено, что королю и королеве необходимо прибыть в Неаполитанский залив, чтобы придать видимость законности курса на кровопролитие при реставрации монархии, ее величество захотела сопровождать своего мужа и друзей на «Фудроинте». Но король, которому не терпелось отдохнуть от властной супруги, распорядился, чтобы она оставалась в Палермо.
Возлагать на женщину всю ответственность за выдвижение обвинений республиканцам, как рассказывается во всяких историях, – было не чем иным, как хитроумным предлогом нарушить причинную связь в политике, провозглашенной с флагманского корабля героя. (Такие утверждения зачастую выдвигаются при оправдании женоненавистничества.)
Возложение ответственности за кровавые расправы с республиканцами на королеву неизменно отражало постоянную хулу женщин-правительниц – этих объектов издевательств и снисходительных насмешек (за то, что были неподобающе мужеподобны) или же двусмысленной клеветы (за их фривольность или сексуальную ненасытность). Роль королевы удобно вписывается в привычный штамп – ведение домашнего хозяйства, поэтому у нее надежное алиби. Участие Кавалерши в белом терроре, развязанном после подавления Везувианской республики, похоже, ничем не обосновывается и не так уж заслуживает осуждения.
Кем же все-таки была эта социальная выскочка, эта пьяница, роковая женщина, роскошная, пластичная, расфуфыренная… артистка? Может, субреткой, потихоньку пролезшей в самое сердце драмы целого народа, но затем все же порой возвращавшейся на свой путь? (Разве она не была женщиной? А в таком случае почему не должна была нести полной ответственности?)
Возможно, еще одним доказательством бессердечности Кавалерши явился бы широко известный факт, что она единственная из нашей тройки посещала измученный город, пока линейный корабль «Фудроинт» стоял в заливе на якоре в течение полутора месяцев. Герой, дабы командовать, должен был постоянно присутствовать на борту судна и не мог выносить приговоры и одновременно управлять разрушенным и разграбленным Неаполем. И Кавалер тоже не был способен на это. Всякий раз, выходя на палубу, он не мог удержаться, чтобы не посмотреть на здания и сады, полукругом расположившиеся за портом, и на особняк, в котором прожил тридцать пять лет – больше половины своей жизни. Перспектива сойти на берег и, поддавшись искушению, осмотреть свою разоренную и загаженную резиденцию уже заранее вызывала в его душе печаль.
Но вот в один из жарких июльских дней супруга Кавалера, высмеяв мужа и любовника, озабоченных ее безрассудным намерением, сошла на несколько часов на берег. Она переоденется так, что ее никто не узнает, весело заверила Кавалерша своих близких.
Фатима, Джулия и Марианна – эти три камеристки, которых она прихватила с собой из Палермо, умеют шить дамские костюмы. А разве в Палермо она не сопровождала довольно частенько героя в ночных путешествиях по городу, переодевшись в матросскую робу? Ну а для прогулки по Неаполю наденет траурную одежду вдовы, что полностью скроет ее фигуру и лицо.
С корабля Эмма пересела на небольшой ботик и сошла на берег в отдалении от причала, где шныряли местные попрошайки, торговцы всякой мелочью, проститутки и иностранные матросы. Там ее уже поджидала карета со слугами, состоящими при английском посольстве. Рядом, в другой карете, сидели четыре офицера с «Фудроинта», выделенных героем, который приказал им ни на секунду не выпускать леди из виду и в случае опасности жертвовать жизнями ради ее спасения. Они наблюдали, как супруга Кавалера выбралась из ботика, споткнулась и, пройдя неверной, шаткой походкой, остановилась, прикрывая лицо черной шелковой вуалью. «Сегодня она, должно быть, поддала с утра пораньше. Боже всемогущий! Может, нам нужно помочь ей? Нет, смотрите-ка, сама справилась». Все знали, что адмиральская сирена слишком много пьет. Но тут офицеры ошибались. Покачивалась она вовсе не от вина, которого все же потихонечку набралась на судне, а от того, что, ступив на твердую землю после почти месячного пребывания на раскачивающемся «Фудроинте», у нее непривычно закружилась голова.
Лакей помог Кавалерше забраться в карету. Женщина откинулась на подушки, сказала кучеру, куда ехать, и покатила по жарище, пристально разглядывая длинные ряды домов, людей и проезжающие мимо экипажи. На улицах, как и всегда, было полным-полно народу, но, похоже, преобладали женщины в черной траурной одежде, как и на супруге Кавалера. В одном месте она приказала остановиться и купила огромный букет – жасмин, палевая камея и розы.
Эмма остановилась у церкви. Приподняв с лица вуаль, она решительно шагнула в прохладную темноту храма. Был перерыв между службами, поэтому внутри стояла тишина, только среди высоких колонн виднелись одинокие темные фигуры молящихся. Обмакнув пальцы в чашу со святой водой, Кавалерша преклонила колени и перекрестилась, потом, как того требовал местный обычай, поцеловала кончики пальцев. Идти в глубь церкви она не решалась, опасаясь, что люди, опознав ее, бросятся к ней, как и в прежние дни, чтобы прикоснуться к платью и просить милости и подаяния у второй, самой могущественной дамы в королевстве, супруги английского посланника. Но оказалось, что никто не обращает на нее внимания, и Кавалерша даже немного разочаровалась. Звезде всегда хочется, чтобы ее узнавали.
В прошлом году в Неаполе Эмма нередко заходила днем в собор святого Доменико Маджорского и делала вид, будто интересуется надписями на древних гробницах неаполитанской знати, а сама внимательно смотрела на молящихся и представляла, как на них нисходит благодать, когда она благословляет их. Теперь ей хотелось защищать, но не этих людей. У героя в области сердца возникли боли, тупые и тягучие, среди ночи, во сне он так жалобно постанывал, что у лежавшей рядом супруги Кавалера душа разрывалась на части. Она принялась молча молиться за его здравие – в детстве Эмма никогда не ходила в англиканские церкви, но в Неаполе ей приходилось не раз бывать в местных католических храмах, и образ Пресвятой Мадонны частенько мерещился ей. Лежа рядом с героем и прислушиваясь к звону корабельной рынды, отбивающей склянки, она все больше склонялась к мысли, что если она снова помолится перед статуей Пресвятой девы Марии, то ее молитва непременно будет услышана на небесах. Сама Кавалерша в защите не нуждалась, но ей хотелось защитить любимого человека. Она так желала, чтобы боли у него прошли.








