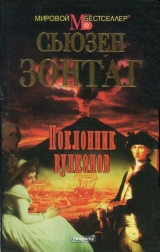
Текст книги "Поклонник вулканов"
Автор книги: Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Вы же, будучи одним из приглашенных или, лучше, хозяином, пытаетесь развеселить эту хмурую, скучающую личность. Но все ваши потуги напрасны. Гость извиняется и уходит за прохладительными напитками. (Он что, хандрит или же готовится устроить какую-нибудь пакость?) Затем возвращается со стаканом и не спеша потягивает сладкую водичку. Вы покидаете его и присоединяетесь к пирующим, рассказывая про мрачного гостя нечто несуразное и высмеивая его, благо, поводов для насмешек предостаточно. Да и все его поведение кажется нелепым – тупой и самодовольный зануда, эгоист! Воображает из себя черт знает что. Неужели нельзя повеселее проводить время? Полегче, пораскованнее вести себя, а каменный гость?
Он же, не обращая ни на кого внимания, продолжает скучать, демонстрируя всем своим видом, что для него здесь нет ничего интересного. Оставив его в покое, вы переходите от гостя к гостю, раз уж это не встреча тет-а-тет. Вечеринка для того и устраивается, чтобы объединить и примирить всех участников, а не обострять существующие между ними противоречия. А он, похоже, не понимает этого в силу своей невоспитанности. Ему что, неведомы общепринятые правила лицемерия?
Оба вы не можете быть правыми. Если прав он, то, значит, ошибаетесь вы. Ваша жизнь оказывается пустой и мелочной, а нормы и критерии поведения – двуличными и фальшивыми.
Ему хочется усвоить ваш образ мышления, а вам это не нравится, и вы пресекаете его стремление. Вы убеждаете себя, что благородные цели оправдывают легкомысленные поступки. Вот и эта вечеринка, она тоже необходима.
В конце концов каменный гость все же уходит, на прощание протягивает руку. Она холодна, как лед. Вы возвращаетесь назад. Музыка гремит вовсю. Господи, как стало на душе легко. Вам нравится такая жизнь, и менять ее вы не собираетесь. Какой этот каменный гость церемонный и показушный, какой властный, нудный и сухой, агрессивный и надменный. Настоящий монстр эгоизма. И тем не менее, увы, он тоже реальность.
Во время другого визита поэт попросил Кавалера порекомендовать ему какого-нибудь неаполитанца, торгующего кусками вулканических пород, чтобы увезти с собой образцы.
Путешественники всегда охотно заходят в местные магазины, покупают там различные сувениры и всякую всячину. Никто из посетивших Неаполь не уехал с пустыми руками. Здесь любой может стать коллекционером-любителем. Даже маркиз де Сад оказался в их числе. Одиннадцать лет назад, спасаясь от ареста, он бежал сюда из Франции под вымышленным именем. Но французский посланник все равно опознал его, и беглец должен был предстать перед неаполитанским судом уже как де Сад – в то время малоизвестный. Когда спустя пять месяцев маркиз возвращался на родину, он отправил загодя два огромных сундука, набитых антиквариатом и редкими безделушками.
Перед отъездом на Сицилию поэт несколько раз побывал в королевском музее в Портичи, в коллекциях которого, по его словам, хранился весь антиквариат, какой только можно себе представить. «Этот музей действительно альфа и омега всех античных собраний», – писал он впоследствии.
Приезжал он и в Пестум, где приземистые дорические колонны произвели на него, как он сказал, гнетущее впечатление. По возращении с Сицилии поэт снова побывал там же и уже оценил колонны по достоинству. Но и Помпеи, и Геркуланум, которые он осмотрел накоротке сразу же по прибытии в Неаполь и которые ему не понравились, второй раз уже не посещал. Ему было забавно наблюдать, как копошатся крабы у волнореза. В великолепных вещах есть что-то живое, отмечал он. Нравилось ему так же прогуливаться по саду в Казерте, которым так гордился Кавалер, и любоваться кустами роз и рощицами камфорных деревьев. «Я друг растений, – писал поэт. – Люблю розы» – и ощущал, как на него нахлынула волна здоровья, снимая хворь. «Какое же удовольствие доставляет мне изучение жизни во всех ее многообразных формах. Долой смерть – этот страшный вулкан, эти города, чьи жалкие лачуги, кажется, предвещают, что они станут гробницами».
В письмах своему Суверену[38]38
Суверен – носитель верховной власти.
[Закрыть] и друзьям в Веймаре он сообщает: «Я все время наблюдаю и всегда что-то изучаю… Вы меня теперь не узнаете. Да я и сам себя с трудом узнаю. Вот почему и приехал в Италию, почему удалился от дел».
Амурные похождения в Риме отнюдь не помешали ему завершить окончательный вариант драмы «Ифигения» и дописать две новые сцены к трагедии «Фауст», которая так и осталась незаконченной. Он по-прежнему изучал растения, ставил опыты и увлекался творчеством средневекового архитектора Андреа Палладио[39]39
Андреа Палладио (1508–1580) – итальянский архитектор, представитель Позднего Возрождения.
[Закрыть]. Чтобы избавиться от ностальгии по утраченному классическому античному искусству, поэт начал делать заметки о колоритных уличных сценках и эксцентричном поведении простых людей и преуспел в этом занятии. Теперь он уже не ругал самого себя. Творческая активность и плодовитость были еще одним признаком его крепкого здоровья.
Тем не менее в этом деле весьма важно не переоценивать свои успехи. «Поскольку в мир приходится выходить самому и тесно соприкасаться с его реалиями, – писал он одной своей знакомой, – нужно так же соблюдать особую осторожность и не потерять голову в состоянии экстаза. Или даже остерегаться сойти с ума».
Поэт готовился к возвращению домой. «Неаполь хорош только для тех, кто живет в нем постоянно, – размышлял он в письме, думая о Кавалере. – Хоть он прекрасен и великолепен, но все же поселиться в нем может далеко не каждый… Но я надеюсь, что буду все время вспоминать его, – отмечал он. – Память о его достопримечательностях и живописных видах будет придавать особую пикантность всей моей последней жизни».
Коллекционеры подбирали каждый клочок бумажки, на котором Гёте написал хотя бы одно слово. Его мировая слава сделала из него ходячий антиквариат. Этот великий поэт, чья неутолимая жажда к порядку и серьезному подходу ко всему заставила его стать важным государственным чиновником и придворным, уже вошел в когорту бессмертных, но, разумеется, не как государственный деятель, а как творец, хотя литературой и искусством он занимался для своего личного удовольствия. В своем произведении он отражал бессмертие духа. Все чувства и переживания поэта были неотделимой частью его образования и последующего самосовершенствования. В его жизни, которая была столь удачно и честолюбиво задумана, не могло быть ошибок и зла.
Примиренчество и пустопорожнее созерцание делают нас пассивными, а противоречия заставляют действовать и творить. Призывают нас к этому и слова поэта, слова мудрости. Кавалеру же недоставало здравого смысла и толики везения, да он в них никогда особо не нуждался.
Нужно все изучить и понять, лишь тогда можно что-то видоизменить, – так говорит современная наука. Теперь и задумки алхимиков кажутся вполне осуществимыми. Но Кавалер никогда не пытался понять больше того, что ему уже было известно. Устремления коллекционера не стимулируют его к более глубокому постижению неведомого или к переделке уже существующего. Коллекционирование – это одна из форм объединения однородных предметов. Коллекционер лишь опознаёт и сортирует их, а также добавляет новые к уже найденному. Он их распознает, помечает и описывает.
Как-то раз Кавалер заказал местному художнику из немцев зарисовать двенадцать основных образов, которые показывали в его театре. Альбом назвали «Точные зарисовки, сделанные в Неаполе с натуры». Но рисунки, как подумал Кавалер, никак не передавали всего очарования и великолепия спектаклей. Тогда он нанял другого художника сделать видовые зарисовки Везувия в разных его состояниях, вручив ему подробные письменные инструкции, что нужно запечатлеть.
К своим служебным обязанностям Кавалер относился исключительно ревностно, поэтому вести наблюдения за вулканом ему было недосуг. Для этого он подрядил одного старательного и любящего науку священника, который жил отшельником на краю деревни, около самого подножия Везувия, вести дневник и записывать в него все, что связано с поведением вулкана, и делать заметки. Отныне, с большого извержения в 1779 году, такой дневник велся регулярно на протяжении нескольких лет. Отец Пьяжжио из своей лачуги (откуда открывался великолепный вид) никуда не отлучался (почему-то отшельников всегда тянет жить в горах), вставал он на заре и через определенные промежутки времени, как просил Кавалер, вел наблюдения, все подробно записывал. Всего он исписал четыре толстых фолианта, куда ежедневно вносил разборчивым почерком сжатые, но точные записи и делал беглые карандашные зарисовки: как выплескивается из кратера лава и стекает вниз потоками, как вихрятся и парят высоко в небе клубы дыма, вырывающиеся из недр земли.
Многое в заметках и рисунках отшельника повторяется. А как же иначе? Разве кто-нибудь видоизменял вулкан? Священник рассказал Кавалеру одну занимательную историю, которая ему очень понравилась. Лет сорок назад из Праги в Неаполь приехал один философ и заявился ко двору. Он изложил Карлу Бурбонскому, тогдашнему неаполитанскому королю, отцу нынешнего монарха, подробный план спасения поселений вокруг Везувия от угрозы разрушения, постоянно витающий над ними. Он пояснил, что знает многие науки, в том числе горное дело, металлургию и алхимию, а в своей лаборатории в Праге занимается вулканологией. В конце концов он догадался, как можно решить проблему. Нужно просто «урезать» гору, чтобы она возвышалась над уровнем моря не более чем на триста метров, а затем от оставшейся части прорыть к берегу моря узкий канал. Таким образом, когда произойдет новое извержение вулкана, то огненная лава потечет по этому руслу прямо в море.
Для выполнения столь важного проекта, подчеркнул ученый муж, не потребуется слишком больших затрат и слишком много работников. «Дайте в мое распоряжение двадцать девять тысяч человек, Ваше Величество, – сказал он, – и за три года монстр будет обезглавлен».
Был ли философ из Праги очередным шарлатаном? Вполне возможно. Следовало ли разрешить ему приступить к работам? Король, которому нравились смелые проекты, все же посоветовался со своими министрами. План алхимика поверг их в ужас. Исправлять форму вулкана, заявили они, было бы богохульством, а кардинал с амвона кафедрального собора предал проект анафеме.
С началом новой эпохи появились новые идеи, изобретения, и неудивительно, что вспомнили о проклятом проекте. Один местный инженер вынул его на свет Божий, стряхнул пыль и переработал в свете передовой технологии, а затем передал чертежи их величествам. Королева, считавшая себя покровительницей просвещения и науки и будучи сторонницей проведения постепенных реформ в политике и мануфактурном производстве, поручила изучить предложение инженера компетентным министрам и ученым. При этом она наказала рассматривать проект только с практической точки зрения, отбросив всякие мысли о святотатстве.
Последовал ответ: да, проект вполне реален. Разве в античном мире не осуществлялись с поразительной точностью еще более грандиозные постройки. А ведь у них не было тогда тех удивительных машин и механизмов, которые имеются сейчас. Ну а кроме того, ломать – не строить, разрушать всегда легче, нежели возводить. Если с помощью одной только человеческой машины, состоящей из многих десятков тысяч рабочих рук, удалось воздвигнуть Великую пирамиду в Гизе[40]40
Гиза – город и Египте. Знаменит ансамблем пирамид фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина.
[Закрыть] – это чудо, то при подобной же мобилизации человеческой энергии и всеобщем послушании дальновидной правительнице можно сотворить и другое чудо – срыть Везувий. Однако скептики (а может, просто реалисты) утверждали: никакое изменение форм вулкана, в том числе и понижение высоты, не повлияет на природу вулкана и не укротит его нрав. Все это не предотвратит извержений и не ослабит их последствий. Ведь угрозу представляет не сама гора, а то, что лежит глубоко под земной корой, на которой, как на пьедестале, и высится вулкан.
«Но это же можно сделать», – раздраженным голосом произнесла королева. «Да, сделать можно. И сделаем, если так решили». Этим просвещенным деспотам было далеко до богоподобных властителей античного мира Средиземноморья, но они по-прежнему претендовали на абсолютную власть, врученную им свыше. На деле же эта власть подрывалась и неуклонно ослабевала из-за того, что они давно уже стали посмешищем в глазах народа. Всеобщее просвещение тоже внесло свою лепту. Фактически они больше не обладали ничем таким, что походило бы на абсолютизм.
3
В ту зиму на всем Апеннинском полуострове стояли необычные холода, от Венеции на севере (залив даже покрылся льдом, и по нему можно было не только ходить, но и кататься на коньках, как по голландским каналам) до Неаполя на юге, где холода были еще более суровыми, нежели те, что семь лет назад доконали беднягу Джека. На покрытых лавой улицах и на вулкане лежал снег… Таким же катастрофичным, как и дождь горячего пепла, оказался град. Гибли фруктовые сады и виноградники, гибли люди – десятки тысяч городских бедняков, которым негде было укрыться от града и ледяного ветра. Столь небывалые зимние холода вселяли страх и дурные предчувствия. Несомненно, такие аномалии были не просто природными. Они являлись символами, признаками, предвестниками надвигающейся катастрофы.
Вот перечень некоторых распространенных сравнений: словно ветер, будто ураган, как пожар, как землетрясение, словно оползень, словно потоп, как подрубленное дерево, будто рев стремительного потопа, словно тронувшийся на реке лед, как приливная волна, будто кораблекрушение, как взрыв, словно взлетевшая крышка перегретого котла, будто прожорливый огонь, как эпидемия заразной болезни, словно потемневшее вдруг небо, как внезапно рухнувший мост, будто земля разверзлась. Как извержение вулкана.
А вот несколько глаголов, дающих характеристику состояния человека и его действий: отбирать, поддаваться, подлаживаться, храбриться, лгать, понимать, быть правым (провидцем, чудаком), обмануться, настоять на своем, поступать опрометчиво, проявлять жестокость, ошибаться, пугаться…
Наступила весна. Везувий не прекращал своей активности, привлекая в город толпы путешественников, приехавших, чтобы полюбоваться на него, зарисовать, а то и взобраться на склоны. Это вызвало повышенный спрос на картины с изображением местной достопримечательности, на радость поднаторевшим художникам и местным торговцам, поставляющим продукцию на рынок. В конце июля внезапно резко упала популярность на картины с видами на Везувий, где он изображен величественным и спокойным. Теперь все жаждали сюжетов с извержением. Художники вмиг сориентировались. Во всех европейских государствах как для сторонников революции, так и для напуганного правящего класса феодалов извергающийся вулкан стал прекрасным символом того, что произошло во Франции, – яростным потрясением общества, разрушительной волной, сметающей все и вся на своем пути.
Как и Везувий, Французская революция была феноменом. Но свершилась революция и длилась недолго, а извержение Везувия – вечно. Оно было, есть и будет – ведь это постоянно повторяющееся природное явление. Отождествление законов движущихся сил истории с законами природы, конечно же, утешительно, но оно вносит одновременно сумятицу и растерянность. При таком раскладе получается, что если какое-то явление в истории человечества имело начало и конец, как, например, эпоха революций, то, стало быть, и природное явление рано или поздно перестанет существовать.
Кавалер и его знакомые, похоже, не очень-то опасались извержения. По статистическим выкладкам, большинство гигантских катастроф случается внезапно, следовательно, все наши потуги вычислить их вероятность бесплодны. В настоящий момент мы находимся в безопасности, и, как говорится, жизнь продолжается (имеется в виду жизнь привилегированных сословий). Мы живы-здоровы, хотя все кругом может измениться, но потом.
Любить вулкан – значит укротить революцию. Жить в наши дни рядом с памятниками катастроф, среди руин – в Неаполе или в Берлине – значит, все время утешать себя тем, что можно пережить любое бедствие, даже самое катастрофическое.
Возлюбленная Кавалера так и не прекратила писать письма Чарлзу. В них она просила его, упрекала, осуждала, угрожала и пыталась пробудить в нем жалость. Три года минуло со дня ее приезда в Неаполь, а она отправляла свои послания все так же часто, как и в первый год. Если Чарлз перестал быть ее любовником, то должен оставаться хотя бы другом. У Эммы верность была развита столь сильно, что зачастую она не понимала, что кое-кому перестала нравиться или просто приелась. Привыкшая ко всеобщему восхищению, женщина и мысли не могла допустить, что Чарлзу надоели ее письма и ему неинтересно знать, чем занимаются она и его дражайший дядюшка, которого Эмма осчастливила (а разве не этого хотел Чарлз?) и который столь добр, столь великодушен по отношению к ней.
Она писала, что сопровождает Кавалера Во время восхождений на вулкан, что никогда прежде не видывала ничего подобного, что ей жалко луну, ибо свет ее здесь бледен и слаб на фоне извержения (вскоре ее жалость стала изливаться подобно фонтану). Писала она и о поездке с дядей на раскопки Помпеев, где оплакивали жителей, погибших много столетий назад. В отличие от Кэтрин, никогда не прельщавшейся возможностью взобраться на Везувий и не разделявшей восторгов мужа при осмотре мертвых городов (хотя она была там, правда, не с мужем, а с Уильямом), Эмма была готова выполнять все, что Кавалер ни предлагал, да еще, похоже, с удвоенной энергией.
Если бы она только могла и Кавалер разрешил, она с радостью обулась бы подобающим образом, закуталась в меха и отправилась вместе с ним на охоту на вепря (женщина великолепно ездила верхом, а он даже и не догадывался об этом). Она не прочь была бы посмотреть на короля, стоящего по колено в крови среди только что вынутых потрохов убитых зверей, и даже получила бы от этого жуткого зрелища удовольствие. Хотя молодой женщине и не нравились такие зверства – она имела небольшой опыт по этой части (ее любовник до Чарлза, он же отец ее дочки, который обучил Эмму верховой езде, был деревенским забойщиком скота) и кое-что вычитала в книгах.
«Любопытно, конечно, не отрицаю… Как мне довелось видеть… Я хочу сказать, что это похоже на… сцены из Гомеровского эпоса!» – воскликнула бы Эмма, доведись ей присутствовать на королевской охоте. И не сильно ошиблась бы.
Кавалер с обожанием смотрел, как она становилась его компаньоншей и все более прилежной ученицей, готовящейся к роли знатной леди. Училась Эмма охотно и все схватывала на лету. Поэтому-то она и не сгинула в неизвестность, а достигла триумфа.
По натуре своей она была понятлива и восприимчива, и он ваял из нее благородную даму, как скульптор лепит из куска податливой сырой глины изящную статуэтку. Она усваивала его наставления и разъяснения поверхностно, искусно отбирая только действительно нужное. Да и учил он ее, честно говоря, чему-нибудь и как-нибудь. В ее присутствии ему приходилось воздерживаться от своей врожденной привычки иронизировать по каждому поводу. Будучи неглупой женщиной, именно в этом она не могла ему подражать, так как по складу своего характера (да тут и происхождение играет немалую роль) иронию просто не воспринимала. Эмме была чужда меланхолия, которая является лицевой стороной иронии. Она появилась на свет в среде, слишком далекой от такого снобизма, когда упоенность собственным положением в свете выражается косвенным путем, через иронические оценки происходящего. Английские джентльмены, оказавшиеся на чужбине (даже по собственной воле), относятся к незнакомым обычаям и привычкам местного населения, среди которого им приходится вращаться, главным образом иронично. Посредством иронии можно смело выражать собственное превосходство над аборигенами, не выставляя при этом напоказ свое действительно дурное воспитание, гнев или, скажем, обиду.
Что касается нашей молодой женщины, то она не видела причин скрывать обиду, когда ее обижали, или раздражение, которое частенько испытывала, но лично ей боль никогда не причиняли. К уколам и подковыркам в свой адрес она относилась терпимо и легко их переносила, а раздражалась она, когда унижали других или дурно обходились с ними.
Если бы в ее характере был заложен снобизм, то она смело бы выражала его напрямую, а не через иронические реплики. «Боже мой, как же они все вульгарны! – нередко восклицала Эмма, вернувшись с вечернего приема (Кавалер повсюду таскал ее с собой, и все с удовольствием принимали Эмму). – Ну никто из них так не добр, не мудр и не любезен, как вы», – добавляла она, обращаясь к Кавалеру. «И никто из них столь гармонично не развит, как она», – думал он про себя.
Будучи чутким психологом, она ловко научилась проникать в чужие души (что, кстати, с блеском делал и Кавалер). Поначалу сфера ее занятий ограничивалась общепринятыми, стандартными, характерными для женщин ее круга: выслушиванием жалоб на здоровье, выражением сочувствия и сопереживанием. Другие ее способности – быстрое угадывание чужих мыслей, желаний, потребностей – оставались до поры до времени нереализованными. Хотя она и была эгоцентричной, тем не менее натуру Эммы прежде всего отличали восхищение, верность, страсть к самолюбованию. При этом чужое страдание доводило ее до слез. Она искренне плакала, когда по улице проходила процессия, хоронившая ребенка, или когда на одном из приемов ей исповедовался молодой американский торговец шелковыми товарами, отправленный за границу, чтобы пережить измену невесты накануне их свадьбы. Она не осталась безучастной и к физической боли и начинала искать возможности облегчить мучения других. Когда у Валерио сильно заболела голова, Эмма приготовила уэльское народное снадобье и самолично напоила его. Если кто-то молчал, она всячески старалась разговорить молчуна. Не раз пыталась завести разговор и с одноглазым юношей, проводником Кавалера. О-о, бедный его глаз!
В 1790 году (прожив в Риме целый год после падения Бастилии) в Неаполь приехала и надолго остановилась там странствующая художница Элизабет Вижё-Лебрён[41]41
Элизабет Вижё-Лебрён (1755–1842) – французская художница, писавшая в основном светские идеализированные портреты.
[Закрыть]. Разумеется, ее представили и покровителю всех проживающих здесь художников, как местных, так и иностранных. На встрече также присутствовала и молодая женщина, которая была самой знаменитой натурщицей той эпохи. Вижё-Лебрён не преминула попросить Кавалера дать ей возможность сделать портрет его обожаемой чародейки, и Кавалер с готовностью согласился, выторговав за это солидный гонорар. У него и без того уже имелась добрая дюжина портретов Эммы. Но, видимо, он подумал, что неплохо иметь портрет его возлюбленной, написанной одной из немногих профессиональных женщин-художниц.
Поскольку знакомая Кавалера являлась натурщицей, а не заказчицей собственного портрета, то встал вопрос об образе. Вижё-Лебрён решила, не без некоторого злого умысла, писать с нее образ Ариадны и избрала эпизод, когда Тесей на берегу Накоса отверг любовь Ариадны.
На картине Эмма изображена внутри пещеры, в белом длинном свободном хитоне, слегка прикрытом пышными волосами, ниспадающими до полных коленей. Она сидит на леопардовой шкуре, откинувшись на огромный камень, одной рукой изящно подпирая щеку, а другой держа кубок. Лицо ее выражает что угодно, но только не отчаяние, хотя с момента размолвки прошло совсем немного времени. Она повернулась спиной к входу и всматривается ничего не выражающими глазами в глубь пещеры, откуда на ее лицо, грудь и оголенные руки падают лучи яркого света. Позади нее открытое море, вдали, на линии горизонта, виден кораблик. Вероятно, на нем и уплывает Тесей, которому она спасла жизнь и который обещал взять ее в жены и увезти к себе на родину, но на полпути изменил свое решение и оставил Ариадну одну умирать на пустынном острове.
Да, точно. Наверняка это судно ее возлюбленного, – совершив предательство, он поднял паруса и отплыл при попутном ветре. Судно не может принадлежать Дионису, богу радости и вина, который спасет ее и сделает своей женой, тем самым она вознесется на такую недосягаемую высоту, которая ей и не снилась. Дионис не был простым смертным, стало быть, не нуждался в корабле, чтобы появиться на острове, а мог прилететь туда по воздуху. Может, и прилетел, и объявился в глубине пещеры, готовый полюбить Ариадну, а она уже успела забыть Тесея, который еще не скрылся из виду (и хотя, удрав, почувствовал облегчение, все же терзался угрызениями совести, как терзается грубый хам, считающий себя благородным джентльменом), и осушила кубок вина, поднесенный богом Дионисом, чтобы у нее высохли слезы (забудь Тесея! Ведь я же…), и прошла скованность, прежде чем он сможет заключить ее в свои объятия.
А может, в глубине пещеры сидит какой-то заблудившийся путник, которого Ариадна соблазняет, как соблазняет женщина любого, даря ему лучезарные многообещающие улыбки. Но на картине Ариадна не улыбается. В ней больше ощущается благородство, желание угодить, чем самоуверенность. Ни на каком другом портрете натурщицы так откровенно не видна ее сущность куртизанки. Неприглядное изображение женщины, жившей в эпоху великих потрясений, написанное другой независимой во взглядах женщиной, уцелевшей в том опасном водовороте благодаря своему таланту и уму. Хотя картина и носила неприкрыто вызывающий характер, она тем не менее имела потрясающий успех. Автор знала вкусы и пристрастия своих покровителей. Она надеялась (правда, сильно рисковала при этом), что молодая натурщица (тщеславная до наивности) и Кавалер (находившийся без ума от нее) сочтут портрет еще одним триумфом ее всепобеждающей красоты и не заметят в нем то, что другие вмиг узреют.
Среди большого числа ролей и образов, которые, по мнению Эммы, она могла бы с блеском сыграть, особое удовольствие ей доставляли образы женщин, чья учесть так не походила на ее собственную счастливую судьбу. Прежде всего Ариадны и Медеи, этих царственных дочерей, пожертвовавших всем – налаженной жизнью, семьей, положением в обществе, – влюбившись в чужестранцев и оказавшись обманутыми. Она не считала их жертвами, а в ее глазах это были личности сильные, страстные, чувственные, способные на безрассудную и беззаветную любовь.
Эмма тщательно шлифовала позы и движения для большей выразительности и драматизма, хотя в том не было особой необходимости, поскольку Кавалер всегда находился рядом, держа в руках тонкую свечку. Кроме того, горели две высокие и толстые свечи, установленные немного сзади по обе стороны высокого ящика. Иногда, если этого требовал замысел, она опиралась на какую-нибудь живописную деталь или прибегала к помощи партнера.
В Неаполе тем временем появилась еще одна беженка-парижанка, графиня де… также спасавшаяся от ужасов террора. Она поселилась вблизи королевского дворца, где всем заправляла родная сестра французской королевы, и стала ожидать скорейшего наказания безбожных революционеров и восстановления божественной, неограниченной власти их высокочтимых королевских величеств Людовика XVI и Марии Антуанетты. Так вот у этой графини была дочь, болезненная умненькая девочка лет семи-восьми, то есть примерно того же возраста, что и дочь Эммы, которая не видела ее уже более четырех лет (по распоряжению Кавалера управляющий теперь его имением в Уэльсе Чарлз выплачивал на содержание девочки небольшую сумму из доходов имения). Дочь графини, как казалось возлюбленной Кавалера, сильно походила на ее собственную (бедное и покинутое дитя!). Вспоминая ребенка, она каждый раз плакала и в конце концов взяла графскую дочь к себе для участия в спектакле. И вот на одном из вечеров она представила перед гостями Кавалера три новые живые картины с участием девочки. Успех превзошел все ожидания, теперь ей стали ненужными даже коротенькие паузы, чтобы после демонстрации очередного образа подготовиться и перейти к следующему.
Первой была сцена похищения сабинянок[42]42
Сабины – италийские племена, обитавшие между реками Тибр, Атернус и Анно. Часть сабинян, обитавшая на холмах Рима, сыграла огромную роль в образовании римской народности.
[Закрыть], в которой молодая римская матрона безуспешно пытается вырваться, со страхом в глазах прижимая к груди ребенка. Эмма подготовила к выступлению робкую доверчивую девочку, показывая ей картинки из книг Кавалера. Но далее шли две сцены, где требовалась вдохновенная импровизация. В одной сцене она бросает ребенка на пол, отталкивает молитвенно протянутые ручонки, делает шаг назад, схватив девочку за волосы и откинув ей голову, и приставляет кинжал к горлу. Раздаются аплодисменты, крики: «Браво, Медея!» В следующей сцене она опускается на колени, обнимает мертвую дочь и, оцепенев от горя, сотрясается в беззвучных рыданиях – «Да здравствует Ниоба!»[43]43
Ниоба (Ниобея) – согласно греческой мифологии, фиванская царица, гордясь своим многочисленным потомством (у нее было четырнадцать детей), похвасталась перед не столь плодовитой богиней Латоной и посмеялась над ней. В отместку сын и дочь богини убили из луков на глазах у Ниобы всех ее детей, а сама она окаменела от горя.
[Закрыть]
«Это больше, чем игра, это сама жизнь», – думал Кавалер, любуясь спектаклем вместе с гостями. И снова, в который уже раз, у него промелькнула мысль о том, с какой необычной силой выражает она свои эмоции и чувства, самой ею никогда не испытываемые. Он жмурился от удовольствия, слыша восторженные выкрики, будто они предназначались ему. Каким изумительным и потрясающим творением казалась она. Было начало эпохи революций и в то же время эпохи суровых испытаний.
Молодая женщина легко поддавалась ему во всем, чего он хотел и ждал от нее. Но и Кавалер становился более податливым в одном деле, о котором раньше не задумывался, а Эмма в силу своего такта и скромности даже не заикалась об этом.
Обладать этим обожающим и обожаемым созданием – о чем еще мог он мечтать на закате своей жизни?
Посмотрим же, как она одерживала победу над любым, кому только хотела вскружить голову. Вот идет небольшой прием, всего пятьдесят приглашенных, в честь герцога Ж… Пассия Кавалера восседает на своем месте во главе длинного стола. На ней греческий хитон, который Кавалер приказал сшить для Эммы, увидев прекрасную Елену на одной из амфор в подобном одеянии. Пока она одевалась, миссис Кэдоган не пускала Кавалера в комнату, а когда Эмма наконец появилась, – он был сражен наповал. Молодая женщина выглядела восхитительно, как всегда, – большего и не скажешь.
Справа от нее сидит румяный, надушенный князь М., пресловутый дамский угодник, а слева граф Н., известный брюзга и зануда. Она использует свой удивительный талант на то, чтобы ублажать обоих, склоняя очаровательное личико то к одному, то к другому. Дабы пресечь поползновения лавеласа, затевает разговор о его красивой жене, причем с таким пылом, остроумием, восторгом, что даже сам он начинает с обожанием думать о той затюканной женщине, на которую давно перестал обращать внимание. И теперь его больше интересуют умные речи соседки за обеденным столом, нежели ее белоснежная пышная грудь.
Не забывает она и зануду, благо, с ним обращаться намного проще: он рассказывает о своем очередном фуроре, произведенном во французском обществе во время недавней поездки в Париж, и о том, как он встречался там с неким адвокатом по имени Дантон и с журналистом Маратом. Хотя здесь, говорит он, и не совсем уместно упоминать об этом, но он находит тамошних революционеров совсем не жестокими монстрами и потенциальными цареубийцами, какими представлял их раньше, а людьми не лишенными здравого смысла, стремящимися лишь к некоторым насущным реформам, осуществимым лишь в рамках конституционной монархии. «Да, – бросала она короткие реплики. – Понимаю. А дальше что? Так как вы сказали? Ах! Какой умный ответ».








