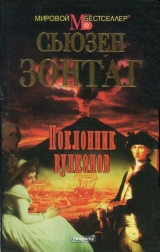
Текст книги "Поклонник вулканов"
Автор книги: Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Август 1793 года. Королева, ее дорогая Шарлотта, не могла отрешиться от страшной картины.
Вот портрет женщины, осужденной на смерть. Ее везут на простой телеге к эшафоту, где установлена эта самая, как ее… машина, новейшее изобретение. Руки несчастной натуго связаны за спиной, волосы коротко острижены, шея беззащитно оголена. Портрет страдалицы. Одета она во все белое: простое рубище, чулки грубой вязки, бесформенная, несуразная шапка кое-как нахлобучена на голову. Лицо измученное, постаревшее и вытянувшееся. Единственное, что напоминает о ее прошлом величии, – строгая, прямая фигура с гордо поднятыми плечами.
Глаза прищурены, она чувствует от яркого света резь, так как много месяцев просидела в темнице. Колеса телеги громыхают. На улицах странная гнетущая тишина. Солнце сияет вовсю. Телега подъезжает к самому помосту, и женщина поднимается по грубо сколоченным ступенькам (их ровно десять) прямо на эшафот. Там уже бормочет молитвы, осеняя распятием, ее личный духовник, лицо у него залито слезами. И еще отчетливо слышен чей-то незнакомый голос: «Боли не будет, Ваше Величество». Видимо, говорит человек в капюшоне. Она отводит глаза от сооружения, напоминающего лестницу-стремянку, метров пять высотой, с похожим на топор широким, заржавевшим от крови лезвием на самом верху, и чувствует, как ее разворачивают за плечи, заставляя опуститься на колени, нет, лечь, распластавшись на широкой доске. Кто-то подтягивает ее немного вперед, так что шея оказывается зажатой сверху и снизу в деревянном ярме. Она чувствует, как ее привязывают ремнями к доске за талию и икры ног. Теперь голова покоится прямо поверх темно-коричневой плетеной корзинки, от которой так и разит свежей кровью. Женщина с натугой поднимает голову и, стараясь держать ее прямо, смотрит за помост на макушки тысяч голов. Затем приподнимает голову еще выше, край доски больно врезается в ключицу, ярмо сильно давит на гортань, отчего ее начинает рвать, а рвота перехватывает дыхание. Потом она видит приближающиеся ноги, обутые в огромные грязные сапоги, и слышит, как гудящая многотысячная толпа зашумела еще громче, и вдруг разом все стихло. Затем раздался какой-то странный скрипучий звук, потом противный лязг; ярко вспыхнуло солнце, отчего она непроизвольно зажмурилась; визг перешел в свист, и все…
Нет!
Королева металась, стоная во сне, затем проснулась, сбросила покрывала и вскочила с постели. Уже несколько недель она спит урывками, в постоянном ожидании вестей из Парижа. Из-за резкого ухудшения обстановки во Франции судьба их теперь целиком зависит от англичан – единственной нации, достаточно сильной и решительно настроенной против революции. В заливе на пять суток встала на якорь британская военно-морская эскадра под командованием Нельсона[45]45
Горацио Нельсон (1758–1805) – виконт, английский флотоводец, вице-адмирал.
[Закрыть], недавно одержавшего крупную победу над французским флотом и заверившего неаполитанского короля в твердой решимости Англии силой защищать его королевство. Однако королева не очень-то верит в успех военного решения проблемы. Хотя предложение выкупить семью французского короля и было отвергнуто, неаполитанская королева все еще продолжает надеяться на лучшее. То, что могут убить какого-то монарха, ей и в голову не приходит. А когда гильотинировали короля Франции, она подумала, что французы этим и удовлетворятся. Что им, собственно, взять с иностранки? Да и как они посмеют казнить ее младшую сестру, женщину?!
Не посмеют, не смогут…
А вот и посмели, и смогли. Долетевшая до Неаполя весть о казни Марии Антуанетты привела весь двор в неописуемый ужас. Королева удалилась в Портичи, в свои излюбленные дворцовые покои. Возникли даже опасения за ее рассудок. Королева не захотела видеть своих детей (хотя только что разрешилась от очередного бремени, родив пятнадцатого ребенка), отказалась мыться и менять нижнее белье. В гневе и отчаянии она выла и кричала, как бешеная, ее хором успокаивали сорок немецких фрейлин и служанок. Даже король был искренне тронут глубоким горем своей жены и принялся было всячески ублажать ее, но безуспешно – каждая его попытка проявить сочувствие заканчивалась тем, что он возбуждался и начинал к ней приставать. Ей же в такие моменты меньше всего хотелось объятий мужа, и ее просто тошнило. Врачи уже намеревались пустить ей кровь. Кавалерша пропадала во дворце сутками, вместе с королевой пронзительно плакала, вопила, а в перерыве мыла ей голову и пела успокаивающие песенки. И они действительно благотворно влияли на королеву. Вообще-то музыка излечивает. Когда Филиппа V, деда нынешнего короля, охватывал очередной приступ глубокой депрессии, облегчение ему приносил лишь волшебный голос великого певца начала XVIII века Карло Брочи, известного под именем Фаринелли. Пока при королевском дворе Бурбонов в Мадриде не появился (и не задержался на целых девять лет, получая огромное жалованье) этот удивительно трудоспособный тенор-кастрат, оцепеневший в депрессии монарх не мог ни есть, ни пить, ни переодеваться, а самое главное – не мог править королевством. И вот в течение девяти лет Фаринелли должен был каждый день ровно в полночь являться в королевскую спальню и петь там до пяти утра одни и те же четыре песни, чередуя их пустяшными разговорами с его величеством. Филипп V в результате смог есть и пить, позволял умывать и брить себя и даже просматривал бумаги, которые ему присылали на подпись его министры.
Итак, супруга Кавалера своим прекрасным голосом, как могла, успокаивала королеву. Изо дня в день приходила она во дворец, уединялась с королевой в затемненной комнате и возвращалась домой к мужу с красными от слез глазами лишь поздно вечером. «В жизни не видала я более жалостливой картины, – уверяла она. – Горе дорогой мне женщины не знает границ».
Из-за неослабного дара сопереживать она ощущала горе ее величества почти столь же глубоко, как и сама королева. Но вот та стала понемногу успокаиваться, рыдания ее стихали, и Кавалерша тоже начала понемногу приходить в себя.
Наконец королева возвратилась в столицу и заняла свое место в Государственном совете.
– Она же была женщина, – говорила королева. – Просто женщина.
(Их величество!)
– Но я жестоко отомщу за нее.
(Каким же это образом маленькое и слабенькое Королевство обеих Сицилий сможет наказать могущественную Францию?)
– Бог накажет Францию, а ему помогут англичане, а мы – англичанам, – подумав, изрекла королева.
(– Вы имеете в виду, что англичане помогут нам? – уточнил премьер-министр.)
– Вот именно, – подтвердила королева. – Они наши друзья.
И они (вернее, он) не замедлили прийти на помощь.
Тихая заводь Кавалера, которая до сих пор, слава Богу, находилась в стороне от бурных событий, теперь оказалась втянутой в круговорот перемен, происходящих во всем мире и вызванных растущей угрозой со стороны Франции.
В городе начали тайно собираться члены клуба, называемого Обществом друзей свободы и равенства, вырабатывались планы преобразования королевства. По этому вопросу Общество сразу же раскололось на две фракции: одна выступала за конституционную монархию, а другая – за республиканское правление. Кто-то поступил слишком опрометчиво, и в результате был раскрыт заговор с целью убить короля (а может, его инспирировали сами власти?), участников арестовали, среди них оказались юристы, профессора, писательская братия, врачи и даже отпрыски некоторых знатных древних родов королевства. Девять человек приговорили к строгому тюремному заключению, троих казнили. В связи с этим королева с горечью хвасталась чрезмерным милосердием неаполитанского правосудия в сравнении с кровавой бойней, учиненной во Франции.
Лавина революции неотвратимо надвигалась все ближе, террор достиг своей кульминационной точки, а в июне 1794 года в ногу с историей зашагала и сама природа – началось неистовое извержение Везувия, подобного которому Кавалеру еще не доводилось наблюдать. Это было самое разрушительное (для него же – самое великолепное) извержение с 1631 года, оно считалось третьим крупнейшим извержением за последние два тысячелетия современной истории вулканов.
К извержению Везувия не следует относиться снисходительно. И право, не стоит применять такие избитые эпитеты, как «великолепное», «интересное» или «красивое» зрелище. Это вовсе не зрелище, а грозное, жуткое явление природы, когда день становится ночью, ночью, в которой текут потоки крови.
Вечером из кратера Везувия с ревом вырвалось огромное пламя. Оно росло вширь и устремлялось ввысь, заполнив все небо, будто стремилось убежать от тонкого оранжевого языка лавы, выливающейся из вулкана и ползущей вниз по склону. Потемневшее сразу море стало красным, а луна – кроваво-оранжевой. Поток лавы не пересыхал всю ночь, наоборот, он ширился. Во время короткого бледного рассвета толстые канаты черного, как смоль, дыма, набухая, взмывали в небо, где образовалась гигантская воронка из дыма и огненных сполохов. Канаты постепенно разбухали до размеров толстой колонны, словно кто-то накручивал множество дымных колец вокруг единого столба. К полудню небо совсем померкло, солнце походило на луну, тускло пробивающуюся сквозь дымные облака. А в заливе в это время по-прежнему неспокойно бурлили кроваво-красные волны.
Все окрест вымерло.
Когда непонятно откуда взявшийся свет омыл потемневшее небо и вдали снова появился привычный пейзаж, Кавалер остолбенел пораженный. Перед ним предстала жуткая картина, не менее тягостная, нежели когда смотришь на поваленные и разрубленные до самой сердцевины ветвистые, покрытые густой листвой деревья. Гора, конечно же, не дерево, упасть она не может даже под натиском самого свирепого урагана, но она может оказаться изуродованной. Подобно встревоженной хозяйке, которая, увидев поваленные сильным ветром вековые деревья, сразу же начинает выискивать причину, для начала рассматривая искореженный ствол – не изгрызли ли его термиты, не прогнило ли оно, поклонник того высокого, неповрежденного вулкана тоже вынужден был задуматься над тем, что стенки его склонов, видимо, истончились, оттого и разрушения неизбежны. Извержение было столь сильным, что срезало вершину вулкана, сделав ее плоской, укоротив гору на одну девятую часть. Увидев, что Везувий принял уродливую форму, Кавалерша даже заплакала от жалости. Сам же Кавалер, словно не замечая ничего необычного в новых очертаниях вулкана, тут же заявил, что ему и было предназначено изменить свою форму. Кроме того, теперь, вероятно, появятся новые, более удобные возможности для быстрого подъема на гору, что он и сделает, как только извержение утихомирится.
– Толо, ты здесь?
– Здесь, милорд.
– Так хочется посмотреть.
– Да, милорд.
И вот в конце июня шестидесятичетырехлетний Кавалер снова полез на вулкан в сопровождении проводника Бартоломмео Пумо (у него к тому времени отросли первые небольшие усики) и взобрался на самую вершину изменившейся горы, на которую он регулярно восходил на протяжении вот уже тридцати лет.
Конус на вершине исчез совсем. На его месте теперь зиял огромный зазубренный кратер.
– Я хотел бы подойти поближе.
– Да, милорд.
Но земля все еще не остыла, и Кавалер ощущал ее жар даже сквозь толстые подошвы башмаков, а от ядовитых выделений сернистого газа и едких паров начал задыхаться.
– Толо, ты здесь?
– Да, милорд.
– Мы отходим?
– Да, милорд.
Ему следовало бы поостеречься, ведь гора могла взорваться в любую минуту, но он ничуть не боялся. Разрушительная миссия вулкана вызвала у Кавалера чувство удовлетворения, оно буквально распирало его, так что было трудно примириться с мыслью об опасности.
И разве что-то могло быть более ценным для этого великого коллекционера редкостей, чем главный источник разрушений, то есть сам вулкан? У всех коллекционеров восприятие как бы раздваивается. Никто не может сравниться с ними по врожденной тяге к сохранению и сбережению коллекционных вещей. Но вместе с тем любой собиратель раритетов и антиквариата является по своей натуре и соучастником разрушения идеала. Поскольку уже сама чрезмерная страсть к собирательству вынуждает его отрицать ценность своей коллекции, порождает бредовую мысль о самоликвидации. Измотавшись в погоне за идеальным (в то время как всё вокруг – это чисто материальный мир) и оставаясь в душе ценителем прекрасных вещей и редкостных находок славного прошлого, коллекционер долго может быть снедаем очистительным огнем.
Вот почему каждый собиратель, видимо, мечтает о всесожжении, которое освободит его от коллекции, превратив все и вся в пепел или похоронив под толстым слоем лавы. Разрушение – это самая сильная форма лишения чего-то. Коллекционер может настолько глубоко разочароваться в жизни, что захочет даже уничтожить самого себя. Как в том романе о спятившем затворнике-библиофиле, собравшем немыслимую по количеству книг библиотеку – двадцать пять тысяч нужных ему, незаменимых томов (мечта, а не библиотека) – и кинувшемся в погребальный костер, который он сам и устроил из самых ценных и любимых книг[46]46
Имеется в виду роман австрийского писателя Элиаса Канетти «Ослепление» (1936 г.).
[Закрыть]. Но если такой одержимый коллекционер все же не сгорит в огне или не погасит вспышку гнева, он, скорее всего, снова примется собирать новую коллекцию.
4
Его чаще всего описывают как человека небольшого роста. Да, он был значительно ниже ростом, нежели Кавалер и его молодая жена, но стройный, с привлекательным загорелым лицом. Густые брови, тяжелые веки, резко очерченный нос, полные чувственные губы, скрывавшие несколько недостающих зубов. Впервые они его увидели, когда он еще не побывал в мало-мальски значимых сражениях. Но уже тогда производил впечатление целеустремленного человека, стремящегося достичь избранной цели. «Запомните его, – сказал Кавалер (он сходу определял, есть ли у кого из молодежи многообещающие задатки), – он станет самым храбрым героем Англии за всю ее историю».
В том, что Кавалер мог угадать предназначение человека, нет ничего удивительного. Звезда – она всегда звезда, даже когда еще и подходящий экипаж не подобрали и когда все роли в спектакле уже забраны и ей достается второстепенная ролишка. А тридцатипятилетний капитан был, вне всякого сомнения, звездой первой величины, как, впрочем, и супруга Кавалера.
Она же, несмотря на свой редкий талант быстро распознавать людей, не заметила, что перед ней – восходящая звезда. Да, его приезд взбудоражил ее. Волновалась она и когда стояла вместе с мужем у окна комнаты, превращенной в обсерваторию, глядя, как по заливу медленно плывет, гордо раздув паруса, двухпалубный, вооруженный шестьюдесятью четырьмя пушками линейный корабль «Агамемнон» под его командованием. Коварная Франция уже семь месяцев как объявила войну Англии, и воды Средиземного моря бороздила английская эскадра. Прошлое краткое пребывание было для молодого капитана весьма памятным главным образом из-за роли Кавалерши, которую она сыграла в те дни.
Он доставил тогда Кавалеру срочные депеши из министерства иностранных дел от лорда Хука. Дело в том, что для усиления коалиционного гарнизона, собранного на защиту Тулона, где власть захватили роялисты, от наступавших республиканских войск понадобились подкрепления в лице неаполитанских солдат. И именно благодаря Эмме он смог получить шеститысячное войско, а Кавалер так и не добился от перепуганного короля и его советников никакого ответа. Она же заполучила войско проторенным путем, пройдя через черный ход во дворец и подав прошение прямо в руки обладательницы самого весомого в Государственном совете голоса, которая лежала тогда в уединении, собираясь разродиться шестнадцатым принцем или принцессой, и заручилась ее поддержкой.
Английского офицера пригласили отобедать в королевский дворец и усадили на почетное место справа от короля, а рядом с ним села жена Кавалера и переводила его слова, когда он пытался предупредить его величество относительно исходящей от Франции угрозы. Король же бессвязно рассказывал длинную и нудную историю про то, как он убил на охоте гигантского вепря, а у того оказалось три яйца.
Она была удовлетворена тем, что произвела на него благоприятное впечатление. Через пять дней он отплыл. Потом приезжали другие знаменитые и важные визитеры, и она мало-помалу стала забывать о капитане.
Итак, он уплыл. Его сделала героем сама история. Это было время целеустремленных людей хлипкого телосложения, с абсурдными амбициями, неприхотливых в быту – только бы поспать часика четыре в сутки. Дикий шторм, бушующее море, изматывающая качка – ничто не могло остановить его в погоне за врагом. Он уже успел одержать немало громких побед, правда, война покалечила его. Своим островом, королевством, средством передвижения, пристанищем он считал семидесятичетырехпушечный линейный корабль «Кэптен», а потом такой же корабль «Тесей». Минуло пять лет. За это время он стал героем. Героем для правителей Неаполя, живших в страхе перед маленького роста целеустремленным человеком, к которому перешла власть от разгромленной и раздавленной революции, а он вдохнул ее неистовую энергию в непобедимую с виду кампанию по завоеванию французами всей Европы и повсеместного свержения монархов с дедовских тронов.
«Он спасет нас, только он может спасти нас», – в отчаянии говорила королева. Король разделил ее мнение. Посланник Британии, представляющий интересы английской державы, не мог не согласиться с этим. Последние два года Кавалер вел оживленную переписку с молодым капитаном, а теперь уже адмиралом, в которой рассказывал, сколько сил положил на то, чтобы перетянуть трусливых неаполитанцев на сторону англичан. Писала ему и супруга посланника. Она всегда восторгалась кем-нибудь, а тут уж трудно было найти более подходящий объект для восхищения.
К тому же она нуждалась именно в нем и хотела видеть его как можно чаще.
Плавая от берега к берегу по всему Средиземному морю, где велись военные действия, он регулярно сообщал им о своих победах и о новых боевых ранениях.
В ту пору все представлялось простым, материальным, болезненным, возвышенным. Мир – это суша и вода, огонь и воздух. Он за свою жизнь плавал на многих боевых кораблях, каждый имел звучное название, свою историю и каждый был закален в разных баталиях. А теперь командовал линейным кораблем «Вэнгард», вооруженным семидесятью четырьмя пушками с шестью сотнями матросов и офицеров на борту. В своей просторной, обставленной роскошной мебелью адмиральской каюте он старался бывать как можно реже, днюя и ночуя на палубе, дабы иметь возможность наблюдать за восходом и закатом солнца, созерцать необозримые морские просторы.
На воде вы всегда в движении, даже когда стоите на месте. Высоко над вами парят птицы, подобно маленьким бумажным змеям, под напором ветра паруса раздуваются, покачиваются, скручиваются и выгибаются, подгоняя корабль навстречу шторму; свежий ветер всегда предвещает непогоду. Смена дня и ночи, смена вахты – он перевидел их немало за свою службу. А когда адмирал уставал особенно сильно, то выходил на шканцы[47]47
Средняя часть верхней палубы военного корабля, где совершаются все официальные церемонии – смотры, парады и т. п.
[Закрыть] и стоял там не шевелясь на виду у всей команды. Он считал, что одно его появление на шканцах имеет некий магический смысл – моряки сразу же приободрялись, и не только в разгар боя, а кроме того, он полагал, что враги, увидев его, начинают трусить. И он не ошибался.
«Отомстил!» – вскричала королева, когда в Неаполь пришло известие о том, что эскадра молодого адмирала наголову разбила французский флот у мыса Абукир, в дельте Нила. «Hype hype hype ma chere Miledy Ye suis folle de joye»[48]48
«Гип, гип, ура, моя дорогая миледи. Я схожу с ума от радости» (франц.). (В оригинале текст дан с грамматическими ошибками.)
[Закрыть], – написала она своей подруге, супруге английского посланника, с которой после этого известия даже случился обморок. «Я упала на бок и ударилась, но это ничево, – сообщала Кавалерша герою Абукира. – Я чуствую, как славна пагибнуть в таком деле. Нет, я не хачу умирать, пака не увижу и не абниму Нильского героя-победителя». (Она так и не научилась грамотному письму.)
И герой ворвался в их жизнь как вихрь.
22 сентября 1798 года. Жаркий полдень. Небольшая флотилия нарядных и изукрашенных суденышек, которую возглавляла королевская барка, управляемая адмиралом неаполитанского флота Карачиоло, с королем, королевой и некоторыми их детьми, сидящими на палубе под украшенным блестящими гирляндами тентом, подплывала к английскому линейному кораблю «Вэнгард». Следом шла барка с музыкантами из королевской капеллы. На другой барке под британским флагом находились Кавалер и его леди, одетая в пышный туалет в цвет флага Бурбонов: голубое платье и золотистые кружево и оборки, голубой платок с вышитыми золотыми якорями и золотые, тоже в виде якорей, серьги в ушах. Королевский оркестр заиграл без единой фальшивой ноты гимн «Правь, Британия», а Кавалер улыбнулся про себя, припомнив слова гимна:
«Тебе покорятся морские просторы
И все берега вокруг них…»
Почти следом, впритык друг к другу, плыли, покачиваясь, примерно сотен пять фелюг, баркасов, яхт, рыбацких лодок, битком набитых разношерстной публикой, кричащей приветствия, размахивающей руками и флажками. Когда их величества и Кавалер с женой стали подниматься на борт «Вэнгарда», встречающие закричали «ура!» королю, а герой снял зеленую повязку, закрывавшую изуродованный глаз, и положил ее в карман.
«Наш освободитель», – похвалил его король. «Спаситель и охранитель», – добавила королева. «Ах!» – только и воскликнула Кавалерша, увидев его, изможденного, подкашливающего, с напудренными, давно не стриженными волосами. Пустой правый рукав его форменного мундира был приколот к лацкану, поверх обезображенной глазницы розовел свежий шрам – след шрапнели, нашедшей его в битве при Абукире. «Ах!» – и женщина упала прямо на его руки.
«Она упала в мои объятия, это была очень трогательная сцена», – писал адмирал в длинном письме своей жене, рассказывая о том, какой пышный и великолепный был устроен прием в его честь: залив буквально кишел судами и лодками, пассажиры приветствовали его, развевались флаги, гремели оружейные салюты, со стен замка Сант-Эльмо дали орудийный залп, а когда адмирал ступил на берег, огромные толпы людей с разноцветными бархатными лентами, флажками, гирляндами и цветами кинулись навстречу и следовали за ним по улицам до самого королевского дворца. Солнечный свет жег ему раненый глаз, когда он снимал повязку, а Неаполь в тот день был щедро залит солнцем. Но вот наступил благословенный вечер, и начались великолепные фейерверки, а потом в небе появился английский флаг и высвеченные инициалы героя, на темных сонных площадях зажглись костры, и жители до самого утра кружились в танцах. Приветствия от низших слоев общества были особенно волнующими. Во дворце Кавалера загорелись три тысячи фонарей и был устроен грандиозный банкет, на нем присутствовал почтенный адмирал Карачиоло и даже досидел до самого конца.
Банкет очень понравился герою. Правда, он чувствовал, как ноет правая рука, вернее, призрак руки, отрезанной почти до самого плеча, к тому же, здорово простыв, мучился кашлем. Но он не расслаблялся, не ныл и не жаловался. Несмотря на небольшой рост и худощавое телосложение, он отличался крепким здоровьем и выносливостью, ибо умел переносить, казалось бы, непереносимые тяготы. Болезнь накатывалась на него волнами. Нужно выдержать, и все пройдет. Прошла же адская боль при ампутации руки, проводившейся даже без глотка рома, и эти страдания потом, когда из-за глупости хирурга культя гноилась целых три месяца, ведь тоже прошли.
Словно на волнах боли покачивалась лодка – маленькая, увозящая героя из боя, в котором ему не довелось участвовать. Из этой лодки он вышел героем, правой рукой вынимая из ножен саблю, чтобы отразить ночную атаку десанта на испанскую крепость; в ту же лодку погрузили его бесчувственное тело, когда он упал навзничь с раздробленным шрапнелью локтем, а его храбрецы матросы вернулись обратно в залив и поплыли вместе с ним, надеясь добраться до флагманского корабля, прежде чем их адмирал умрет от потери крови. Когда они проплывали мимо находящегося под его командованием небольшого судна, тонувшего от пробоины ниже ватерлинии, он очнулся. Ухватился за жгут около плеча и приказал остановить и подобрать уцелевших моряков, что стоило ему еще нескольких приливов боли и потери целого часа, прежде чем они добрались в наступающей темноте до покачивающегося на якоре «Тесея». Разозлившись на тех, кто помогал ему, он закричал: «Оставьте меня! У меня еще есть ноги и одна рука!» – и, обмотав вокруг левой руки веревку, сам, без посторонней помощи, взобрался на борт, вызвал хирурга и приказал отрезать правую руку, да повыше, там, где лежал жгут, а через полчаса уже расхаживал по палубе, отдавая распоряжения командиру флагманского корабля своим суровым спокойным голосом.
И вот теперь он однорукий герой-левша.
Но разве может сравниться его храбрость с подвигом командира французского восьмидесятипушечника «Тоннан», который в сражении при Абукире в прошлом месяце потерял обе руки и ногу от английского крутящегося ядра. Этот офицер по имени Дьюпети Туарс приказал не относить его вниз в трюм, а взять из вельбота бочку с отрубями и посадить его в нее по самые плечи, и так продолжал отдавать команды пушкарям еще целых два часа, пока не испустил дух от потери крови. (Из этой бочки с пропитанными кровью отрубями торчала лишь его голова.) А перед смертью он обратился к экипажу, умоляя лучше потопить корабль, но в плен не сдаваться. «Какой же он доблестный воин!» – воскликнул герой, который под доблестью понимал не только отчаянную смелость, но и мужество терпеливо сносить любую боль.
Но он понимал также, что такое трусость: члены экипажа «Тоннана», видя, что голова их командира замолкла, вывели корабль из боя и спустя два дня сдались на милость англичан-победителей. А разве у героя нет цели напугать врагов и заставить их дрожать от страха?
Герой терпелив и неприхотлив. Но он также не скрывает своего стремления к славе. Он был сыном простого сельского пастора, мать у него умерла, когда ему исполнилось всего девять лет. В двенадцать уже ушел юнгой в море; образцы благородного героизма он черпал из книг; ему нравилось цитировать Шекспира, себя же видел в образе Сорвиголовы, но без жалкого конца этого героя, а храбрым, пылким, отзывчивым… и, следовательно, страстно жаждущим почестей и уважения. Он не считал себя легковерным и тщеславным, уважал доблесть, стойкость, великодушие, откровенность. Он хотел самоутвердиться, испытать свои силы и не позволять опускаться. Затем задумал стать героем, заслужить похвалу, награды, войти в историю. Он мечтал, чтобы рисовали для потомков его портреты, отливали бюсты, высекали статуи и устанавливали их на пьедесталах или даже на самом верху высокой колонны посреди оживленной городской площади.
Он хотел немного подрасти, и ему нравилось носить военно-морскую форму. В Англии у него осталась жена. Он женился на вдове по любви и считал себя преданным ей до конца. Последний раз он виделся с ней год назад, когда приезжал домой поправить здоровье после кое-как проведенной ампутации руки. Он восхищался гордым характером Фанни, ее умением изящно одеваться и считал, что, выйдя за него замуж, она тем самым оказала ему великую честь. Своего пасынка Джозию, единственного ребенка супруги от первого брака, адмирал взял с собой в море и каждую неделю извещал ее об успехах и поступках мальчика. Иметь собственных детей он уже не рассчитывал. Продолжение своего рода виделось ему в славе.
Уже через два дня после ампутации руки он принялся учиться быстро и разборчиво писать левой рукой, и хотя ему было трудно следить за каракулями, которые выходили из-под пера, все же возникало чувство, будто письма и военные донесения пишет кто-то другой.
Он не желал признавать себя инвалидом или даже человеком со слабым здоровьем и никогда не ощущал себя ущербным, – ни тогда, когда плавал в море, ни тогда, когда его оперировали без обезболивания. И не чувствовал себя больным, вероятно, потому, что еще никто не утешал его и не обращался с ним, как со страдающим человеком. Будучи мальчиком, он во всеуслышание объявил, дескать, не желает, чтобы с ним вели себя как с ребенком, что он достаточно силен и никому не стоит проявлять о нем заботу; и с тех пор его отец, братья, сестры и жена обращались с ним так, как он велел. Люди хотели верить в него – звезда должна обладать этим качеством.
Он пытался отказаться от гостеприимства Кавалера и его жены и думал поселиться в гостинице, но те и слушать не желали. Его уложили в постель в лучших апартаментах на верхнем этаже резиденции британского посланника. Он умолял супругу Кавалера не суетиться и не беспокоиться насчет его здоровья. Все, что ему нужно, это немного побыть одному, и он быстро встанет на ноги.
Дом Кавалера был довольно просторным, как это принято в Италии, его обслуживали гораздо больше слуг, чем в английских особняках таких же размеров, поскольку считалось, что это отсталая страна. Но Кавалерша все равно потребовала дополнительной прислуги для ухода за больным героем и даже привлекла к этому свою мать.
Только его уложили в постель, он сразу же потерял сознание, а пришел в себя от такого знакомого в детстве простецкого деревенского говора сиделки миссис Кэдоган: «А таперича не боись, я те больната не сделаю, позволька уже приподнять немного плечико-то». Ему вспомнилось, как его жена передвигалась и морщилась всякий раз, когда перевязывала ему руку, как ее шокировал вид кровоточащего обрубка. Тем временем супруга Кавалера широко распахнула окно и стала рассказывать ему про изумительный вид на залив и на остров Капри и про курящуюся вдалеке гору, которая, как адмирал знал, представляла для Кавалера особый интерес. Сообщила она и дворцовые сплетни. Затем спела. И коснулась его плеча. После этого остригла ему ногти на уцелевшей руке и протерла рану на лбу свежим молоком. Когда женщина наклонялась, чтобы промыть и подровнять его волосы, он уловил запах, исходящий от ее подмышек, похожий на запах апельсинов или, скорее, лилий. Он прикрыл глаза и дышал через нос.
По всему было видно, что она восхищалась им, и ему это нравилось.
Герой, как и все, знал ее историю: падшая женщина, взятая Кавалером под свое покровительство, а потом ставшая его законной безупречной супругой. Но она не утратила душевной теплоты и непосредственности, чего не сыскать у дам в придворных кругах. А еще она нет-нет да и задаст такой вопрос, на который ни одна благовоспитанная леди не осмелилась бы. Однажды, например, Кавалерша спросила его, что он видит во сне. Вопрос, конечно, был довольно нахальный, но он ему понравился. Однако тут вышло некоторое затруднение – оказалось, что он практически не видит снов, а если что-то и пригрезится, то отчетливо ничего не помнит. Лишь какие-то отдельные фрагменты, касающиеся сражений и боевые выкрики, кровь и чувство страха. Вот в последнее время ему снился один и тот же сон: что он на корабле в самой гуще сражения, все чувства притуплены; в правой руке зажимает подзорную трубу, а левой подзывает капитана Харди. (Да, во сне у него было две руки, но оба ли глаза целы – не помнил.) Все так и происходило на самом деле и в дальнейшем будет запечатлено на картине художника, за исключением того, что в жизни детали снов никогда не повторяются. Адмирал понимал, что все это сон, и заставлял себя проснуться. Однако подробно пересказывать свое сновидение просто не мог, чтобы это не прозвучало как просьба о сочувствии.








