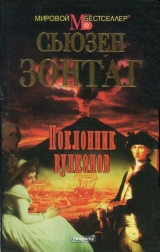
Текст книги "Поклонник вулканов"
Автор книги: Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
Он спустился в неглубокий ров, опоясывающий конус, стал там на колени и ладонями оперся о пыльные камни, потом лег на живот, вытянулся и приложил ухо к земле. Все тихо, а тишина говорит о смерти. О ней же говорил и густой, желтоватый, спертый воздух и острый сернистый запах, идущий из трещин и щелей, и нагромождения камней и тефра[29]29
Тефра (от греч. tephra – пепел, зола), общее название образующихся при извержении вулканических продуктов.
[Закрыть], и высохшая трава, и гряда облаков, повисших в сине-сером небе, и спокойная гладь моря. Все вокруг говорило о смерти.
Ну а если посмотреть окрест не таким мрачным взором? Да, гора это – символ всеобщей смерти: ее грозная лавина, всепожирающий огонь («терминатор Везувий», как сказал бы великий поэт), но она же и символ жизни, человеческой живучести. В этом смысле природа в своем развитии неуправляема; убивая, лишая жизни, она несет с собой культуру, руками человека создавая удивительные творения. В природных катаклизмах есть нечто такое, что достойно восхищения.
Под землей находятся залежи шлаков и глыбы великолепных минералов, оплавленные и спекшиеся камни и темное, еще не прозрачное вулканическое стекло; под ним – более тяжелые пласты, составляющие ядро расплавленной магмы. Каждый раз, когда вулкан извергается, он деформирует эти пласты, накладывает новые слои и утолщает их. А у подножия вулкана, пониже каменных нагромождений, вывороченных из недр, и рядов желтых кустарников расположены деревни, отлого спускающиеся к кромке моря. В этих деревнях еще более весомые пласты человеческой деятельности: орудия труда, предметы культуры, искусства. Помпеи и Геркуланум были погребены под слоем пепла, а теперь – вот чудо времени – раскопаны. Но вдоль побережья тянется Тирренское море, и под его водами – царство атлантов. Всегда есть что-то, о чем мы пока не знаем, но и это со временем тоже будет обнаружено.
Земля скрывает несметные сокровища для коллекционеров.
В земле живут умершие, сокрытые вулканическими пластами.
С землей церемониться нечего, Кавалер докопался до слоев, где залегают минералы. Он сыт по горло двором с его грязными интригами, развеселым королем, великолепными сокровищами, доставшимися ему. А вдруг он возьмет да и распрощается со всем этим навсегда, навеки? Да, в настоящий момент пусть все пропадает пропадом.
Если бы Кавалер увидел подкупающую красу и благодать, которые нередко обнаруживаются на самых вершинах гор, ему бы это понравилось. Но пока все его помыслы устремлены на то, чтобы взобраться еще выше. Он вообразил, будто поднимается ввысь на этом новомодном французском чуде – воздушном шаре-монгольфьере вместе с группой спутников, нет, только с молодым слугой Пумо, и оттуда, с высоты, глядит вниз на Везувий, и чем выше он взлетает, тем меньше кажется вулкан. Его охватывает неописуемое блаженство оттого, что он поднимается без особых усилий, все выше и выше, прямо в безоблачную небесную высь.
А еще он любил вызывать в памяти картины прошлого, примерно так же, как Уильям рисовал их Кэтрин. Но почему-то ему все время «вспоминались» гигантские катастрофы. Скажем, панорамная картина крупнейшего извержения в 79 году нашей эры. Наводящий животный страх грохот, грибовидное облако, померкшее солнце, разверзшаяся гора, изрыгающая пламя и ядовитые пары. Крысиного цвета пепел и сползающая вниз коричневая масса лавы. И ужас, обуявший обитателей Помпеев и Геркуланума.
Как и в более близкой нам истории, один из двух разрушенных во время ужасной катастрофы городов повсеместно приобрел печальную известность, оставив далеко позади другой пострадавший город. (Как зло пошутил один остряк-самоучка, у Нагасаки оказался незадачливый рекламный агент.) Ну ладно, Бог с ним, пусть он выберет Помпеи, посмотрит, как льет с неба смертоносный дождь, может, ему не захотелось бы тогда удирать раньше времени, потому что уже в те далекие времена он был бесстрашным коллекционером. Да как же уходить-то отсюда, не подобрав вон ту вещь? Так, видимо, появился он на этой улице, опустился на колени и исчез под толстым слоем пепла. Это, наверное, тот самый коллекционер, который вспомнил строки из «Энеиды» и начертал их на стене своего дома: «Все погрузилось в тишину…» (эти слова потом обнаружат при раскопках города). Жадно захватывая воздух ртом, он не успел дописать и погиб.
Как во сне (словно перед смертью), он быстро выбрался из обреченного города, всячески стараясь, чтобы его хоть кто-нибудь заметил. Почему бы ему не стать самым знаменитым свидетелем (и жертвой) извержения? Может, вообразить себя подлинным Плинием Старшим, ощутить резкие порывы, находясь на самом носу флагманского корабля, огибающего мыс Мизенум, или представить, что он стоит вместе с Плинием до самого конца, когда уже нечем дышать, словно при приступе астмы (о Кэтрин!), и их окутывают смертоносные ядовитые пары… Но не в пример своему молодому племяннику, который всегда кем-то себя воображал (и в сорокалетнем возрасте Уильям будет гордиться, что остается вечно молодым), Кавалеру трудно представить себя другим лицом, при любых обстоятельствах он остается самим собой.
В ту ночь он уснул на склоне вулкана.
Если Кавалер фантазировал, то только о будущем, мысленно перескакивая через годы, которые ему предстояло прожить (он знал, что ничего достойного или интересного уже не предвидится), о будущем после своей смерти. Думая о нем, Кавалер пристально всматривался в эту нереальную жизнь после смерти. Даже вулкан может умереть. И залив тоже, хотя Кавалер не мог себе представить такое. Не в силах был даже вообразить, что залив окажется настолько загрязненным, что жизнь в нем умрет. Он видел – природа может создавать угрозу, но чтобы ей самой что-то угрожало – никак не допускал. Он не представлял себе, сколько смертей несет с собой будущее; что произойдет с приятным, ласкающих! ветерком, с голубовато-зелеными водами, в которых весело резвятся пловцы и ныряют за морской живностью мальчишки, нанятые Кавалером. В наши дни, если дети нырнут на дно, у них кожа слезет от ядохимикатов.
Во времена Кавалера у его современников было более высокое представление о природных катаклизмах. Они думали, что мир не такой уж гладкий, как яйцо. Море отступает от изломанной береговой линии, иссушенная зноем земля дробится, превращается в комки и пыль; есть еще груды камней – это горы. Мир, в котором мы живем, – шероховатый, изрытый, покрытый пятнами. Да, по сравнению с Эдемом или первобытной девственной землей он, конечно же, здорово разрушен. Знали бы жившие в те времена люди, какая ужасная гибель грозит миру в наши дни.
Он ждал, когда задует свежий очистительный ветер. Все вокруг оцепенело, словно застывшая лава.
Он заглянул в отверстие вулкана, и как любое другое отверстие, оно призывно поманило: прыгай! Кавалер вспомнил, как после смерти отца Кэтрин он брал жену с собой на Этну, когда происходило полное извержение вулкана. Они тогда остановились у подножия одного из склонов в хижине отшельника (всегда в подобном случае находится подходящий отшельник), и тот рассказал им легенду об одном древнем философе, который прыгнул в клокочущий кратер вулкана, чтобы удостовериться в своем бессмертии. Предполагают, что он все-таки оказался смертным.
Кавалер с опасением ждал начала катастрофы. А это свидетельствовало о том, что меланхолия потихоньку проходит, так как уже возникают мысли о беспомощности других, и он начинает проявлять беспокойство по поводу надвигающейся всеобщей гибели.
Все путешественники, как и Кавалер, с нетерпением прислушивались, не доносится ли из-под земли зловещий гул. Все хотели, чтобы вулкан взорвался или что-нибудь отмочил. Они жаждали своей доли зрелища апокалипсиса. Сидеть в Неаполе в ожидании катаклизма, когда вулкан кажется дремлющим, – занятие скучное и нудное, и вскоре приходит разочарование.
Это было такое время, когда, прежде чем что-либо сделать, в первую очередь учитывали этические соображения. Это было время, когда зарождалась, как мы сейчас говорим, современная эпоха. Теперь же, если простым нажатием кнопки без всяких последствий для себя можно умертвить, например, китайца на другом конце света (удобнее, конечно, выбрать того, кто живет как можно дальше), разве удержишься от такого соблазна?
Люди способны совершать самые тяжкие и пагубные поступки, если только от этого им становится легче.
Как же тонок барьерчик между волей к жизни и желанием смерти! Как же хрупка мембрана между активностью и апатией! А насколько бы возросло число людей, готовых совершить самоубийство, когда бы это можно было сделать легко и безболезненно. Ну а что тут сказать об отверстии… о бездонной дыре, если взять и пробить дыру в каком-то людном месте для всех желающих сигануть в нее? Скажем, где-нибудь на Манхэттене, на углу Семнадцатой улицы и Пятой авеню? Там, где в маленьком музейчике выставлена коллекция Фрика. (Или же дать адрес, где живут еще более обездоленные люди?) А перед дырой повесить вывеску: «Открыто с 16.00 до 20.00. Понедельник. Среда. Пятница. Самоубийство разрешается». И больше ничего не надо. Только одну эту вывеску.
Почему же те, кто раньше даже и не помышлял о самоубийстве, начнут прыгать в провал? А потому что любая бездна – это преисподняя, если ее надлежащим образом обозначить. Возвращаясь с работы домой, купив по пути пачку сигарет, завернув в химчистку и забрав оттуда одежду, погонявшись по тротуару за красным шелковым шарфиком, который сорвал с ваших плеч шаловливый ветерок, вы поневоле вспомните ту вывеску, посмотрите на нее, потупив взор, затем быстро наберете в легкие воздуха, медленно выдохнете и скажете – как Эмпедокл[30]30
Эмпедокл (ок. 490–430 до н. э.) – древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель.
[Закрыть] на Этне, – а почему бы и не попробовать.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Ничто невозможно сравнить с приподнятым настроением, когда на смену длительной меланхолии приходит состояние радости. Но, чтобы оно пришло, надо сначала занять чем-то тоскующее сердце. «Впустите меня», – сперва робко и тихо, а потом все настоятельнее и громче требует радость. Сердцу нужно приказывать и заставлять повиноваться.
Это произошло четыре года спустя. Прежде всего Кавалеру требовалось свыкнуться со смертью Кэтрин и полностью перестроиться. Он запросился в очередной отпуск, чтобы отвести бренные останки супруги в Уэльс и захоронить там. В Неаполе не оказалось никого, кто мог бы утешить его. Смерть жены подвела Кавалера к самому краю опасного состояния души, когда он уже ничему не радовался и думал только о себе. Оставалось прибегнуть к испытанному средству – усиленно заняться научными изысканиями. Исполнив все неотложные дипломатические дела и подавив приступ меланхолии, Кавалер выехал как-то в Калабрию, где велись археологические раскопки древних поселений (Кэтрин уже не ждала его дома). Там его пригласили в деревню на праздник дня святых Косьмы и Дамиана, завершившийся церковной службой перед длинноногой статуей, называемой в здешних местах Большой Конец, ее особо почитали бесплодные женщины.
И больше ничего не было!
Весь запыленный с ног до головы, но повеселевший, Кавалер вернулся в Неаполь. В соответствующее научное общество, занимающееся изучением античного мира (Кэтрин умерла), Кавалер написал письмо, в котором сообщал о недурственном открытии следов древнего фаллического культа, до сих пор существующего под покровительством христианства, что является еще одним свидетельством сходства католицизма с языческими верованиями. Он напоминал также о широком распространении изображений женских и мужских органов деторождения, найденных во время раскопок, и высказал свои соображения касательно того, что в основе всех религий таится поклонение четырем жизненным силам, и сексуальной потенции в том числе, а сам четырехугольный крест, по-видимому, не что иное, как стилизованный фаллос. (Мертва! С уходом Кэтрин у него не стало больше причин удерживаться от скептицизма и богохульства.)
Все изменилось, и в то же время все осталось неизменным. Он никогда никому не говорил, что остро нуждается в общении. Тем не менее, когда его друг и протеже Томас Джонс, собираясь навсегда возвратиться в Англию, отказался возобновить аренду дома, Кавалер не преминул оказать ему гостеприимство и пригласил пожить несколько месяцев в своем дворце. Он нередко заходил по утрам в комнату, приспособленную под студию художника, и молча наблюдал, как Джонс вырисовывал на маленьких полотнах, установленных на роскошном мольберте из оливкового дерева, всякую, на его взгляд, ерунду: скажем, угол крыши или ряд верхних окон соседнего дома.
Чудно, конечно, но у Джонса на то были свои причины. Все согласуется с настроением Кавалера.
– А что вы там рисуете? – вежливо спросил как-то Кавалер. – Я что-то не понимаю замысла.
– Да это так просто, издержки простоя, когда, кажется, что-то можно легко изобразить, но не имеет смысла.
Наконец в июне из министерства иностранных дел пришло разрешение отбыть в третий по счету отпуск, и Кавалер решил отправиться в Англию морем. В трюм парусника погрузили гроб с телом Кэтрин, а сам он устроился в каюте вместе с римской вазой с камеей, изготовленной, как предполагали, в начале правления императора Августа (конец I века до нашей эры).
Эту редчайшую вазу, поступившую в продажу впервые за последние десятилетия, он приобрел в Риме и теперь вез в Англию, чтобы выставить на аукционе. Это была самая ценная антикварная вещь, когда-либо проходившая через его руки. Как только Кавалер впервые увидел ее, его охватил неуемный зуд. Вазу нашли два столетия назад при раскопках кургана с захоронением императора у южной границы Древнего Рима, и с тех пор она считалась самым прекрасным сосудом, украшенным камеей, из всех найденных. Ничто не могло быть восхитительнее образа Фетиды[31]31
Фетида – в греческой мифологии морская богиня, одна из морских нимф-нереид.
[Закрыть], изображенной на фризе[32]32
Фриз – декоративная композиция на предмете в виде горизонтальной полосы.
[Закрыть], где она, утомленная, едет на свадебной колеснице, откинувшись назад, полулежа на подушках. Кавалер то и дело вспоминал про вазу, не уставая ею любоваться. Он поднимал ее вверх, чтобы получше рассмотреть настоящий цвет земли, глубокий темно-синий, почти не отличимый от черного. Но если поднести вазу к свету, синий цвет переливается и окрашивает кончики пальцев, когда они находятся рядом с выгравированными на кремово-белом стекле фигурками.
Увы. Это был не тот предмет, в который он мог позволить себе влюбиться. Хотя Кэтрин по завещанию оставила ему все свое состояние, да еще и не обремененное долгами, Кавалер все же продолжал нуждаться в деньгах. Ваза была слишком большой роскошью для него, чтобы держать ее в коллекции. Приобретая эту ценную вещь за довольно умеренную цену, всего за тысячу фунтов стерлингов, Кавалер возлагал большие надежды на солидную прибыль.
Благополучно доставив вазу в Лондон, приняв глубокие соболезнования от друзей и родственников, Кавалер привез гроб в имение в Уэльсе, которое теперь перешло в его полную собственность и принесло родовой титул. Там он вместе с Чарлзом зашел в церковь, чтобы посмотреть, как будут опускать гроб в узкий склеп под полом, затем отослал племянника в Лондон, а сам остался в доме затворником на несколько недель.
Была середина лета. Дожди щедро оросили земли имения, и все окрест зазеленело и расцвело пышным цветом. Кавалер начал совершать ежедневные пешие прогулки по имению, иногда даже уходил далеко от дома; в карманы он клал пригоршню слив, а когда возникала нужда передохнуть, предпочитал посидеть на берегу, бесцельно глядя на море. С трауром обычно наступает своеобразная потребность в неторопливых размышлениях и раздумьях. Траурные мысли, сентиментальные воспоминания о Кэтрин вперемешку с жалостью к самому себе. Мир, успокоение праху Кэтрин, бедной Кэтрин. Мир всем нам. Над его головой тихо шелестят зеленые листья, ярко светит солнышко, на улице тепло и светло, настанет день, и его чахнувшее тело и замерзшая душа начнут оттаивать; он на минутку заскочил в холодную церковь – надгробная плита, на которой когда-нибудь появится и его имя.
Кавалер еще не добрался до Лондона, а местные коллекционеры уже возбужденно обменивались мнениями насчет его римской вазы. Чарлз сообщил, что скуповатая старая карга, вдова герцога Портлендского, упорно домогается узнать цену вазы, и Кавалер поспешил обратно в Лондон. Цену он определил в две тысячи фунтов стерлингов. Герцогиня ничего точно не сказала, но обещала подумать. Прошел месяц, другой – ответа нет, но Кавалер знал, что напоминать нельзя. От нечего делать, просто чтобы развлечься, он как-то заглянул в личный музей герцогини, где демонстрировались: веточка кораллов, у которых переливались крылышки, окаменелые ископаемые насекомые, кость мамонта (в те времена считали, что это кость древних римских слонов), редкие толстые фолианты по астрономии, антикварные медальоны и пряжки и, само собой разумеется, этрусские сосуды. Ну что тут сказать? Собрание предметов не лучше и не хуже многих других, существовавших в ту пору (главное своеобразие заключалось в том, что коллекционер – женщина), но, по мнению Кавалера, явно составлено с некоей претенциозностью и даже эклектично. Сын герцогини, мужчина средних лет, беспокоящийся лишь о своем наследстве, советовал матери отказаться от покупки, считая запрошенную цену вздутой. Но герцогиня уже всерьез загорелась желанием приобрести вазу во что бы то ни стало.
Кавалер немного покрутился при дворе, но большую часть времени проводил у Чарлза, где позволил себе пофлиртовать с очаровательной и жизнерадостной девушкой, с которой его племянник уже сожительствовал года три. Он выслушал от нее всякие лестные слова, допускал некоторые нежности. По наущению Чарлза, девушка называла его дядюшкой и грациозно целовала в щечку.
Она была высокого роста, хорошо сложена, с золотыми кудрями, голубыми глазами, чувственным припухлым ротиком и, по мнению Кавалера, имей она подбородок чуточку побольше, могла бы соперничать красотой с некоторыми классическими античными статуями.
Племянник уже успел рассказать дяде ее историю: она дочь деревенского кузнеца, приехала в Лондон в возрасте четырнадцати лет и стала помощницей горничной. Сын домохозяйки ухитрился соблазнить ее, вскоре девушка подыскала для себя довольно сомнительные занятия, в частности, стала позировать полураздетая в качестве «нимфы здоровья» в лечебнице одного доктора, который якобы исцелял от импотенции. Потом ее увез в свое имение некий баронет и вскорости выгнал прочь, узнав, что она забеременела (ее маленькая дочь теперь воспитывалась в деревне), а близкий друг баронета, к которому в отчаянии обратилась несчастная девушка, оказался как раз… Чарлзом.
Ее спаситель, будучи на шестнадцать лет старше, ничуть не удивился, что девятнадцатилетняя девушка столь многоопытна. Считается, что подобные женщины забираются по общественной лестнице на довольно высокую ступеньку, но вскоре выбиваются из сил и скатываются вниз. Стало быть, в ней не было ничего особенного, лишь смазливое личико и внешнее очарование. И все же было. Чарлзу захотелось стать ее любовником. Девушка так же не прочь была похвастаться своей красотой. «Подумать только, – говорил Кавалеру племянник, – она и впрямь довольно одаренная. Я научил ее читать и писать, и теперь она изучает все книги по самосовершенствованию. Она очень любит чтение и прекрасно помнит прочитанное».
Кавалер заметил, что девушка также запоминает каждое слово, произнесенное в ее присутствии. Хотя речь ее и не блистала изысканностью, а смех звучал грубовато и слишком откровенно, но когда она молчала, то совершенно преображалась. Лицо приобретало нежное выражение, глаза увлажнялись от прилежного внимания. «А ее суждения о картинах, – продолжал хвалить девушку Чарлз, – просто замечательны. И в этом ничего удивительного нет, ибо она живет со мной вот уже скоро три года, да и наш общий друг Ромней всерьез увлекся ею. Она позировала ему для доброй дюжины картин и еще большего числа разных эскизов и зарисовок. О других натурщицах он и слышать не хочет, разве только когда я отказываю ему в возможности рисовать мою девушку». Эти слова напомнили Кавалеру, что он должен выкроить время и снова пойти к Ромнею позировать, поскольку решил заказать еще один свой портрет.
Герцогиня предложила за вазу тысячу шестьсот фунтов. Кавалер не уступил ни пенни.
В королевском дворце он долго не засиживался. О возможном назначении с повышением в Мадрид, Париж или Вену Кавалер уже давно и думать забыл. Без поддержки Кэтрин он чувствовал себя постаревшим. Начал позировать Ромнею. Себе же сказал, что пришла пора возвращаться в Неаполь. Потом и других известил об отъезде.
«Тысяча восемьсот фунтов», – с раздражением произнесла герцогиня. По рукам. Он сделал кое-какие покупки, в том числе приобрел у Ромнея портрет девушки Чарлза, написанный в образе жрицы Бахуса, и решил увезти его с собой в Италию.
Кавалер вернулся в Неаполь и опять окунулся в прежнюю жизнь. Первым делом взялся за погашение долгов, улаживания претензий и демонстрацию своего материального благополучия – он все еще прекрасно знал, чем себя занять. Кроме того, наконец-то понял, что окончательно перебороть апатию можно, если всерьез включиться в новое для себя дело. Поэтому Кавалер решил осуществить давно вынашиваемый грандиозный замысел, реализация которого потребовала бы несколько лет: разбить английский сад на двадцати гектарах в парке, окружающем загородный дворец в Казерте. Он опять стал коллекционировать антиквариат, совершать восхождения на гору, составлять и собирать каталоги. Сделал он и неплохие покупки раритетов, найденных при раскопках в Помпеях и Геркулануме, хотя они и велись там под бдительным присмотром королевских археологов. В этой стране можно делать все, что захочешь, если точно знать, кому надо хорошенько заплатить.
Несколько милых английских вдов из числа знакомых ему любителей картин, похоже, изъявили готовность излечить Кавалера от одиночества. Одна дама дала понять о своем намерении еще в Лондоне, накануне его отъезда, а другая – в Риме, где он останавливался по дороге на несколько недель, главным образом для того, чтобы согласовать кое-какие вопросы с мистером Байрсом, его любимым доверенным лицом и агентом в этом городе. Дама из Рима изрядно прельщала Кавалера. Она была богата, обладала отменным здоровьем и мастерски играла на арфе. В письме к Чарлзу он с известной долей радости сообщал о ее прелестях, хотя прекрасно знал, что его слова вряд ли воодушевят любимого племянника, который рассчитывал стать наследником бездетного дяди. Вообще-то, возраст дамы, по правде говоря, не способствовал появлению детей. Но так или иначе, будучи моложе Кавалера на целых десять лет, она могла бы запросто пережить его.
Но вскоре Кавалер оставил мысль о выгодной женитьбе. Даже эта дама, такая величавая, такая одинокая, волей-неволей нарушала бы его устоявшийся образ жизни и сложившиеся привычки. Больше всего Кавалер нуждался теперь в тишине и покое. Он был обречен провести остаток жизни одиноким.
Единственное, что он совершенно сознательно желал меньше всего, так это любых перемен. До сих пор ему везло. И все же в низу живота бывало нет-нет да и заноет. От всяких пустых мечтаний так просто не отмахнешься. Внутренний огонек все же тлеет. А потому сегодня же, не откладывая, вопреки всем здравым соображениям, он принимает решение позволить ей приехать.
Эта наивная, неиспорченная девушка (она даже когда-то была непорочной, понял он по ее поведению) приезжает сюда вместе со своей матерью. Чарлз положил глаз на богатую наследницу (а что еще остается делать второму сыну лорда?), и ему нужно быть серьезным и прекратить всякие там шуры-муры. Нельзя больше поддаваться мимолетным увлечениям, и надлежит обращаться с женщинами холодно. Но, решив расстаться с девушкой, Чарлз не был настолько бессердечен, чтобы объявить ей об этом, и придумал предлог: как, дескать, было бы чудесно, если бы она поехала к его недавно овдовевшему дядюшке и порадовала бы своим присутствием. Стало быть, выходит, что дядюшка получает в наследство от своего племянника его любовницу? Кавалер понял, что Чарлз не просто освобождается от пут, мешающих выгодной женитьбе, и перекладывает на него свои долги, но также предотвращает любую вероятность того, что Кавалер сподобится провести оставшиеся годы с новой женой. (В таком случае племянник перестал быть его наследником.) Но если дядя горячо полюбит эту девушку (на которой он никогда не женится, это совершенно ясно), то Чарлз спасен. Какой же умница этот Чарлз!
В марте она вместе с матерью выехала из Лондона. Их сопровождал друг Кавалера, пожилой шотландский живописец, который возвращался в Рим и любезно согласился взять в дорогу обеих женщин под свою опеку. Навстречу им в Рим отправился Валерио, чтобы привезти в Неаполь.
Кавалер читал за завтраком, когда услышал, как со скрипом распахнулись въездные ворота. Он подошел к окну и увидел, что во двор вкатил почтовый дилижанс, к которому устремились слуги и пажи. С козел, рядом с кучером, спустился Валерио, подошел к дверце и предложил руку молодой женщине, легко выпорхнувшей из экипажа, после чего помог выйти дородной пожилой женщине. Они направились через двор к правому крылу, к лестнице из красного мрамора. Несколько служанок и горничных, выскочив из дворца, принялись на ходу поправлять и отряхивать запыленное желтое платье девушки. Та подурачилась с ними минутку, улыбаясь и дотрагиваясь до протянутых рук, с явным удовольствием отвечая на восторженный прием прислуги. Еще Кавалер заметил голубую шляпку, широкие поля которой порхали, словно бабочки, на фоне световых бликов от булыжника на мощеном дворе.
И тут ему почему-то вспомнился Джек, и его вмиг охватила тоска. Он вернулся к столу, накрытому для завтрака. Ничего, пусть она подождет, пусть знает свое место. Ведь сидит же сейчас книгопродавец и ждет. Выпив чашку какао, Кавалер не спеша пошел в малую приемную залу, куда по его указанию пригласили маму с дочкой.
Миновав двери, предусмотрительно распахнутые для него пажом Каспаро, он увидел, что они скромненько сидят в уголке и о чем-то перешептываются. Мать первой заметила Кавалера и поспешно встала. Дочь сидела, зажав шляпку между коленями, а когда поднималась, повернулась и положила ее на свой стул. При виде ее изящного наклона и изгиба тела он ощутил некий физический толчок, будто сердце его оборвалось и ушло куда-то в низ живота. Он уже успел забыть, насколько прекрасна девушка. Изумительно великолепна. Ему следовало бы помнить, какой красавицей она была в прошлом году, поскольку ее портрет в образе жрицы Бахуса висел на стене его рабочего кабинета, да и видел он тогда девушку, почитай, каждый день. Но теперь она оказалась еще прекраснее, чем на картине.
Глубоко и радостно вздохнув, он подошел к гостям поближе и благосклонно принял робкий девичий реверанс и неуклюжий поклон матери, который тоже должен был означать реверанс. Затем приказал Стефано показать миссис Кэдоган на втором этаже две комнаты с окнами во двор, выделенные в их распоряжение. Девушка наклонилась вперед и от всего сердца поблагодарила Кавалера, поцеловав его в щеку. Он непроизвольно отшатнулся, словно поцелуй обжег его.
– Вы, должно быть, очень устали от такого долгого путешествия, – сказал он ей.
– Да нет, ничуть. Я так счастлива. И город такой красивый, – ответила девушка и добавила, что сегодня день ее рождения. Она взяла Кавалера за руку и потянула за собой на террасу (прикосновение опять обожгло его). Вид действительно оказался красивым – он мог сам убедиться: красные черепичные крыши домов залиты солнечным светом, к морю спускались цветущие сады, тутовые и лимонные деревья, тянулись вверх кусты и стройные высокие пальмы, и все это было подернуто легкой, нежной дымкой.
– А вот там, дядюшка? – воскликнула она, вопросительно показывая на гору и на покрасневший столб дыма, вырывающийся из ее жерла. – Там что? Вот-вот произойдет извержение?
– А вы испугались? – участливо поинтересовался он.
– Бог мой, да ничуть! Хочу увидеть его. Хочу видеть все-все. Это же так… замечательно! – вскричала она, радуясь, что удачно подобрала столь благородное, светское слово.
Она была такая молоденькая, так искренне радовалась жизни, что поневоле тронула и его. А он был прекрасно осведомлен о ее добродетелях благодаря смиренной преданности Чарлза, который чуть ли не год осаждал своего дядю просьбами принять девушку в Неаполь. «Ее восхищение переходит в страсть, – писал племянник Кавалеру. – Она уже без ума от вас». Однако Кавалер решил проявлять к ней гораздо меньше внимания и интереса, нежели другие мужчины. Это даже позабавит его. Ну что ж, он даст ей пристанище – наверное, лучше отвести этим женщинам четыре комнаты на третьем этаже с видом на парк, чтобы девушка могла любоваться захватывающими дух пейзажами.
«Вы сможете лепить из нее все, что угодно, – писал Чарлз. – Она – сырой материал, к тому же, гарантирую, очень податливый».
Сперва Кавалер не распознал в себе талант педагога. Одно время ему хотелось просто смотреть на девушку и молча восхищаться. Он пока еще не научился управлять своим чувством, которое вспыхивало в нем при виде ее красоты. Не означает ли это, что он стареет, коль так поспешно возложил на себя обузу заботиться о ней? Или что, он уже постарел? И его жизнь кончилась? Остается дополнить ее красотой свою коллекцию? Ну уж нет. Для начала он сделает из нее нечто. А потом отправит домой. Чарлз всегда был большим проказником.
Поэтому Кавалер всячески тянул время, не в силах постичь, что ему предоставляется еще один шанс и вся его жизнь может начаться сначала.
Что же должна такая юность сотворить с ним? Хоть он и знал (или, по крайней мере, думал), что ее прислали к нему, чтобы он ею обладал, тем не менее он все же побаивался выставить себя в дурном свете и был искренне тронут ее доверчивостью. Девушка и впрямь верила, что через несколько недель приедет Чарлз и увезет ее отсюда. Но все же надо быть круглым дураком, чтобы не воспользоваться благосклонностью, предоставляемой ему совершенно бескорыстно, без всякой суеты и сентиментальности. Конечно же, девушка все понимает. Она знает, что предназначена для удовлетворения похоти мужчин, причем самым дурным образом – переходить от одного к другому. Да, она по-прежнему любит Чарлза, но ей необходимо смириться с его изменой. Бедная Эмма. Жестокий Чарлз. И Кавалер положил свою сухую ладонь на ее руку.
Глубина и острота ее реакции, слезы, плач раздражали его – ведь Чарлз уверял, что она сговорчива, – и в то же время трогали. Поскольку Эмма отвергала его, он стал еще больше уважать ее, что всегда происходит с мужчинами его возраста во взаимоотношениях с женщинами. Но ей тем не менее, похоже, нравилось с ним общаться. Девушке страстно хотелось набраться ума-разума, естественно, для будущего счастья. Кавалер предоставлял ей в полное распоряжение собственный экипаж, показывал памятники культуры и изумительные места в королевстве (при этом всегда присутствовала ее безмятежная, непритязательная матушка). Возил он ее и на Капри, они побывали и на мрачных развалинах виллы Тиберия, разрытой шайками гробокопателей, где остались лишь мозаичные мраморные полы изумительной красоты. Их откопали всего лет двадцать-тридцать назад. Ездили они и в Солфатару, прогуливались по полю, покрытому горячей серой. В мертвых городах осматривали откопанные из-под пепла и золы античные дома. Восходили они и на Везувий. Выехав из дома в четыре часа утра, еще при полной луне, добрались в карете до Резины, а оттуда в сопровождении Толо уже пешком до места, где застывала выплеснувшаяся из кратера вулкана лава.








