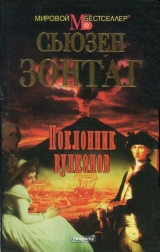
Текст книги "Поклонник вулканов"
Автор книги: Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 31 страниц)
4
Из окна моей камеры виден их корабль, вставший на якоре в заливе.
Мы с друзьями уже находились на борту транспортного судна, направлявшегося в Тулон, как двадцать четвертого июня они заявились и аннулировали договор, подписанный с этим чудовищем кардиналом; нас ссадили и бросили в тюрьму Викариа. Я была одной из немногих женщин в этой темнице, поэтому меня заточили в отвратительную одиночную камеру размером десять шагов на семь, с деревянными нарами для сна. В кандалы меня не заковывали. Двое моих друзей просидели все лето в камере на цепи с железными ошейниками на шее, а других затолкали по пять человек в узкие камеры, и они спали там прямо на полу, тесно прижавшись друг к другу. Некоторых из нас пропустили через пародию на суд, называемый трибуналом, а судьбу других решали даже без этого фарса.
Изо дня в день я смотрела на тот черный корабль, рыскающий по водам залива. Я не собиралась посылать им письмо, залитое каплями пота или слезами, чтобы вымаливать себе жизнь.
По вечерам я видела зажженные на палубе фонари и белые мачты, блестевшие в лунном свете. Иногда я так пристально и долго взирала на корабль, что качающиеся мачты застывали на месте, а тюрьма двигалась.
Я наблюдала, как сновали туда-сюда небольшие суденышки, подвозящие к кораблю провизию, вино и музыкантов для вечерних развлечений. До меня доносились выкрики и громкий смех. Я помню, многие великолепные блюда с яствами, стоящие у них на столах. Помню пышные празднества, устраиваемые британским посланником и его супругой. На некоторых приемах, где она показывала пластические позы, я читала некоторые свои стихи. В камере я написала три новых стихотворения: два на неаполитанском диалекте и элегию на латинском языке о голубом небе и чайках, посвященную моему учителю Вергилию.
Как хорошо быть кораблем, рассекающим глубокие воды летнего моря. Как славно быть чайкой, парящей в голубом летнем небе. Ребенком я нередко мечтала, что могу летать. Но в темнице тело мое отяжелело. Хоть я ослабла и здорово сбавила в весе из-за скудного питания (дважды в день кусок хлеба да миска супа), я никогда еще не чувствовала себя настолько придавленной к земле. Душа у меня рвалась ввысь, а я не могла даже грезить, чтобы тело мое воспарило в воздух. Тогда бы я не парила над их кораблем, а сразу же ринулась в бурную морскую пучину.
На рассвете шестого августа, подойдя к окну, я увидела, что флагманский корабль уплыл. Свою работу по приданию видимости законности убийствам неаполитанских патриотов они закончили и отправились обратно в Палермо. Но казни через повешение и отсечение головы продолжались еще до следующей весны.
Меня казнили спустя две недели после отплытия корабля.
Когда мне стало ясно, что казни не избежать, я потребовала, чтобы мне отрубили голову, а не вешали на виселице. Такова была моя единственная привилегия, и я решила ею воспользоваться. Но государственная хунта, вершившая суд, отвергла мою просьбу на том основании, что я якобы иностранка. Да, я была иностранкой. Но родилась в Риме и с восьми лет проживала в Неаполе. Я стала неаполитанкой, когда мой отец-португалец получил патент на неаполитанское дворянство и сделался подданным неаполитанского короля. Замуж я вышла за неаполитанца – офицера знатного происхождения. Да, я была иностранкой у себя на родине.
Принять смерть я решила в длинном черном балахоне, доходящем до лодыжек, который надевала в последний раз четыре года назад на похороны мужа. Я выбрала такое одеяние не ради того, чтобы продемонстрировать траур по рухнувшим надеждам, а всего лишь потому, что у меня начались месячные и я предпочла надеть на себя что угодно, лишь бы скрыть любое пятнышко, когда буду стоять на эшафоте.
Последнюю ночь я провела, собираясь с силами и подавляя в себе страх.
Во-первых, я боялась, что утрачу чувство собственного достоинства. Я слышала, что приговоренные к повешению нередко теряют контроль над своим организмом. Я боялась, что, когда меня поведут через площадь к помосту, на котором установлены виселицы, колени у меня подогнуться. Я опасалась, что забьюсь в позорных судорогах ужаса при виде палача, приближающегося с повязкой в руках, чтобы завязать мне глаза, и его помощника с длинной веревкой с петлей на конце. Выкрики из толпы «Да здравствует король!» побуждали кое-кого из моих друзей кричать перед смертью: «Да здравствует республика!» А мне хотелось встретить смерть молча.
Во-вторых, я боялась задохнуться еще до того, как меня повесят. Я знала, что палач наденет мне на голову грязный узкий мешок, или его помощник накинет на шею петлю тяжелой волосатой веревки и пропустит ее за плечи. Затем руки заломят назад, свяжут покрепче и подтащат меня на веревке на верх лестницы. Я наяву представляла себе, как под тяжестью трех человек прогнется лестница. Палач усядется на верхней перекладине, подтягивая меня за голову, а его помощник встанет внизу, держа мои ноги и всовывая их в другую петлю.
В-третьих, я боялась, что не умру, когда палач укрепит на перекладине конец веревки, а его помощник, туго обмотав мне ноги, спрыгнет и одновременно сдернет меня с лестницы. Буду ли я все еще жива, когда мы оба начнем раскачиваться, а он своим весом станет вытягивать мне ноги? Тогда палач слезет с перекладины и усядется верхом мне на плечи, и мы станем свободно раскачиваться на виселице в виде такой цепи из трех звеньев-тел.
Наступил рассвет. Я оделась. Меня повели из камеры в комнату рядом с канцелярией начальника тюрьмы, и там, к моей радости, я снова увидела своих друзей – в хорошей компании собираются меня вешать, сразу с семерыми моими сподвижниками-патриотами, и у меня вдруг промелькнула мысль: а ведь ничуть не страшно умирать.
Воздух уже раскалился. Нам предложили воды. Я попросила кофе. Стражник пошел к начальнику тюрьмы, и тот разрешил. Но мне принесли слишком горячий кофе, и пока я ждала, когда он остынет, все сгрудились около дверей и тоже ждали. Мне сказали, что времени уже нет. Я ответила, что мне сперва нужно выпить кофе, и тогда нам предоставили еще несколько минут. Среди нас находился один поэт, ему было всего двадцать три года. Воспользовавшись заминкой, он достал клочок бумаги и что-то стал записывать. Любопытно, что он там писал – еще одно стихотворение или же набрасывал прощальную речь, с которой выступит у подножия эшафота? Я попробовала кофе, но он все еще обжигал язык. Я поставила чашку и стала ждать, не обращая внимания на свирепые взгляды стражников у двери. Поэт продолжал писать. Я была рада, что дала ему возможность дописать еще несколько слов. Епископ, стоя на коленях, перебирал четки и бормотал молитву. Впечатление было такое, будто время прекратило свой бег, – но теперь только в моих силах пустить его снова.
Тем временем кофе остывал. Когда я выпью его, чары развеются и нас поведут на встречу со смертью.
Я не двигалась. Любое мое движение разрушило бы чары, я это чувствовала. Мне страшно захотелось есть, и я вытащила из-под лифчика спрятанный на груди катышек хлебца, оставшийся от скудного вчерашнего ужина. Пока кофе остывал, я бы съела этот катышек, но стражник мог сказать, что мне разрешили всего лишь выпить чашку кофе, но не есть.
Я опять поднесла чашку к губам, увы, кофе уже остыл, и его можно было смело пить.
Я подумала – вероятно, это были женские мысли, – может, мне сказать слова утешения другим, поскольку видела, что они удручены, как и я: на ум пришли слова из «Энеиды»: «Forsan et haes olim meminisse juvabit»[94]94
«Как знать, может, и настанет тот день, когда эти мгновения вспомнят с радостью» (лат.).
[Закрыть]. Я заметила, как по лицу молодого поэта пробежала улыбка.
Нас под конвоем вывели на тюремный двор и, прежде чем посадить в карету, связали руки за спиной. Я поняла, что теперь их уже не развяжут никогда. Какая же жалость, что я не осмелилась съесть катышек хлеба.
И вот под безоблачным, безмятежным небом нас повезли в карете по улицам, запруженным людьми, которые уже привыкли к нескончаемым извращенным спектаклям, прямо на рыночную площадь, где стоял помост с виселицами. Там собрались огромные толпы народа, пришедшего поглазеть, как мы будем извиваться и плясать в воздухе. А за этими нетерпеливыми зрителями тоже внимательно наблюдали: со всех сторон их окружали солдаты регулярной армии и головорезы из отрядов чудовища-кардинала, да еще впридачу два полка кавалерии. Нас завели в ближайшую церковь, где на случай каких-либо волнений засели наготове резервные роты солдат, и втолкнули в помещение без единого окошка.
Первым увели на казнь нашего кавалерийского офицера. Ему было двадцать четыре года, происходил он из знатного герцогского рода и являлся начальником штаба Национальной гвардии республики. Процедура казни заняла не более двадцати минут. Мы прислушивались к гомону и выкрикам толпы. Затем увели семидесятитрехлетнего падре, доброго крепкого старика.
Я смотрела, как уходят один за другим мои друзья, и задавалась вопросом: а что, если меня все же помилуют в последнюю минуту – я была единственной женщиной из партии смертников.
Когда остались только мы с молодым поэтом, я сказала ему:
– Надеюсь, не затрудню вас просьбой, но поскольку наши бренные тела вскоре будут искалечены и испоганены, то, вероятно, нам можно пренебречь за несколько минут до казни условностями и правилами приличия, которые в обычных условиях связывают нас. Я зверски голодна, но под лифчиком у меня спрятан катышек хлеба. Не будете ли вы так любезны и не попытаетесь ли извлечь его оттуда. Вообразите, что вы склоняете голову на грудь своей матери.
– Я склоняю голову перед коллегой-поэтом, – ответил он.
Не помню, как лицо этого молодого человека приближалось к моей груди. Как это было прекрасно! Он поднял голову, в зубах был зажат кусочек хлеба, на его глазах появились слезу, да и на моих тоже. Мы сблизили наши головы так, чтобы можно было разделить этот хлеб. Ну а потом его увели.
Я услышала несущиеся из толпы крики. Это означало, что поэта повесили. Жаль, что здесь нет ватерклозета. Я последняя в этой очереди, и только я подумала об этом, как за мной пришли.
Меня зовут Элеонора де Фонсека Пиментель. Это мое девичье имя (моим отцом был дон Клементе де Фонсека Пиментель), и под этим именем меня все знают (после смерти мужа я взяла назад свое прежнее имя) или с небольшими вариациями. Обычно меня называют Элеонорой Пиментель, но иногда Элеонорой Пиментель де Фонсека. Случается, называют и Элеонорой де Фонсека. Чаще же всего просто Элеонорой – так называют меня историки в некоторых толстых фолиантах и пространных статьях. Но мои товарищи по неаполитанской революции 1799 года, все мужчины никогда не называли меня просто Элеонорой без добавления де Фонсека или Пиментель.
Я была развита не по годам – такое нередко случалось в мое время среди привилегированного сословия. В четырнадцать лет я уже писала стихи на латыни и итальянском, переписывалась с Метастазио[95]95
Метастазио Пьетро (1698–1782), итальянский поэт и драматург-либреттист.
[Закрыть] и написала поэму под названием «Триумф целомудрия», которую посвятила маркизу де Помбалу. Стихи мои переписывали и хвалили. В 1768 году я сочинила эпиталаму – свадебную песню по случаю венчания короля и королевы, тогда мне исполнилось шестнадцать лет – столько же, сколько и королеве. Я написала несколько трактатов по экономике, в том числе по вопросу создания национального банка. Замуж я вышла поздно – двадцати пяти лет, а моему незадачливому мужу исполнилось тогда сорок четыре. Будучи замужем, я продолжала вести научные работы по математике, физике и ботанике. Муж и его друзья считали меня чудаковатой, неважной женой. Для своего времени я, как женщина, поступала довольно смело. Через семь лет после свадьбы я не просто ушла от мужа, что можно было легко сделать, если бы мой отец и братья припугнули его и вынудили согласиться жить раздельно. Так нет, я затеяла бракоразводный процесс. Состоялся суд, на котором я представила доказательства его супружеской неверности, а он, в свою очередь, обвинил меня в том, что я почти все время занималась чтением, что не верила в Бога, завела шашни со своим репетитором математики и вообще предавалась распутству, разврату и разгулу. Хотя скандал разразился на весь мир, я все же выиграла процесс, и нас развели. С тех пор я стала жить как мне заблагорассудится.
Я читала, читала, занималась переводами и научными исследованиями. За свою литературную деятельность король назначил мне стипендию. Свой перевод с латыни на итальянский по истории католической религии в Королевстве обеих Сицилий, изданный в 1790 году, я посвятила королю. Потом я сделалась республиканкой и рассорилась с венценосными покровителями. Стоит мне процитировать отрывок из своей «Оды свободе», за которую меня засадили в тюрьму? Не стоит? Ладно. Я была просто обычной одаренной поэтессой. Лучшие и самые сильные свои стихи я написала в молодости – это сонеты на смерть моего сына Франческо, он умер в семь месяцев.
Но вот вспыхнула революция, и вместе с ней загорелась и я. Я основала главную газету нашей республики, просуществовавшую чуть меньше полугода. Писала много статей. Поскольку я не была сильна в практических, политических и экономических делах, то взялась за решение вопросов образования, каковое считала самой настоятельной задачей республики. Что это за революция, если она не овладевает сердцами и не просвещает умы? Знаю, так рассуждают женщины, но далеко не каждая из них. Я читала книгу Мэри Уоллстонекрафт, когда она вышла в Неаполе в 1794 году, но в своей газете никогда не поднимала проблему прав женщин. Я была независимой и не задумывалась над пустяшными надуманными вопросами, касающимися равноправия граждан моего пола. По сути дела, даже не думала о том, что являюсь прежде всего женщиной. Я целиком и полностью была нацелена на наше справедливое дело и даже рада, что забыла о том, что я женщина. А забыть об этом не представлялось сложным, так как на наших частых совещаниях и встречах единственной женщиной всегда была только я.
Я не стремилась стать чистым, ярким пламенем.
Вам труднее представить себе, какой дикой была жизнь в нашем королевстве. Развращенность и порочность двора, нищета и страдания народа, лицемерие и разложение нравов среди правящего класса. Ах, да не говорите только, что потом все пошло великолепно. Великолепно себя ощущали одни лишь богатые, приятно и радостно было только тогда, когда не велись разговоры о жизни бедняков.
И вот в таком окружении я и родилась и на себе испытала все преимущества приятной и легкой жизни. Меня прельщали неограниченные возможности для получения знаний и самосовершенствования. Как же быстро и легко привыкают люди к унижениям, лжи и незаслуженным привилегиям. Те же, кто из-за своего происхождения в силу честолюбивых замыслов вошел в круг привилегированных лиц, должны были становиться убежденными бездельниками, не умеющими даже занять себя и хорошо проводить время, они либо по-ханжески прикидывались, что ничего не умеют делать, либо сознательно обрекали себя на ничегонеделание. Но те, кто по происхождению или же в знак протеста не вошли в среду привилегированных (а таких на свете подавляющее большинство), должны были оставаться тупыми и бестолковыми или раболепными подхалимами, чтобы не замечать всего позора, когда горстка избранных захватила в свои руки и поставила себе на службу медицину, образование, культуру и искусство, а всех других обрекла на муки, невежество и нищету.
Я была честной и одержимой в деле, цинизм не понимала и не переносила. Я хотела, чтобы все стало лучше не только для избранных, а для всех, и была готова отказаться от своих привилегий. Ностальгии по прошлому я не испытывала, а верила в будущее. Я пела свою песнь, а мне наступали на горло. Я видела прекрасное, а мне выкололи оба глаза. Может, я и была наивной, но безрассудной любовной страсти не изведала. Я не могла влюбиться в какого-то одного человека.
Я не снизойду до разговоров о своей ненависти и презрении к воину, поборнику британской имперской мощи и спасителю монархии Бурбонов, который поубивал моих друзей. Но скажу несколько слов о его друзьях, радовавшихся содеянному и испытавших от этого удовольствие.
Кем же был сэр Уильям Гамильтон, как не дилетантом из высшего света, умело пользовавшимся, к своей выгоде и удовольствию, многими благоприятными возможностями, открывавшимися для него в бедной, насквозь прогнившей, но все же интересной стране, для того чтобы воровать произведения искусства и безбедно жить за счет этого, а вдобавок приобрести авторитет ценителя и знатока антиквариата и живописи? Были ли у него когда-нибудь оригинальные мысли, жаждал ли он творить стихи и поэмы или изобретал что-то полезное человечеству? А может, он загорелся рвением к чему-либо, нисколько не заботясь о собственных наслаждениях и привилегиях, положенных ему по чину? У него было достаточно знаний, чтобы понять, что у местных колоритных жителей прямо под ногами валяются на улице многие произведения искусства и антиквариатные редкости, извлеченные из-под руин. Он милостиво соизволил восхищаться нашим вулканом. Его друзья на родине, должно быть, очень удивлялись его мужеству и геройству при восхождении на гору.
А кто же была его жена, если не еще одна талантливая, но чрезмерно взбалмошная женщина, которая считала себя исключительно нужной и полезной обществу только потому, что человек, которым она восхищалась, полюбил ее. В отличие от своего мужа и любовника она не обладала твердыми, идущими от сердца убеждениями. Она была, по сути, исступленным фанатиком и легко заражалась рвением к тому делу, которым занимался тот человек, которого она в данную минуту любила.
Я легко представляю себе Эмму Гамильтон, будь она не англичанкой, в образе республиканской героини, которая тоже могла бы исключительно мужественно и смело закончить свою жизнь на эшафоте. Однако этого не произошло. Женщины вроде нее – полное ничтожество.
Я считаю себя поборницей справедливости и беспристрастности в первую очередь, а не любви, поскольку справедливость – это и есть одна из форм любви. Я кое-что знаю о власти и вижу, как управляется этот мир, но в корне не согласна с этим. Я хотела подать пример и при этом не разочароваться. Но опасалась и вместе с тем сердилась, так как чувствовала свое бессилие в столь трудном деле. Так что говорить о своих опасениях не буду, а лучше скажу о надеждах. Я боялась, что моя злость обидит других и они сотрут меня в порошок. Со всей уверенностью заявляю: я опасалась, что никогда не буду достаточно сильной, чтобы защитить себя. Иногда я должна была забывать, что я женщина, дабы завершить то лучшее, на что была способна. Или же лгать себе, утверждая, как трудно и сложно быть женщиной.
Так поступают все женщины, и автор этой книги в том числе. Но я не могу простить тех, кому на все наплевать, кроме собственной славы или материального благополучия. Они считали себя культурными и воспитанными людьми, а заслуживали лишь презрения. Да пошли они все к черту!









