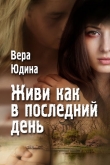Текст книги "Беспамятство"
Автор книги: Светлана Петрова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
– К счастью, не все. Хотя не знаю: по улице идёшь – уши от похабщины вянут. Если за подобную литературу ещё и премии давать, скоро мы нормально говорить разучимся, тогда России, как ты выражаешься – писец, значит конец. Гибель культуры всегда предшествует гибели народа.
– Не бзди, старушка. Тебе какая печаль? Твои деньки сочтены. Последний женишок тебя кинул. Умотал на лыжах кататься.
– Что делать, – вздохнула Ольга, – что делать, если надёжные мужчины Ремарка перевелись как класс. В каждого его героя хотелось влюбиться...
И добавила с беспокойством;
– не замёрз бы где дурак, С него станется.
– Боязно одной?
– Когда те, кого любишь, не вернутся никогда, смерть не пугает. Одиночество, действительно, страшнее.
– Тогда зачем ешь и пьешь, цепляешься за жизнь?
– По инерции, но главное – из принципа. Из уважения к себе.
– Скажи, пожалуйста, какая гордая. И надолго твоих принципов хватит?
– Да все, все, уже отбоялась. Жду откровения.
– Мудришь.
– Нет. Тебе не понять. Ты крыса.
Серая предводительница обидчиво заверещала:
– Между нами нет разницы – все сдохнем!
– Это ты сдохнешь, а я преставлюсь. Но давай распрощаемся без взаимных упрёков. Какие счёты могут быть перед лицом вечности? Спасибо, что развлекла. Теперь иди. Поищи себе нового собеседника, а мне оставь холод и тишину.
Ольга очень устала. Мыслей не было, только недоумение: зачем ночь спустила свой чёрный полог, зачем за ночью обязательно явится призрачный рассвет, который не лучше бесплодной ночи? Зачем эта бесконечная череда перемен, ничего не меняющих? Она вдруг с облегчением осознала, что больше ничего не хочет. Совсем ничего. Желания угасли, и это незнакомое состояние было абсолютно блаженным, как непреходящее счастье.
Крыса ушла, но на следующий день явилась вновь – притащила сухарь из собственных запасов и положила на грудь женщине. Та лежала в прежней позе, на спине, и не шевелилась. Крыса долго сидела, напряженно уставившись стеклянным глазом в лицо умирающей. Наконец наступил момент, когда изо всех щелей к лежанке начали подползать на брюхе сотни крысиных сородичей, рассчитывая на долгое пиршество. Предводительница развернулась к ним навстречу мордой, обнажив в оскале ярко-розовый рот с белоснежными иглами зубов. Жуткий предостерегающий визг на предельно высокой ноте заполнил комнату. Серые полчища словно сдуло ветром. Подлая толпа! Человечину есть – последнее дело, так можно и деградировать.
Главная крыса повторила сигнал чуть слабее, добавив в него шипящие звуки. После этого даже те, что задержались возле дыры в полу, рассчитывая переждать монарший гнев и поживиться свежатинкой втихаря, исчезли в укрытии. Убедившись, что приказ выполнен, крыса неслышно и плавно, словно насекомое, сползла с бесчувственного тела и исчезла в тени за печью – пошла готовить свою армию к завтрашнему марш-броску. Подальше от соблазна.
Глава 25
В тот день в Филькино случилась капель. Еще неделю назад злобно метался жёсткий снег. Сугробы намело по пояс, ступени и дорожки занесло так, что по двору без лопаты до дровяника не дойдешь. Потом в воздухе резко потеплело, а нынче с раннего утра и без того жидкие облака стали дружно таять. От яркого света каждая сосулька на крыше спешила обронить слезу. К полудню мартовское солнце расчистило небесное пространство от остатнего марева и заиграло водой и льдинками, слепя глаза. Напитанные влагой снега уплотнились и осели, как оседает в нечи слишком рано потревоженный пасхальный кулич.
Теперь не только с сосулек, но со всех предметов и мест, где набилась за зиму хоть горстка снега, охотно текла струйками весёлая вода. Темную от сырости тропинку до колодца было видать издали, а вокруг штакетин и молодых деревьев в садах протаяли аккуратные лунки. След, продавленный в снегу валенком или калошей, обрастал по краям ледяными кружевами, такими тонкими и изящными, что хотелось их взять на ладонь. Но от тепла человеческого тела они мгновенно превращались в капли воды, не позволяя разглядеть причудливое творение природы.
Спиридоновна протёрла тряпицей окошки изнутри, глянула сквозь чистое стекло и ахнула: как ярок мир! Так ярок, что глазам смотреть больно, приходилось щуриться, И хоть вершилась подобная оказия каждый год, старая женщина всегда дивилась прекрасному превращению зимней смерти в жизнь весны.
– Слышь, старый, – окликнула она мужа. – А ведь ещё одну зиму пережили!
Степан Порфирьсвич завозился на печи, закашлялся и поскорее запалил самокрутку, чтобы привести лёгкие в привычное состояние.
– За водой схожу, – доложила ему супруга, повязывая пуховый платок па большую голову.
Старик, все еще не прокашлявшись, махнул в се сторону рукой, хотя его разрешения никто не спрашивал. Но уж так повелось, раз штаны на нём, а юбка на жене.
Спиридоновна, из-за многочисленной тёплой одежки казавшаяся ещё крупнее, чем была на самом деле, отставив для равновесия руку с ведром в сторону неверным шагом пробиралась к колодцу по скользкой тропе и вдруг остановилась, как вкопанная: бесконечная шевелящаяся серая лента, шириною в полметра, плавно и бесшумно перетекала на другую сторону улицы в направлении избы, где жила Прасковея.
Крысы двигались слажено, как единое целое, ни одна не выделялась на особицу, потому и разобраться в неожиданном препятствии слабая глазами Спиридоновна не смогла. Она перекрестилась, но что видит – всё равно не поняла. Подоспевшая по своим делам Платониха тоже ничего путного не разглядела. И не мудрено: у одной катаракта, у другой чёрная вода. Да и годы немалые, иной раз и увидишь, так не сразу сообразишь, а тут всё шевелится и быстро уплывает. Уплыло. И поди теперь узнай что.
Впервые после февральской стужи бабы собрались в аккуратно прибранной кухне Платонихи на посиделки, тем более и повод был незаурядный. Хозяйка и Спиридоновна, ставшие свидетельницами странного явления, поведали остальным про виденное осторожно, чтоб не подумали – с ума стронулись. Если бы Спиридоновна оказалась в тот час у колодца одна, то и вообще распространяться бы не стала – зачем народ смешить. Но четыре глаза, хоть и худых, не два, уже не отвертишься. Бабы выслушали товарок и стали высказывать разные предположения, порой самые фантастические, но пи одно им самим не показалось убедительным, а на другой день, когда у Прасковеи стали исчезать куры, и совсем растерялись. Ни лиса, ни хорек в здешних местах отродясь не водились. Так и то – какие-никакие следы остались бы, а тут чисто – ни ноготка, ни пёрышка.
– Меня там не было, – не без досады на оказию прошамкала беззубым ртом любопытная Матвеевна, – я бы вмиг разобралась! А у тебя, Прасковся, не иначе как нечистый в доме завёлся. Справно живешь, а он хочет всех уровнять, чтоб не обидно. Ты всегда с ленцой была, я же за троих вкалывала, а кур держать нынче не на что, комбикорм дорог, про кукурузу уж не вспоминаю.
– Завидущий у тебя глаз, нехороший! – обозлилась Прасковся. – Вон у Машки корова во дворе стоит, так что – теперь у ей скотину отнять?
– Ещё чего! – испугалась Спиридоновна. – Корова не курица. Москвичка за молоко деньги платит.
– Платит, потому что дюже добрая, – неодобрительно заметила Матвеевна. – Богатому легко быть добрым. А ты вот сделай добро, когда денег нет и тебя самого унизили ниже некуда.
– Я даром от жизни ии капелюшечки не получила, всё своими руками содеяла, тебе ли не знать? А ты меня курями попрекаешь,
– обиделась Прасковся.
Но оставшуюся птицу на всякий случай продала Спиридоновне: пусть своему деду щи варит. Старые уже куры, несутся плохо. По весне на рынке в Фиме обратно же цыплят можно прикупить. А то ещё и, правда, Матвеевна сглазит – глаз у неё недобрый, тёмный, у неё и мужик как-то странно помер, говорили – приревновала к доярке из Фимы и отравила. Но точно никто не знает, может, и враки.
В бесовские проделки хозяйка малого куриного стада верила не шибко, однако зачем добру пропадать, пусть хоть деньги пока будут, деньги можно в банк положить, правда, и оттуда не раз без зазрения совести забирали последнее, даже «гробовыми» не побрезговали. Старики во всём себе отказывали, рублик к рублику на книжку складывали, правительству верили. А что правительство? Тоже люди, тоже жулики, всё покрали. И так складно объясняют: мол, Россию надо было спасать. Ну, сами развалили, сами и спасли, закрома от богатства пухнут, так теперь должок-то возверните, пора! Вернули – на палку колбасы не хватит! Раньше, рассказывают, должники стрелялись. Так то, видать, другие люди были. А нынче сильные опять норовят у слабых копейку отнять. Цены-то скачут, будто им зад скипидаром натёрли! Купить
– дорого, продать – дёшево, вот и живи. Прожиточный минимум какой-то выдумали, вот сами бы на него прожить и попробовали.
Никогда не было хорошо, и теперь не лучше. Что ж поделать, когда упала смута на нашу и без того нищую жизнь, и не видать этой смуте конца. Деревни мрут, а она себе здравствует.
Долго вздыхала Прасковся, пока угомонила скорбные мысли и наладилась спать – ко всему мы привычные, чего уж там душу травить, переживём и это.
Только успокоились жители Филькина по поводу непонятного явления, как та же Матвеевна, которой до всего есть дело, первой обратила внимание, что из трубы Чеботарёвых дыма не видать. Что за чертовщина! Хоть и март у порога, а топить надо, иначе околеешь: солнце на лето, зима на мороз. Встретившись с Косой Катькой, поведала про своё наблюдение. Обе долго стояли, всматриваясь в ярко-синее, но стылое небо, однако даже малого дрожания тёплого воздуха над домом не уловили,
– Куда как худо, – заметила Катька. – И дурак пропал. Но к ему я каждый день хожу, печку понемногу поддерживаю, чтобы не погасла и пожару нене случилось. Просил. Жалко, что ли? А в какую сторону направился и надолго ли – не сказал.
– Видать сам забыл, куда поехал.
Бабы еще пошумели, но дальше разговора дело не пошло. Идти, прознать в чём причина, не решились, боясь неизвестной заразы, которой грозил Максимка. К тому же москвичка за год дальше порога никого, кроме дурачка, так и не пустила.
Между тем Катька донесла про отсутствие дыма Спиридоновне, та – мужу: у соседей, мол, печь не топится и дорожка от порога до калитки свежим снегом присыпана. Конечно, зимой зачем каждый день по воду ходить? Двух ведер на неделю хватит. Живёт москвичка скромно, аккуратно, словно монахиня в скиту, а теперь и вовсе больна, размываться в корыте не станет. Максимка за ней ухаживать взялся, да ведь только и Максимку давно никто не видал, вот какая оказия!
Дед, хоть и сильно старый, но мозги не бабьи и войну прошёл. Скомандовал:
– В милицию надо заявить, в Фиму!
– Ага, – сказала жена. – Ты первый с твоими опухшими коленками и побежишь – всю зиму с печи не слазишь. Туда и на санях не проедешь. Участковый на газике уже месяц глаз не кажет. То сугробы выше носа, а теперь колея протаяла, машина на брюхо сядет. Кому мы тут понадобились? Хоть режь, хоть грабь. Телефон кажный год обещают, да всё не ведут, говорят невыгодно, абонентов мало. Хоть бы свет дали, телевизор поглядеть.
– Чего тебе в телевизоре хорошего покажут? Радиво вон слушай. Только о себе и думаешь. А если померла соседка? – не унимался дед.
– Все помрём.
– Молодая она шибко.
– Ой! Тебе бы только ноги, ты бы к ей давно пристроился!
– Злая ты баба. И дура. Может, худо человеку, помощь требуется. Иди сходи, не развалиссься.
– Так там, верно, дверь после оттепели за ночь примёрзла, не отдерёшь.
– Фомку возьми, безрукая!
Спиридоновна вернулась от Чёботарёвых в снегу, а лицо и того белей. Выдохнула:
– Преставилась, сердешная! На кровати лежит, голова в козьем платке, лицо серое, нос вострый. Закоченела. Я как увидела, так и выскочила, будто ошпаренная. С детства покойников боюсь!
– А кто говорил! – торжествующе воскликнул дед. – Чего теперь-то?
– А ничего. Пока холодно, что ей сделается. Снег улежится, лавка из Фимы продукты привезёт или почта доберётся, вот и сообщим ,
– Крысы бы пока не съели.
– Крысы оттудова еще третьего дия ушли. До меня только сейчас дошло, что это целый крысиный род через дорогу пёр, они и кур у Прасковси пожрали. Видно, тогда и померла москвичка, а нам и ни к чему!
– Надо что-то делать.
– Может, в погреб снести или в снег для сохранности закопать? – предложила жена. – А, Стёпа?
– Откуда я знаю? Обмозговать требуется. В бездорожье давно никто не мёр, все вовремя.
Он стал загибать искорёженные артритом пальцы с жёлтыми от табака ногтями:
– Фёдор помер по весне – земля уже подсохла, Васька – тот вообще летом, сводные родные дед с бабкой – в ноябре, грязюка
уже застыла. А эта, сразу видать, не нашенекой закалки, городская, одной зимы пережить не сумела. Однако ж, человек все– таки, не собака. Действовать надо.
Дед закряхтел, спустил ноги с печи, но, пораздумав, убрал назад.
– Ы-ы, – кавалер задохлый! – презрительно сощурилась жена.
– Сиди, не рыпайся: будет только то, что будет. Другого не предусмотрено, и мы тут – сбоку припёка.
Но слова словами, а на следующий день Спиридоновна, в тайне почитая себя местным духовным лидером, созвала всех ходячих жительниц Филькино идти в дом к Чеботарёвым, а там уж на месте решать, как быть. По одному просочились в дверь, накануне отрытую Спиридоновной, и пошли обшаривать бесцеремонными глазами чужую таинетвенную жизнь, ныне ставшую смертью. Подивились в кухне незнакомой утвари – никчемному в отсутствие электричества миксеру (так и не поняв, что за штука), набору блестящих, как зеркало, металлических кастрюль, смешному курносому чайнику со свистком (разве чайник забава?). В узкой первой комнате на стене красовалась картина в лепной золочёной рамс
– так было бы на что посмотреть, а то три проросшие луковицы на голой столешнице! Срамота. Стол клеенкой застелен – это по– хозяйски – но какой-то непростой, тонкой, похожей на скатерть
– долго ли прослужит? По стенам платья развешаны, как в магазине. В общем, есть на что поглядеть,
Кто-то ещё толкался в сенях, передние уже добрались до горницы, как вдруг оттуда раздался визг. Визжала самая шустрая, Катька Косая, которая шла первой и что-то узрела неожиданное, остальные же, еще не зная ничего толком, голосили за компанию. Спиридоновна хоть и была закопёрщицей похода, второй раз на покойницу глядеть не рвалась, потому топталась в арьергарде, а услышав крики, с перепугу – и откуда только прыть взялась! – вовсе выскочила из дома и даже на всякий случай забежала за калитку и стала жадно смотреть поверх штакетника, дожидаясь разгадки переполоха. Другие бабы, наоборот, напирая друг на дружку в узких дверях, ввалились наконец все в большую комнату и обомлели: лежанка возле холодной печи была пуста.
Усопшая исчезла.
Глава 26
В добром селе Теньки, что на реке Селекша, доживал свой тихий век пасечник, к которому Каллисфения Сидорова ходила с маленьким Максимкой за редким пчелиным снадобьем – пергой и маточкиным молочком. Если бы не то молочко, которое стимулировало все функции организма и снимало напряжение, еще неизвестно, заговорил бы он когда-нибудь, а может, и вообще недолго протянул – таким болезненным уродился. Потом сынок сам не единожды бывал в Теньках, кое-чему у старика научился, вместе с ним рой в новый улей сажал, мёд вручную откачивал, накручивая раму с сотами в деревянной бочке. В подарок получал важные продукты, произведенные умными пчёлами, чтобы врачевать любимую маманьку. Лечил успешно и продлил её дни до возможного предела и даже немного дальше.
К этому пасечнику и отправился через глубокие снега Максимка, страстно желая спасти женщину, без которой уже не понимал своей жизни. И если бы кто отнял всё у него, пусть даже сама смерть, с которой не поспоришь, то он погиб бы с тоски. Можно было дождаться погоды получше, но дурачок не умел планировать и делать выбор. Он видел, что невеста дальше на поправку не идёт – требуется организму добавочная сила.
Такая сила была Максимке давно известна, просто он немного запамятовал, а как вспомнил – сразу засобирался в дорогу. Умело натёр воском широкие короткие лыжи, которыми, судя по их изношенности, пользовалось не одно поколение Сидоровых, потуже прикрутил к валенкам кожаные ремешки креплений, бросил в рюкзак пяток картошек в мундире и ржаную лепёшку, им же самим на сыворотке замешанную и на поду испечённую, отпустил волка в лес на подножный корм, и вышел перед рассветом.
Шёл день, шёл ночь, спешил – ведь бросил больную без присмотра и догадывался, что дрова скоро прогорят. Но поручать кому свою невесту опасался – а вдруг ей кто другой больше понравится? Вроде бы и нету поблизости никого из мужского роду, но это только так кажется, а на сахар всегда мухи найдутся. Да вон хоть из Фимы набегут, И прогонит она Максимку, как гнала раньше. Такого оборота он никак допустить не мог. Укрыл больную потеплее, питья и еды оставил. Дождётся. А он мигом.
Добрался до Тенъков немногим более чем за сутки, получил малую стеклянную баночку с маточкиным молочком, два спичечных коробка перги, большой кус прополиса и ярого воска для мазей, да меду липового, уже засахаренного, и намастырился тотчас бежать назад. Однако пасечник принудил парня заночевать – иначе сил на обратный путь не хватит. Сказал, зная с кем имеет дело:
– Упадёшь в пути, помрёшь, а твоя невеста за другого выйдет.
Последние слова убедили Максимку сильнее любых иных. Он лег на тёплую печь, расслабился и заснул крепко и надолго – не растолкать, а уже проспавшись никак не мог вспомнить, зачем зимой в Тсньки подался? От усталости и перенапряжения и без того слабую память отшибло напрочь. Когда пасечник напомнил Максимке его же вчерашний рассказ о больной женщине, тот с воплем вскочил, путаясь от волнения, продел длинные руки в затёртые лямки рюкзака, схватился за лыжи и был таков.
Понёсся вперед безоглядно, с таким остервенением, что ни один стройный лыжник его, кривобокого, обогнать бы не смог. Вот только съезжая с горки, не заметил пня под снегом и сломал лыжу – почти пополам. Мог и голову сломать, да уберёг Господь, которому он всю дорогу в голос молился. А лыжа – эго испытание, испытаний Максимка не боялся, имея ясную цель, а была та цель слаще сладкого. Так и кандыбал ещё двое суток из последней мочи, проваливаясь по пояс и взмокнув от пота и снега до нитки. Рюкзак, в котором и трёх килограммов не наберётся, чудился пудовым. Иногда, прямо на ходу, наваливался сон, похожий на беспамятство, но ноги работали сами и несли Максимку в нужном направлении. Один раз упал и, казалось, больше не встанет – всё, выдохся. Лежа, забылся на минутку – как хорошо, покойно! Но в полубреду отчётливо увидел призрак – белое, без кровинки, лицо замерзающей от холода москвички – поднялся рывком, пальцами разлепил склеенные жгучей слизью веки. не мог он умереть, если должен спасти невесту! А как спасёт, станет она ему жена.
Между тем Ольга четвёртые сутки лежала тихо, неподвижно, без еды и питья, терпеливо ожидая избавления от никому не нужной жизни. Крысы ушли, значит, уже скоро. Боль, ощущение беспомощности – растворились в утекающем времени и больше не терзали. Иногда, в забытьи, а может, в бреду, являлось ей мужское лицо – она не слишком настойчиво пыталась его узнать – то был ни Макс, ни папа, ни Рома. Нежный ангел, и облик ангельский, светлый. Ангел накормил сё манной кашей, натянул чулки и мягкие лапти из вычесок, надел одну на другую две тёплые кофты, повязал шерстяным платком, укрыл всеми одеялами и дублёнкой поверх, засунул в печь столько поленьев, сколько вместилось. Потом ангел улетел и оставил Ольгу одну, наказав ждать. Она и ждала, не шевелясь, в полном бесчувствии. Жалости к себе не испытывала. Сознание неторопливо угасало, не полагая напрягаться наново.
Вечером четвёртого дня воротился Максимка, но сразу к Чеботарёвым не пошёл, а первым делом направился в собственную тёплую, благодаря стараниям Катьки Косой, избу, нагрел ведро воды, тщательно вымылся и надел всё чистое, как надевают для свадьбы или перед боем, в котором можно встретиться со смертью. Телесно подготовленный и душевно собранный отправился наконец Максимка за невестой. не в пример бабам, побывавшим тут накануне, мертвой сё не признал и полуживому состоянию совсем не удивился – а какая она могла ещё быть, бедняжка? Завернул в одеяло и понес к себе, задами через четыре двора, чтобы старухи не увидели ненароком и не подняли шум. Хоть и не ихнее дело, а всё равно станут орать, требовать объяснения и мешать ему совершить, что положено.
Морозец, расслабившийся днём, к ночи набрал силёнок, окреп. Маленькая белая луна, высокая, но яркая, светила исправно. И нести вроде недалеко, однако уставший после многодневного марафона Максимка намаялся. Кто бы подумал: такая тощая, а тяжёлая. Длинная, конечно, и костей много. Ничего, своя ноша не тянет, а кости мясцом обрастут, баба будет, что надо.
Он положил бесчувственную женщину на приготовленную постель, ближе к теплой печной стенке, раздел до белья и заботливо укрыл заранее нагретой самодельной периной из гусиного пуха, под которой всю осень и зиму спасался сам.
Волк, дождавшийся наконец хозяина, пластался в теплой кухне у двери. Учуяв чужую плоть, потянул длинным носом, приподнял верхнюю губу, показывая жёлтые клыки, и заворчал утробно.
– Молчать! – скомандовал Максимка волку. – Не вздумай ревновать – это теперь хозяйка наша. Ты сё защищать должон, как меня.
Волк понял. Положил голову на вытянутые вперёд лапы и только время от времени нервно вздрагивал густым загривком, привыкая к новому запаху .
– То-то, – довольно сказал Максимка.
В тепле больная пришла в себя, неохотно приоткрыла нездешние глаза и медленно оглядела ту часть помещения, которую, не поворачивая головы, могла охватить взглядом. Комната была чужой, но в свете керосиновой лампы с длинным, аккуратно подрезанным фитилём и чистым стеклом, от печи к столу сосредоточенно металась знакомая кособокая тень. Вот и лицо ангела, которого Ольга видела третьего дня, опять прояснилось, он дал ей пол чайной ложечки белой вязкой массы неясного вкуса, напоил горячим чаем с мёдом. Она вздохнула глубоко, как не дышала уже давно, и даже закашлялась.
– Это из тебя болезнь выходит, – сказал Максимка, сменив ангела.
Ольга затихла, сомкнула глаза в блаженной дрёме, так непохожей на холодное беспамятство последних дней. Мыслей никаких не было, было хорошо и не одиноко. Это пока человек здоров и успешен, он спесив и ни в ком не нуждается, и только физическая немощь выставляет истинную оценку одиночеству как рубежу крайнему и беспощадному.
Между тем Максимка без особой охоты пожевал немного соленого сальца – исключительно для восстановления растраченных физических сил, от души напился сладкой заварки из многотравья и ополоснул в алюминиевом тазике чашки. Закончив хозяйственные дела, обернулся лицом в красный угол, где неусыпно дрожал язычок лампады, зажженной ещё рукой Фени, опустился на коленки и стал тихо молиться:
– Спасибо Тебе, Иисусе Христе, за все Твои благодати. Прости, если согрешил вольно или невольно, а больше не буду. Житьё моё совсем переменилось. Мамке передай, что остепенился Махсимха, жану взял. Любовь у нас. Тапсря всё заладится, и станем мы с сю едины до самой смерти. Благослови, Боже, спаси и сохрани, потому что больше некому .
Деревенский дурачок помолчал, припоминая слова, заученные с детства, истово перекрестился и с чувством добавил:
– И не разлучи меня, Господи, с Твоей божественной милостью.
Потом скинул валенки, колкие шерстяные носки, вязаные на четырёх спицах, груботканые порты – местами потёртые, но еще добротные, и в одной исподней рубахе, едва прикрывавшей срам, полез под перину с весёлым возгласом:
– Вмсстях теплее!
Больная вспорхнула длинными ресницами, испуганно округлила глаза и протестующе замычала.
– Ты чего? – обиженно встрепенулся Максимка. – Не боись, без спросу не трону, окрепни сначала. Просто так смотреть буду. Радоваться. Давай, двинься.
Он лёг рядом с женщиной, оперся на локоть и принялся с увлечением разглядывать сё лицо вблизи. Вон оно какое: бледное, почти прозрачное, ноздри тонкие-е-е, лоб высокий и выпуклый. Диво. А местные пол лица платками кроют. Он осторожно коснулся губами прохладной щеки,
– Бедняжка ты моя! Видать натерпелась по жизни, что так занеможила. Ты забудь всё. Забудь. Откинь от памяти, словно ничего и не было.
Он осторожно потрогал грубыми пальцами тёмно-рыжие волосы, дивясь их густоте и красоте.
Ольга испуганно следила за действиями чудаковатого мужичка. В ней вдруг пробудились запретные мысли и чувства, за ними потянулась боль. Забудь.,. Легко сказать! Если бы в прошлом осталось только плохое. Но как забыть хорошее? Забыть обморочный восторг, долгие годы безоблачного счастья? Нет, забыть вообще ничего нельзя, как нельзя ничего постичь до конца. А что, если именно это и должно было ей приоткрыться да не успело? Или другое?
Голова горела. Она застонала. Максимка убрал руку, улыбнулся:
– Говорю – не боись, я не злой. Слышь, летось я могилку На– денькиных родителей нашёл. Не говорил прежде – гостинец тебе к свадьбе берёг. У нас ведь сегодня свадьба! Поняла? А Наденька – мамка твоя, так? Хорошая была девушка. Чего бровями шуруешь? Махсимха врать не станет. Думаешь: как я могу помнить, раз тогда ещё не родился, когда она в Москву уехала? А вот помню! Потому что дано, я настырный. Надо бы сё в родные места нерснесть да рядком со своими кровными положить. Там-то, в Москве, она, небось, никому не нужна»
Максимка увидел, как в уголке шоколадного глаза женщины начала медленно копиться слеза. Удивился:
– Ты чего? Им же друг с дружкой веселее будет! Как нам с тобой. Мы к ним на могилку ходить станем, цветочки носить, беседовать. Ничего, ничего! Потихоньку-полегоньку пойдут твои ноженьки. Маточкиного молочка и перги покушаешь – сразу здоровья добавится. Недаром пчелиная матка, что молочком кормится, шесть лет живёт, а простая пчёлка только сорок дней. Ноги я тебе с завтрашнего дня бараньим салом растирать начну – от мамки моей еще осталось полбанки, а то новую намешаю. Весна настанет – в палисадник выводить буду. Солнышко пригреет – и оживешь. Солнышко всё оживляет – и деревья, и птиц, и человека. А слов не надо – я и так понимаю, чего ты хочешь. Ну, спи, спи» Ни о чём не тужи.
Ольга закинула здоровую руку на шею дурачку и промычала:
– Мммммм
Потом собралась с духом и вытолкнула из перекошенного рта:
– Ммм-аккк...с.
Тот обрадовался:
– Во-во! Махе! Это ж меня так зовут! Правильно! Маманя – дай ей, Господи, теплого места в раю – правду говорила: никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Милая ты моя!
И он заключил свою добычу в крепкие мужские объятия.
Слеза в Ольгином глазу набухла и округлилась. Влага копилась так долго, что должна бы стать чёрной. Но нет, она была прозрачна, скользнула к переносице и пролилась. Как капля росы, сорвавшаяся под своей тяжестью с былинки, притулившейся на заброшенном Владимирском ополье.