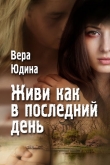Текст книги "Беспамятство"
Автор книги: Светлана Петрова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
прогорит и погаснет. Только теперь, уехав с каким-то мужиком в сибирскую глубинку, Ляля напрочь выбрасывала на свалку годы, прожитые сначала вместе, а потом рядом. Она ушла, так и не оставив разгадки себя, возможно, просто потому, что понять до конца другого человека невозможно в принципе. Все. Шарманка сломалась, мастер умер и музыки больше не будет. Прояснилось окончательно и жестоко, что Света, дети, дом – все было лишь временной заменой несбыточных желаний, эрзацем счастья и благополучия, назойливым напоминанием о бесконечных днях и ночах, годах и десятилетиях упования на возврат к радостям истинной любви.
Он часто терзался мыслью: если для него так важна Ляля, разве это не означает, что она и есть его искомая половинка, его женщина? Запахи, порывы, каждая выпуклость се гибкого тела точно соответствовала его впуклостям и наоборот, создавая впечатление единетва естества. Но Ляля не испытывала к нему тех же чувств и, следовательно, являлась половинкой кого-то другого. Что это – исключение из правила или ошибка исходного умозаключения, и его частичка тоже вовсе не Ляля, а какая-то другая женщина, которую он так и не встретил? А если бы встретил, то избежал бы душевных мук и был спокойно счастлив. Только нельзя даже представить кого-то, кто мог заменить Лялю.
Рома сразу и безоговорочно поверил выдумке жены. Во– первых, известно, что Светик никогда не врёт, во-вторых, он был готов к чему-то подобному. Всё должно иметь конец, и история его затянувшейся любви созрела для завершения. Причем на редкость удачного: никто не посрамлен, джокер выпал неизвестному игроку и нет больше почвы для надежд.
Рома устал от жизни, которая никак не хотела совпадать с его устремлениями. Сосуществование со Светиком являлось успокоительным снадобьем, вроде транквилизатора или наркотика. Теперь и оно уже не могло умалить рвущей боли, требовалось более сильное средство. не говоря никому ни слова, Брагинский оформился в археологическую экспедицию, отбывавшую в Центральную Азию. Он хорошо заплатил одному парню, рабочему, который прикинулся больным и рекомендовал Брагинского вместо себя. Что предстоит искать и где именно, Рому не интересовало, его влекла близость пустыни и полная отрешённость от вопросов, волновавших его на протяжении многих лет. В новой обстановке поведение и мысли
должны измениться радикально. Образы святых отшельников и Иисуса Христа, размышляющих, сидя в одиночестве на камне, с юности манили ето загадкой. Ему нравилась гипотеза Зигмунда Фрейда: вопрос о смысле жизни существует постольку, поскольку существует религиозное мировоззрение, а не наоборот. Рома не был религиозным, но, возможно, собирался им стать. До сих пор его знания в этой обрасти оставались слишком поверхностны, скатываясь к обыденному восприятию. А вдруг именно религия способна дать забвение от сердечного недуга?
Для семьи он потерян, так или иначе. Рома постарался избежать разговора с женой, да и как можно объяснить необъяснимое? Побросав в рюкзак минимум одежды, он уехал в отсутствие Светика, ие простившись. Оставил лишь записку,
«О, прекраснейшая из женщин! Я совершенно искренен, когда говорю так. Ты стоишь, чтобы тебя любили. Но это должен быть кто-то другой. Ухожу навсегда. Оказывается, роковая любовь бывает ие только в книжках. Ты добрая, и знаю – ты простишь. Я понимаю слабость своей этической позиции, но найти согласие между своими желаниями и потребностями семьи не сумел. Пусть тебя утешит, что я был плохим образцом для детей. Меня же кое-как примиряет с действительностью то, что жизнь не вечна.
О твоем материальном благополучии ие тревожусь – мои родители никогда ие оставят внуков, ближе у них никого пет, а сына они давно списали со счёта. Передай им сердечный привет.
Спасибо за терпение. Целую твои руки. Только ие ищи меня и перестань делать мне добро.
Рома».
Глава 23
Визит Светика взбаламутил озеро чистой водицы, которое по капле собирала и лелеяла в душе Ольга. Не уберегла. Одно дело мысли – их можно приструнить, отключить делами или таблетками, другое – живое напоминание о прошлом. Светик была прочно вплетена в жизнь, оставленную Ольгой не совсем уж без давления необходимости и не так легко, как она пыталась себе внушить. Искусственно обретенное равновесие оказалось пугающе шатким.
С приездом подруги Ольга впервые ночевала в Филькино не одна. Житейское дело, что ж тут такого? Ан нет. Возродились старательно отвергаемые ощущения: старой, хоть и не без изъянов, дружбы, принадлежности к сообществу людей, когда-то близких, хотя давно совершенно чужих и мало интересных, а это в свою очередь подняло со дна озерка муть несбывшихся желаний и горьких потерь. Оседала взвесь воспоминаний трагически медленно.
Уже на другой день после отъезда подруги Ольга проснулась в холодном ноту и с мыслью, что, если любишь человека больше себя, время бессильно. Картины утраченного счастья вновь жгли нестерпимо, побуждая желание грызть подушку, выть, резать вены. За окном брезжил немощный серенький рассвет, больше похожий на сумерки. Реальность то грозно сгущалась, выплывая из дрёмы, то снова с облегчением распадалась на куски. Полёт этих обморочных качелей не хотелось останавливать. Наконец, усилием воли Ольга затормозила очередное падение перед подъёмом и очутилась в тесной, убогой обители своих предков. Печь прогорела. На столе сидела крыса и доедала остатки вчерашнего ужина.
– Болит чего? – спросила старая знакомая, всматриваясь в печать страдания на лице хозяйки дома.
Проволочные усы крысы шевелились, но слова, как и в прошлый раз, Ольга услышала внутри себя. Ответила откровенно, обрадовавшись собеседнице, как заключенный в тюрьме нежданному посетителю:
– Нечему болеть, всё выгорело. Понимаешь?
– Соображаю.
– Ты случайно не читала, в смысле – не ела, как лечить любовную лихорадку? Один мужчина заразил меня вирусом. Теперь моё тело требует только его тела, другие не подходят. Но его уже нет в живых. А вирус остался во мне. Нашел тёплое местечко и не собирается сдаваться.
– Психологи утверждают, что чувства, основанные на инстинктах, не меняются, на них не влияют ни гуманитарные науки, ни философия, ни тем более образ жизни. Изменилась только форма их проявления и нравственные ограничения, обусловленные непрерывной трансформацией общественных установок. Твой недуг неизлечим. Это как куриная чума. Чтобы от нес избавиться, нужно уничтожить сам больной организм. Другого пути нет.
Ольга беспокойно зашевелилась и даже села среди подушек. Сказала с досадой:
– Так! Я с самого начала подозревала нечто подобное!
Она опять легла на спину и постаралась успокоиться. В конце концов, ничего нового ей не сообщили. Приговор известен давно, другое дело, что она инстинктивно ему противилась. Вот придумала временное убежище – бедное, забытое Богом и властями Филькино. Но суть последовала за ней.
– А ты не слишком деликатна. Я бы сказала – безжалостна, – с некоторым удивлением добавила Ольга.
– не со зла. Жестокость – свойство вида. Щепетильные в этом мире не выживают. Что толку пускать слезу, умиляясь красоте природы, которую вы убиваете. Надо не приспосабливать её к себе, а самим к ней приспосабливаться. Многие люди умирают от голода, а мы никогда не страдаем от недостатка пищи, потому что едим всё, даже рог, древесную кору и пластмассу, разгрызаем железо, пьем отраву, способны переварить любые бациллы, для нас радиация не вреднее, чем для вас пляжный загар. Мы хорошо плаваем и ныряем, ловим рыбу, бегая по дну водоёмов. Наша прародина – Индия и Иран, а мы расселились везде, кроме Арктики и Антарктики. Размножаемся с сумасшедшей скоростью, нас триллионы. Когда вы сами себя уничтожите, мир будет принадлежать нам, ну ещё некоторое время тараканам, но в конце концов мы их тоже схряпаем. Наша главная задача – продолжение рода, а не отдельного индивида. Иначе всем крышка.
– Один за всех и все за одного.
– Это ты очень верно сказала.
– не я. Великий Дюма. Тебе не попадались «Три мушкетёра»?
– Не припомню, наверно, качество клея было плохое. Дюпена и Дюринга – на «Д» – я ела точно. Оба скучные. Однако меня ждут новорожденные крысята. Третьего дня сподобилась. Подрастут – приведу знакомиться. До встречи. Молочка не забудь налить.
И крыса скрылась с куском сушки в зубах.
Ольга вскочила с остывающей лежанки, добежала до железного ведра в углу, заменявшего ей унитаз, и снова метнулась под груду одеял. Она вздрагивала всем телом то ли от холода, то ли от безысходности. Вставать точно не имело смысла. Имело ли смысл жить – она снова сомневалась. Зачем затеяла побег от цивилизации, возврат к природе? Давно отброшенный человечеством за несостоятельностью путь. Впрочем, нет ничего общеполезного. Одному не подходит, а другому окажется в самый раз. не все еще испытано, надо довести начатое до конца, потом делать выводы. Вот чего ей никогда не одолеть – так это одиночества. Получалось, что быть кому-нибудь нужной и есть главный жизнеутверждающий постулат. Кто бы сказал ей – я люблю тебя и хочу, чтобы и ты меня любила – тогда стоит сопротивляться. Правда, существует Рома, но он чужой муж и отец, терзать его дальше негуманно. Еще есть Валентина и его дети. Нет, нельзя даже в мыслях падать так низко. Какая же она была дура, что не родила! Ольга испытала запоздалое, но от этого не менее острое сожаление.
Страдание, отодвинутое на время, грозило вернуться. Усилием, почти невероятным для раненой души, Ольга загнала тоску в дальний закоулок памяти и вновь забылась. И приснился ей сон – сладкий и ужасный. Она снова была Лялей, юной и успешной. Увидев Макса, говорит ему: отчего это вы с девушками любезничаете, а со мною не хотите? Так вы замужем, мне неловко, отвечает он, и смотрит внимательно, а стоит совсем близко, так близко, что у неё от волнения пересыхает в горле. Но мы же не можем друг без друга, говорит она, чувствуя, что обретает ускорение и стремглав летит в неизвестность. Не можем, соглашается он и прижимается щекой к ее щеке, а она, затормозив полёт, обмирает от нежности и детской доверчивости: несомненно, что из множества душевных состояний ей положено только счастье.
Ольга могла бы поклясться, что в действительности никогда не испытывала ничего подобного. В этом чувстве не было страсти, даже намёка на плотские желания – одна безграничная нежность. Хотелось прикоснуться, прильнуть – и умереть в объятиях. Она задыхалась, растворялась в нежности, тонула в ней, как тонут в реке или морс. Сладчайшее блаженство такой силы, от которого ноют зубы и останавливается дыхание. Утончённая, томительная, невозможная нежность, рождённая воображением. И уже во сне – мучительная, смутная догадка, что это только сон. Догадка делала сон беспокойным, но не мешала ему длиться.
Наконец тягучая волна нежности достигла апогея и отступила, оставляя за собой обрывки сказочной мишуры и беспредельную пустоту. Ту самую пустоту, к которой Ольга так стремилась, чтобы позабыть душевную боль. Но пустота оказалась хуже страданий. Пустота утверждала, что смысл бытия отсутствует и ждать спасения напрасно. Ольгу охватил ужас: нежность уплыла, и она не могла сс вернуть. Ей бы заплакать, забиться в рыданиях, освобождаясь от нервного напряжения, но горе давно высушило влагу глаз. «Господи, верни мне слёзы или я захлебнусь в печали!» Воздух со свистом втянулся в лёгкие, грудь судорожно поднялась – раз, другой – и изо рта вырывался жуткий, душераздирающий вопль, похожий на тот, что настиг сё в больнице.
Пронзительный звук оглушил и разбудил Ольгу, Она наконец проснулась, продолжая кричать наяву, уже сознательно, вмещая в этот крик тоску по Максиму, по обделённой любовью маме, по образу отца из детства, по Ромке со Светиком, которых она не умела ценить, по самой себе, обманутой призраком удачи. По своей нелепой жизни. С надрывным криком, казалось, из неё выходили тёмные сгустки горя, и она кричала, пока не осипла. Звук отдавался в ушах и пронзал мозг раскалённой спицей, но чем больше физических сил он требовал, тем настойчивее отвлекал от боли внутренней. Энергии на нравственные страдания уже не оставалось.
Крича, Ольга не беспокоилась, что её услышит кто-нибудь из местных жителей – старухи глуховаты, да и ложатся с заходом солнца – темень, хоть глаза выколи. Задолго до полуночи полупустая деревня забывалась мёртвым сном. Ближайшая соседка, Мария Спиридоновна, обычно спала крепко и окна закрывала на ночь даже в редко выпадавшие душные недели лета, чтобы под покровом темноты в дом случайно не проникла нечистая сила: как известно, несмотря на тысячелетнее православие, русские до сих пор не расстались с языческими привычками и верят в разную ерунду. Но нынче случилась оказия: муж младшей внучки привёз из Переславля-Залесского арбуз. Накушавшись вечером мочегонного плода – гостинец был редкий и старуха от жадности всё никак не могла остановиться, наелась до отрыжки, – она проснулась в неурочное время, в темноте пошла до ветру и чуть не свалилась с самодельного толчка, услышав странный звериный вой. В застывшей тишине он производил жуткое впечатление. На волка не похоже, волков Спиридоновна за долгую жизнь поиаслышалась достаточно, да и не ко времени года им выть, к тому же луны нет, только мелкие звёзды. Она еще долго сидела в тревожной задумчивости, пытаясь определить, откуда идёт звук. Вроде на этой стороне, с правого краю деревни. Но там, кроме молодой Чеботаревой обитателей нет. Не станет же она среди ночи орать? С ума, вроде, пока не съехала, хоть и жалуется на голову.
На другой день Спиридоновна не дождавшись, пока соседка придёт за молоком, после второй дойки сама понесла бутыль, зашла во двор, с неожиданной ловкостью юркнула без спросу в сени и лишь оттуда постучала в кухню.
– Входите, не заперто, – ответила Ольга надорванным от крика голосом.
– Я вот баллон принесла, – сказала старая женщина, озираясь вокруг и не находя никакой зацепки для объяснения ночных криков, кроме одной странности – москвичка далеко за полдень валялась в постели. – Пока тёпленькое, может попьёте? Здоровы ли?
– Жива пока. Голова вот немного болит – прилегла.
– А-а, – потянула Спиридоновна и, не зная, что ещё сказать, нехотя поплелась восвояси.
Криков она больше не слышала. Может они и были, но арбуз закончился, а слезать с тёплой печи осенней ночью из одного любопытства – себе дороже, она не Матвеевна, которая от страсти к чужим тайнам готова чёрту душу заложить.
Молоко оказалось как нельзя кстати – Ольга с жадностью выпила почти литр, налила крысе и снова легла в постель, забывшись тяжелым сном. Она не вставала уже второй день – не видела в том необходимости. Полешки в огонь подбрасывала, печенье жевала, запивая холодной водой – не хотелось даже чаю согреть – смертная тоска одолела.
Регулярно заглядывал Максимка. Стучал в дверь – раз велели, но ответа не ждал, входил сразу и всегда с одним вопросом:
– Не надобно ли чего? Ты не стесняйся, я ж тебе не чужой. Может, воды принесть или в Фиму за лекарством сбегать?
– Спасибо, пока не требуется*
– А мне снилось – зовёшь ты меня ночью. Слов выговорить не можешь, как я в детстве, мычишь, глазами хлопаешь. И обнять хочешь.
– Ошибся. Иди.
– Ладно, пойду. Только сны у меня вещие, – задумчиво сообщил Максимка.
Отныне, с приходом темноты, Ольга с суеверным трепетом ждала возможности снова испытать во сне нежность. Но сон не повторялся и нежность не приходила. Тогда она опять кричала – страшно, во всю мочь, как раненый зверь. Кричала, пока хватало сил, разрушая пустоту. Это позволяло ей удерживаться от безумия до следующей ночи, до следующего крика.
Так длилось долго, но пришло время, когда напряжения голосовых связок для крика не достало, Ольга уснула в изнеможении, не видела никаких снов и, пробудившись, почувствовала если не облегчение, то безразличие к своей дальнейшей участи. Так совпало, что в тот день пошёл снег.
Как известно, первый снег обязательно растает, но земля затвердела и манила чистой незамутнённой красой. Ольга поспешила одеться и, даже не выпив кофе, рванулась в поле. Идти оказалось неожиданно трудно, Ослабевшие за время лежания ноги скользили и разъезжались, кочки, камни, намятая колёсами глина и кустики травы застыли и обманчиво припорошенные белым снегом вынуждали запинаться на каждом шагу. По степной равнине передвигаться стало легче, но выглянуло солнце, снег моментально подтаял, и серо-грязное пространство явило собой неприглядную суть. Ольга развернулась и быстро двинулась вспять, пока дурное настроение не завладело рассудком.
Ещё издалека она заметила возле дома громоздкий «Ленд Крузер». Прикатил по первопутку! Только этого не хватало. Как бывает всегда в жизни: тут не повезёт, так и там схлопочешь. Первое желание – вернуться назад, в поле, но ведь отец не уедет не повидавшись! Будет ждать. Сердце болезненно сжалось и выдало несколько перебоев в предчувствии нежелательной и неприятной встречи. Обрезать бы Светке длинный язык – не сам же он догадался. И когда они все оставят её? Всё никак не могут успокоиться: надо же, вырвалась из лживой стаи, которую они считают своей по закону, вырвалась, наплевав на мнение остальных и презрев их блага! Кружат, вынюхивают, хотят посмотреть, сколько она выдержит, когда сдастся, запросит пощады. У них? Никогда! Лучше подохнуть!
Большаков стоял возле машины, значит, уже проверил, что в доме сё нет, потому что дверь как обычно была не заперта. Один приехал. Всегда любил сам сидеть за рулём, теперь очень пригодилось – банкроту шофёр не по карману. Отец вызывал у Ольги омерзение – старый поверженный беззубый лев. Она больше обрадовалась бы известию о его кончине, чем ему самому. Знала, что так думать грешно, но думала, и думала ясно, не скрывая от себя, хотя гордиться тут нечем.
Самос отвратительное, что придётся с ним разговаривать. Как и о чём? Ольга всё-таки кивнула головой и жестом пригласила отца в кухню. Подбросила в печь дров, поставила чайник. Виталий Сергеевич скинул прямо на лавку дублёнку, размотал длинный пушистый шарф – всё молча, мучаясь необходимостью произнести первые слова. Ольга обратила внимание, что у отца дрожат руки – мелко, жалко. Когда-то холёные, с аккуратными отполированными ногтями, они очень изменились – усохли, покрылись пигментными пятнами, лунки обросли заусенцами. И все-таки это были родные руки, тепло которых она помнила на своем детском теле. Жестокая память! Вид отцовских рук переворачивал душу. Зачем дана жизнь? Ольга отвернулась, чтобы не выдать своих чувств.
Большаков действительно сильно изменился, и даже не внешне – внешность только отражала внутреннюю катастрофу. Он был сломлен, вырван из привычной среды и лишён возможности заниматься любимым делом. И пусть дело называлось не живопись, музыка или математика, а строительный бизнес – каждому своё. Первая жена Хемингуэя потеряла чемодан с его рукописями ранних рассказов, и он ей этого так никогда и не простил, настолько болезненна была утрата. Всё, что Большаков создавал десятилетиями силой своего характера и интеллекта, нагло украли конкуренты. Пережить это и остаться самим собой оказалось невозможно. Отсутствие цели обязательно тянет за собой потерю интереса к жизни.
Когда двухэтажная престижная квартира на Кутузовском стала бывшей и Большакову пришлось срочно съехать, он битый час стоял возле дома, опираясь на палку с моржовым набалдашником в золоте – подарок сотрудников холдинга к шестидесятилетию – и ни о чём не думал. не хотелось. Рядом, у тротуара, была припаркована машина, набитая случайными, большей частью ненужными вещами, которые он побросал туда в растерянности, спеша покинуть уже чужую территорию* Надо куда-то ехать* Он не мог решить куда. Родственников нет, друзья богатого и влиятельного человека редко бывают «всепогодными», как автомобили, и имеют свойство быстро мимикрировать. Оставалась гостиница. Гостиниц он знал много, все дорогие, впрочем, ему всё равно. Имеет ли смысл экономить, если жизнь, по сути, закончилась? Он перестал осознавать собственное Я. Без богатства стал никому не нужен, а от тех, кто мог его любить в любом качестве, он давно ушёл сам.
Так случайно – а может, и не случайно – совпало, что Валентина увидела Большакова возле подъезда дома на Кутузовском. Со стороны казалось, что очень старый, сутулый, почти сгорбленный человек предельно устал и теперь просто отдыхает. Но Валентина помнила отличную, как у кадрового офицера, выправку, лицо твёрдое, волевое, сосредоточенное и полное значимости собственной персоны – он знал себе цену. Пришибленную горем женщину ужаснуло выражение отрешённости в глазах, с которыми она прежде боялась встретиться взглядом. Валя прочла в них унижение – такое знакомое жгучее чувство, пожалела неприкаянного старика и увела к себе. Он не обрадовался, но и не сопротивлялся, словно был безвольным мешком с костями. Полный разрыв Большакова с прошлой жизнью уже произошёл, и в новой среде, вернее в её отсутствии, он чувствовал себя псуверенпо, как неопытный канатоходец, баланеирующий иад пропастью* Ему протянули руку, и он её принял, чтобы не упасть. Впервые оказалось возможным, даже удобным, что решение принимают за него.
Дети встретили нового члена семьи с любопытством и вскоре уже называли дедушкой. Хотя привязанность чужих отпрысков была в меру приятна, а грех его не мучил, душа оставалась бесчувственной. Большаков охотно смирился с новым статусом. У него ещё оставались счета, на половину которых по брачному контракту претендовала Вероника. Но даже эти последние деньги, которые он называл крохами, были немалыми, а по меркам среднего человека и вовсе большими – на безбедный обломок жизни хватит, и не ему одному* С этой мыслью он и приехал в Филькино, зная со слов школьной подруги дочери, как бедствует Ляля, его вновь обожаемая дочь!
И вот он смотрел на нес, перестав что-либо понимать: чужая женщина, сухая и неприветливая, непонятно каким образом занявшая место маленькой славной девочки, которая всегда делала то, что он хотел. Чего хотела эта, немолодая, какая-то скукоженная тётка с неприязненным взглядом, он не мог угадать. Но надо попробовать обнаружить в ней прежнюю Лялю, ведь у него больше никого не осталось.
Болезненный вид и крайняя худоба дочери встревожили. Больна? Сердце отца вдруг заботливо затрепыхалось, почувствовав себя востребованным. В конце концов, он никогда не переставал её любить, она сама его бросила. И напрасно, теперь очевидно, что ей требуется помощь. С этого он и начал разговор, посчитав повод уместным,
– Ты похудела. – Голос у Большакова дрогнул. – Кожа совсем прозрачная, круги под глазами. Поедем в Москву, я квартиру куплю. У меня немного средств сохранилось, нам с тобой достанет.
– Я туда не вернусь.
– Ну, давай будем здесь вдвоем жить. Новый дом отстроим или этот переоборудуем. Твои предки тут обитали, простые русские мужики и бабы.
– Хоть эти не подвели, спасибо, – сказала Ольга.
Против идеи совместного житья она даже возражать не стала – настолько это смахивало на бред, Странно, что отец сам не понимает, Но раз так, значит, и объяснять бесполезно.
– Твои деньги мне не нужны. Поздно. Отдай лучше Вале с детьми, ты перед ними в неоплатном долгу.
– То был поступок вынужденный.
– Разве? Сталинекая закалка! Слишком умен, чтобы отрицать очевидное. Зачем же сюда явился? Испугался? Чего? В расплату на том свете не веришь, а на этом худшее уже свершилось: ты предал тех, кого любил, а остальные предали тебя. Всё вернулось на свои места. Редко случается, чтобы Бог наказал грешника без заминки, да видно, сильно ты ему досадил.
– Бог, грех, наказание... Какая чушь! Чтобы верить в двадцать первом веке, нужно быть или олухом, или найти для Бога какое– нибудь иное объяснение. Не думаю, что ты серьезно относишься к этой галиматье, потому что слишком хорошо тебя знаю, сам воспитал.
При последних словах Ольга нервно передёрнула плечами. «Воспитал. Да. Тогда держи удар». И она сказала:
– Сейчас ты пожалеешь, что не способен найти утешения в вере.
Большаков утратил многие старые навыки, но сердиться ещё не разучился. Он нахмурил брови и пробасил неодобрительно:
– И как, интересно, ты этого добьёшься?
– Элементарно. Тебя приютила вдова Есаулова? Так? А тебе не приходило в голову, что она в курсе, кто приказал убить отца её детей?
– Ты ей сказала? Она знает?!
Виталий Сергеевич крайне изумился, причём совершенно искренне, он никак не мог уложить в голове, приученной к сложным многоходовым построениям, простую истину и свести сё с собственным пониманием вещей. Валя знала правду и пригласила его к себе жить?! Ухаживает за ним... В таком поступке таилось что-то ненормальное, во всяком случае необъяснимое. Нет, здесь какая-то ошибка. Но Ляля подтвердила:
– Знает. В том-то и дело. Так что молись на свою жертву. Хотя грубые материалисты, по мнению гностиков, не подлежат спасению.
Ольга машинально крутила ложкой, размешивая в кружке сахар, и думала, что, возможно, поступок Вали и есть знак Бога, которого она так безуспешно ищет. Его промысел выше человеческого понимания. Любовь и доброта сильнее ненависти, и не на бумаге, а в самой что ни на есть реальной жизни.
Да, думать она умела, но то, что могла сделать глубоко верующая простая женщина, Ольге оказалось недоступно. Одно дело понимать, другое – чувствовать. Прочтя на отцовском лице некое подобие ужаса, дочь даже вздрогнула от удовольствия и добавила жёстко, без намёка на жалость:
– Что заслужил, то и имеешь. Или ты надеялся, что смерть мамы и Макса никогда не отольётся?
– Кто тебе внушил подобные глупости? – гневливо спросил Большаков.
Отец неисправим. Даже собственное несчастье не пробудило в нём совесть. Но что ей известно о чужой совести? Может, угрызения терзают его день и ночь. Ольга опустила глаза, чтобы сквозь маек}' этого отца не увидеть того, которого хотела забыть. Она любила его с рождения, любила беззаветно, но, возможно, он любил даже сильнее, а совершая преступление, думал в том числе и о её благополучии. Она принимала отцовскую любовь, не задумываясь, пользовалась сю и всеми радостями бытия, которые эту любовь сопровождали. Неужели в ней нет ни капли сочувствия? Или хотя бы снисхождения? Почти вес, что она имела, дал ей отец, а она ис в состоянии взглянуть на него без ожесточения! Господи, как оказаться выше этого?
– Папа, – произнесла она тихо, но очень внятно, – по– христиански, я должна тебя простить. Я тебя прощаю.
Вопреки ожиданию, Большаков ощутил внутри себя боль, рожденную какой-то огромной, ещё не до конца осознанной потерей, в этой боли тонул слабый проблеск радости. Наклонился, чтобы благодарно поцеловать слабую руку дочери. И тогда она, повинуясь без желания ожесточённой своей душе, сказала ещё тише, почти ему в самое ухо:
– Но ты не верь – это только слова.