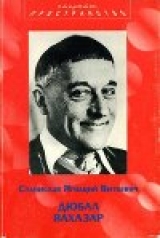
Текст книги "Дюбал Вахазар и другие неэвклидовы драмы"
Автор книги: Станислав Виткевич
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Действие I
Сцена представляет сапожную мастерскую (может быть устроена самым фантастическим образом), размещенную в небольшом полусферическом пространстве. Слева треугольник, задрапированный портьерой вишневого цвета. В центре треугольник серой стены с кругловатым окошком. Справа высохший кривой ствол дерева – между деревом и стеной треугольник неба. В глубине справа – далекий горизонт с городишками на равнине. Мастерская расположена высоко над долиной, как если б она находилась на вершине горы. С а е т а н – в центре, по бокам – двое П о д м а с т е р ь е в: I слева, II справа; все трудятся. Доносится отдаленный гул – то ли автомобилей, то ли черт его знает чего еще и рев заводских гудков.
С а е т а н (стуча молотком по какому-то башмаку). Хватит чушь молоть! И-эх! И-эх! Куй подошвы! Куй подошвы! Гни твердую кожу, ломай пальцы! А, к черту – хватит чушь молоть! Туфельки для княгини! И только я, скиталец вечный, всегда прикован к месту. И-эх! Куй подошвы для этих стерв! Хватит чушь молоть – хватит!
I П о д м а с т е р ь е (прерывает его). А вот хватило бы у вас смелости убить ее?
I I П о д м а с т е р ь е перестает ковать подошвы и чутко прислушивается.
С а е т а н. Раньше да – теперь нет! И-э-хх! (Взмахивает молотком.)
I I П о д м а с т е р ь е. Да перестаньте вы все время и-эхать – меня раздражает.
С а е т а н. А меня еще больше раздражает, что я для них башмаки тачаю. Я, который мог бы стать президентом, королем толпы – пусть хоть на миг, хоть на минуту. Лампионы, гирлянды разноцветных фонарей, слова, порхающие над фонарями людских голов, а у меня, убогой, грязной рвани солнце в груди сияет – как золотой щит Гелиодора, как сто Альдебаранов и Вег, – эх, не умею я говорить. И-эх! (Взмахивает молотком.)
I П о д м а с т е р ь е. Почему не умеете?
С а е т а н. Не давали. И-эх! Боялись.
I I П о д м а с т е р ь е. Еще раз скажете «и-эх», бросаю работу и ухожу. Вы представить не можете, как меня это бесит. À propos – кто такой Гелиодор?
С а е т а н. Какой-то фиктивный персонаж, а может, это я его выдумал – я уж и сам ничего не знаю. И так без конца. Хоть на минутку бы... Не верю я уже ни в какую революцию. Слово-то само какое мерзкое – быдто таракан, не то прусак или вошь. Куда ни кинь – все против нас оборачивается. Мы – навоз, такой же, как все эти древние короли или интеллигенты для тотемного клана – навоз!
I I П о д м а с т е р ь е. Хорошо, что вы не сказали «и-эх» – а то б я вас убил. Навоз-то навозом, но жилось им неплохо. Ихние-то девки, стурба их сучара драная, блярва их фать запрелая, не смердели так, как наши. О Господи Иисусе!
С а е т а н. До того весь мир испохабился, что уж и говорить-то ни о чем не стоит. Гибнет оно, человечество, и-эх, гибнет, пораженное раком капитала, под гнетом его разлагающейся туши, а на ней, аки волдыри зловонные, набухают и лопаются гнойники фашистских режимов, испуская смрадные газы загнившей в собственном соку безликой людской массы. И нечего туг болтать. Все выговорено дотла. Остается ждать, когда все свершится, и делать кто что может. Или мы не люди? А может, люди – только они, а мы всего лишь грязное быдло с такими, знаете ли, о Боже праведный, эпифеноменами – вторичными придатками, чтоб еще больше мучиться и выть им на забаву. И-эх! И-эх! (Лупит молотком куда попало.) А уж они-то наверняка так думают, все эти брюханы засигаренные, истекающие склизким коктейлем из ихних наслаждений и наших смердящих безнадежных мук. И-эх! И-эх!
I I П о д м а с т е р ь е. До чего ж вы это все премудро изрекли – даже ваше гнусное «и-эх» меня на этот раз не покоробило. Я вас прощаю. Но больше никогда так не делайте – не дай вам Бог.
С а е т а н (не обращая на него внимания). А хуже всего, что работа не кончится никогда – ведь эта сучья мать социальная махина, она же вспять не повернет. И одна только радость, что все как один мерзавец будут до беспамятства, до одури пахать – так, что не останется даже этих бездельников...
I П о д м а с т е р ь е (догадливо). На высших контрольных должностях?
С а е т а н. А ты как думал, браток? И-эх! Но как сравнить два человеческих мозга? Даже нет, не сравнить – хотя и это трудно, – а уравнять. Так вот – маленькая неприятность: они будут работать так же, как мы. Сейчас у этой сволоты слишком много радостей – пока еще существует творчество, – и-эх! А я ведь тоже мог бы новый фасон придумать, хотя нет, это уже не то – нет. Не то! не то! (Заливается слезами.)
I П о д м а с т е р ь е. Бедный мастер! Ему вишь хочется, и чтоб работа была механической, и чтоб дух эту механику одухотворял, как у тех старинных музыкантов да художников, что своими выделениями себя так уникально самовыражали. Я что, белиберду несу?
I I П о д м а с т е р ь е. Да нет, только как-то не по-нашему. Я бы все это сказал по-свойски. Но может, не стоит? (Пауза; никто его не просит. Он тем не менее продолжает.) Неприятная пауза. Никто меня не просит. Однако говорить я буду, потому как мне охота и удержу нет никакого. Наверняка нынче опять заявится эта княгиня со своим прокурористым псом и тоже начнет болтать – нами дырки сверлить в метафизических пупках, как енти бла-ародные господа называют у себя те конфетки, что у нас были и останутся зудящими язвами. Противоречий этих никакими силами не примирить – вот оно, то самое, то ись те самые, сакра ихняя сучара, аристокрачьи выворотни, что они своими метафизическими переживаниями именуют, – щекочут себе ими раскормленное брюхо, и каждый такой щёкот у зажравшейся скотины – нам, как острый нож в кишках. Я, того, хотел сказать, и я скажу: жить и умереть, сжаться в булавочную головку и объять собой весь мир, напыжиться и обратиться в прах... (Внезапная пустота в башке не позволяет ему продолжать.) Ничего я больше не скажу – в башке вдруг стало пусто, как в амбаре, не то на гумне.
I П о д м а с т е р ь е. Да – не шибко вы надорвались в этом своем спиче через «эс», «пе» и «че». Видите ли, Ендрек, я знаком с теорией Кречмера по лекциям этой интеллектуальной лафиринды Загорской в нашем Свободном Рабочем Университете. Ох, свободный-то он, свободный – да свободен-то он от запора, этот наш слабительный Университетик. Сами-то они угощаются твердым кормом знаний, а на нас изливают свой умственный понос, чтоб нас еще сильнее задурить, чем все эти религиозники, которые дурака валяли на службе феодализма и тяжелой индустрии. Я вам, Ендрек, заявляю: это психология шизоидов. Но не все такие, как они. Это вымирающая раса. На свете все больше людей пикнического типа. Все ихнее – и радиво, и глядиво, и кино, и домино, и сытое брюхо, и мытое ухо, все у них как надоть – ну дак чё ещё-то? А сами они – падаль гнусная, гуано безмятежное, преотвратное. Вот те и пикнический тип, ясно? А этакий, гля, собой недовольный, он же тока сумбур на свете разводит, и все это – чтоб самого себя в своих глазах возвысить и себе же показаться лучше, чем есть, – не быть, а тока показаться, и не лучше, а тока эдаким, значит, что мол лучше некуда, и всем дескать на зависть. И уж с таким-то вывертом этот тип перед самим собой ломается. (После паузы.) А я вот даже сам не знаю, какой я тип – пикнический или шизоидный?
С а е т а н (твердо; лупит молотком по сапожной колодке или чему-то вроде). И-эх! И-эх! Болтаете тут, а жизнь проходит. Как бы я хотел ихних девок дефлорировать, девергондировать, насладиться ими, jus primae noctis[78]78
право первой ночи (лат.)
[Закрыть] над ними осуществить, на ихних перинах всласть выспаться, до блевоты их жратвой нажраться, а потом потусторонним ихним духом захлебнуться – но не под них подделываться, а создать всё лучше прежнего: и даже новую религию – пускай всем на посмешище, и новые картины, и симфонии, и поемы, и машины, и новехонькую, прелестную, в аккурат как моя Ганнуся... (Обрывает фразу.) И-эх! – не буду: на ихнем языке это кощунством прозывается. (Резко.) А что есть у меня? Что я со всего этого имею??
I I П о д м а с т е р ь е. Тише вы!..
С а е т а н. Чего там тише – тоже мне, фраер! И-эх! И-эх! И-эх! И-эх! И-эх! И-эх! (Колотит молотком.) Сын примкнул к этим самым – мерзко называемым «Бравым Ребятам». Якобы – организация тех, кому подавай всё сразу; но не большевики, потому как интеллигенцию они употребить желают, и никого не убивать – разве что в крайнем случае, когда иначе нельзя. И-эх!
Справа входит прокурор С к у р в и. Цилиндр. Зонтик. Костюм с жакетом. В светло-перчаточных руках желтые цветы.
С к у р в и. Как это: никого не убивать – «разве что когда иначе нельзя». Никогда нельзя, а всегда нужно – вот как. Хе-хе.
I I П о д м а с т е р ь е. А этот – «хе-хе»! Один – «и-эх», другой – «хе-хе»: невыносимо. (Яростно накидывается на неестественно-огромный, просто гигантский офицерский сапог, который вытащил из левого, заваленного рухлядью угла. Скурви смотрит на него выжидающе, с ухмылкой. Через мгновенье II Подмастерье отчаянно вопит.) Не хочу я работать за гроши! Не буду работать! Пустите меня!
С к у р в и (холодно; ухмылки как не бывало). Хе-хе. Путь свободен. Можете идти и сдохнуть под забором. Только труд дает свободу.
С а е т а н. Да, но сам-то ты работаешь, сидя в кресле, покуривая дорогие «папирусы», жрешь чего хочешь. «Работник умственного труда». Поганец! Однако и чувственного труда тоже – и-эх! (Дико хохочет.)
С к у р в и. Вы что же, Саетан, полагаете – когда-нибудь будет иначе? Неужели вы и вправду думаете, что все будут механизированы и подогнаны под стандарт физического труда? Ну уж нет – всегда останутся директора и высшие чиновники, которые будут вынуждены даже питаться иначе, чем фабричные мастеровые, так как умственный труд требует особых элементов мозга – мозга и еды.
II Подмастерье плачет.
С а е т а н. И-эх! – но они-то будут питаться соответствующими препаратами без вкуса и запаха, а не лангустами и хлюстрицами, как ты, прокурор верховного суда по разрешению социальных конфликтов между трудом и капиталом. Ты, кастрат элитарный! В нынешние времена фашиствующих синдикалистов вроде моего сыночка ты еще можешь существовать, как солитёр во чреве этого развратного бандюги – загнивающего высшего общества. Но когда подлинные синдикалисты уничтожат государство как таковое, такие, как ты, будут не нужны. Появится настоящий товарищ-директор, вскормленный гнусными пилюлями... (Плачет.)
С к у р в и. У вас просто комплекс лангуста – у вас и вам подобных. Не ждите, Саетан, никогда этому не бывать. Не может наш вид так деградировать, чтоб у него органы пищеварения съежились и довольствовались парой пилюль. Тогда пропорционально деградировало бы все на свете – и вообще бы не было проблем: осталась бы масса угасающих простейших организмов, а не общество, безнадежно больное взаимозависимостью своих составных частей.
I I П о д м а с т е р ь е. Вот что я вам скажу: любая правда была бы хороша, кабы не личная жизнь. Вот вы, господин прокурор, отва́лите свою работу и можете вволю размышлять об абстрактных материях вне зависимости от вашего желудка и прочих толсто-тонких кишок...
С к у р в и. Ну, это преувеличение...
I I П о д м а с т е р ь е. Но не сильное. (В отчаянии.) Мне хочется красивых баб и много пива. А я могу только две кружки, да еще вечно с этой Каськой, вечно с этой Каськой – черт бы ее драл!..
С к у р в и (с отвращением). Хватит...
I I П о д м а с т е р ь е (подступает к нему, сжав кулаки, с иронией). Ах, хватит? Ах, у господина прокурора верховного суда в носу щипет из-за того, что Ендреку вечно приходится с одной и той же Каськой. Ведь сам-то господин прокурор у нас теософ. Оченно изячные у него идейки. Но и девок у него сколько душе угодно. Вот бы ему еще только одну, ту самую, но с ней-то как раз ничего и не выходит – хи-хи – везде одни и те же проблемы, отношеньица параллельно сдвинуты либо еще как коллинеарно уподоблены – хи-хи!
С к у р в и (холодно). Молчать, флядское отродье, молчать, потрох крученный!
I П о д м а с т е р ь е. Ха-ха! Эх! Попал, ей-богу попал! Сейчас она сюда заявится, эта садистка с лицом ангелочка, эта аморальная развратница, бревийерка эдакая – что твоя маркиза де Бринвийер. И что ей муки господина прокурора, которому приходится с другими девками, мечтая о ней, о ее «недоштупной» шоме – в слове «сома» нет ничего дурного – так вот, для нее поглазеть на эти муки – то же, что заглянуть мимоходом в мастерскую, где мы потеем, подыхая от трудового смрада, или в тюрягу, где лучшие самцы околевают в половом, точнее, внеполовом отчаянии среди духовного и телесного распада...
С к у р в и. Он помешался, это его безумие – от невозможности удержаться – оно отравляет меня как цикута. Я сам начинаю сходить с ума! (Падает на сапожную табуретку.) Как же я ее понимаю, даже в худших ее женских духовных пакостях... как бы было прекрасно... Что делать, коль ей угодно, чтоб ни-ни – ох, ох! Мои страдания насыщают ее полнее, чем насытило бы любое мое безумное гиперизнасилование.
С а е т а н. О – гляньте-ка – распался на элементарные частицы и даже уже не воняет. Пошей-ка с нами сапоги, а, господин прокурор, – вам это пойдет на пользу – не то что вид приговоренных к смерти с утра пораньше.
С к у р в и (всхлипывая). Вы даже это знаете, Саетан?! Саетан! Как это все ужасно...
Входит К н я г и н я в сером костюме, в руках – великолепный желтый букет. Она раздает цветы всем присутствующим, не исключая и Скурви; тот, не вставая с табуретки, принимает цветок с достоинством и затаенной обидой (как это выразить на сцене, а?). Потом она сует букет в огромный радужный флакон, который несет за ней расфуфыренный лакей Ф е р д у с е н к о. Фердусенко, кроме того, держит на поводке фокстерьера Теруся.
К н я г и н я. Здравствуйте, Саетан, здравствуйте. Как поживаете, как поживаете? Здравствуйте, господа подмастерья. Ого-го – работа кипит – все, я вижу, рьяно трудятся, как некогда выражались духовные наставники наших писателей – те самые, из восемнадцатого века. Прелестное словечко – «рьяно», не правда ли? А вы, господин прокурор, могли бы рьяно заняться любовью? (Терусь обнюхивает Скурви.) Терусь, фу!
С к у р в и (постанывая на табуреточке). Хочу своими руками сшить пару башмаков – хоть одну пару! Тогда я буду вас достоин, только тогда. Я смогу сделать что захочу из кого захочу. Даже из вас сумею сделать добрую, домашнюю, любящую женщину – чудище вы мое обожаемое, единственная моя... (Вдруг его словно заткнуло.)
С а е т а н (в суеверном изумлении). Тихо, вы! Эк его заткнуло – и-эх!
К н я г и н я. Ваша беспомощность, доктор Скурви, возбуждает меня до экстаза. Мне бы хотелось, чтоб вы посмотрели, как я – ну, знаете? – это самое, только не скажу с кем – есть один дивный поручик из числа синих гусар жизни, еще кое-кто из моего круга или слоя, есть еще один художник... Ваша робость для меня – резервуар самого разнузданного, животного, утробно-насекомого сексуального наслаждения: я бы хотела, как самка богомола, которая в конце пожирает, начиная с головы, своих партнеров, в то же время не переставая это самое – ну, сами знаете, хе-хе!
I I П о д м а с т е р ь е (скверно, на манер госпожи Монсёрковой, выговаривая французские слова, поднимает огромный офицерский сапожище). Кель экспресьон гротеск[79]79
В оригинале – пол. транскрипция франц.: Quelle expression grotesque! – Что за диковинное выражение!
[Закрыть]!
Чувствуется, что сапожники чрезвычайно возбуждены.
С а е т а н. Дай-ка ему, пес его фархудру грёб, тот офицерский, кирасирский сапожище. Пусть дошьет за тебя. Это ему нужны такие сапоги – ему и тем молодчикам, ради которых он заточает героев будущего человечества в свои дворцы – дворцы духа его! Держать весь этот сброд за морду – вот их благороднейший лозунг. И-эх! И-эх! И-эх-х!
I П о д м а с т е р ь е. Товарищ мастер, а у него ведь, это, еще одна беда: он же влюбился в нашу распутную ангелюшечку только потому, что она княгиня, а он – простой буржуй третьего сословия, а не фон-барон никакой. Таких, как он, еще лет двести назад графья безнаказанно били по мордасам. И вот он страдает, и сам своим страданием упивается – а без этого ничто ему не мило, драной кошки сыну, как писал сам Бой.
С к у р в и (вскакивая; при этом II Подмастерье сует ему в распростертые объятья офицерский сапожище. Скурви, прижимая сапог к груди, восторженно ревет). Нет! – только этого у меня не отнимайте: я истинный, либеральный – в экономическом смысле – демократ.
С а е т а н. Ну, ты его зацепил. Да – он скорбит, что не привелось ему лизнуть этого паршивейшего из возможных прозябания – среди фиктивно-иллюзорных ценностей графского житья-бытья последней половины двадцатого века. Да он бы не знаю что отдал, только бы стать страдающим графом да сверху вниз пялиться на всё наше житьишко с этаким, знаете ли, тонким превосходством, что уж, пёсья сука, и не знаю как. Мало ему, что он, доктор права и прокурор чуть ли не высшего, прямо-таки Страшного суда, может сапоги тачать, – ему важнее, что́ этот ангелочек (указывает на Княгиню) протрубит ему на своем нутряном органчике.
К н я г и н я (фокстерьеру, которого утихомиривает Фердусенко). Терусь, фу! И вы, Саетан, тоже – фу! Да нельзя же так – и не спорьте, что «льзя», как говаривали славянофилистые остряки, мастера бессмысленных словечек. Это безвкусно, и все тут. У вас всегда было столько такта, а нынче...
С а е т а н. Буду бестактным – буду! Довольно вкуса. Все нутро выверну – всю грязь и страшный смрад. Пусть все смердит, пусть вусмерть просмердит весь мир и высмердится напрочь – может, хоть потом наконец заблагоухает; жить в таком мире, каков он есть, просто невозможно. Несчастные людишки не чуют, как зловонна демократическая ложь, а вот вонь сортира они чуют, сучье вымя – и-эх! Вот она, правда: он бы все отдал, чтоб хоть секунду побыть настоящим графом. Ан не может, бедолага, – и-эх!
С к у р в и. Пощадите! Признаюсь. Сегодня утром при мне повесили осужденного мною графа Кокосинского. Януша, не Эдварда, не убийцу уличной девки Ривки Щигелес, а государственного казнокрада из Пэ-Зэт-Пэ, кабинет 18. Признаюсь: я завидовал, что его вздернули, да, я завидовал ему, настоящему аристократу. Конечно, если б до дела дошло, я бы и за девять лучей в короне повесить себя не дал – но в тот момент: завидовал! Он говорил, этот граф, а его рвало от страха, как мопса от глистов. «Смотрите, как в последний раз блюет – je dégobi[80]80
я блюю (фр.)
[Закрыть] – настоящий граф!» О – хоть раз иметь возможность так сказать – и умереть!..
К н я г и н я (фокстерьеру). Терусь, фу! Я просто таю от нечеловеческого наслаждения! (Поет – это первый куплет.)
Я из рода «фон унд цу» —
Приглянулась шельмецу.
Мчусь, как антилопа гну,
То подпрыгну – то взбрыкну!
Это мой первый куплетик сегодня с утра. Моя девичья фамилия Торнадо-Байбель-Бург. Вы, Роберт, понятия не имеете, что за наслаждение носить такую фамилию.
С к у р в и (изнемогая). Ах – а ведь когда-то и она была девицей! Мне никогда и в голову не приходило. Малюсенькой девчоночкой, дочурочкой-бедняжечкой. Эта ее в высшей степени безвкусная песенка умилила меня до слез. На меня такие вещи действуют сильнее, чем подлинное страдание. Чей-нибудь маленький стыдливенький фо-па до жути трогает меня, а на кишки навыпуск я могу смотреть без дрожи. Золотко ты мое единственное! О, как безмерно я тебя люблю. Страшно, когда дьявольское вожделение сливается воедино с нежнейшей сентиментальностью. Вот тогда самец готов – готё-о-у.
Падает с табуретки, прижимая к груди сапог. Сапожники поддерживают его, не выпуская из рук желтые цветы, полученные от княгини. Они, заговорщически подмигивая друг другу, прямо-таки ведрами хлещут нездоровую атмосферу.
I I П о д м а с т е р ь е (нюхая букет. Скурви пристроили на табуретке в очень неудобной для него позе – головой вниз). Страдалец, тоже мне! Вот я – да: я глотаю реальность помойными ведрами. Реальность нездоровую, как миазмы Кампанья Романа.. Потягиваю охлажденные помои через трубочку, как мазагран. Адская мука! Кишки обожжены, будто мне сделали клистир из концентрированной соляной кислоты.
К н я г и н я (риторически). Это уж слишком.
I I П о д м а с т е р ь е (упрямо). Нет, вы только подумайте: отчего я такой, а не иной? Неправда, что о другом существе я не мог бы сказать «я». Я мог стать ну вот хоть этой падлой (указывает на Прокурора), а я – грубо говоря – всего лишь какая-то обледенелая супервшивота или что-то вроде – на перевале дичайшего абсурда, где дух перемешан с плотью, а монады с автоматами – я, того, уж и сам не знаю... (Сконфуженно умолкает.)
С а е т а н. Нечего конфузиться, Ендрек! Все вранье – биологический материализм автора пьесы говорит о другом: это синтез исправленного психологизма Корнелиуса и дополненной монадологии Лейбница. Миллиарды лет соединялись и дифференцировались клетки только затем, чтобы такое мерзкое дерьмо, как я, могло сказать о себе – «я»! Или такое метафизическое проститутище княжеских кровей – к чему сюсюкать? – пся крев, пёсья мать ее, сука коронованная...
К н я г и н я (с укором). Саетан...
С а е т а н (возбужденно). Ирина Всеволодовна – вам еще Хвистек запретил присутствовать в нашей изящной словесности. Вот и приходится вам блуждать по бессмысленным пьесам, стоящим вне литературы, которых никто никогда играть не будет. Хвистек, скажу я вам, не выносит русских княгинь, терпеть их не может, бедняжка. Ему бы хотелось каких-нибудь белошвеек, стенографисток – я знаю? Но для меня – уж это слишком! Для меня, для нас сойдут и вонючие подзаборные шлюхи, и еще более вонючие площадные или какие-нибудь дворовые матроны: все эти наши бабки, да тетки, да дядькины жёнки... и-эх!
I I П о д м а с т е р ь е. Мастер, это уже какое-то классовое самобичевание. Ваше счастье, что вы матерей не помянули, а то б я вам по морде дал.
С к у р в и (с дикой, безумной улыбкой). Классы классов! Ха-ха-ха! Логистика классовой борьбы. Классовая борьба классов против самих себя. Сам себя презираю за этот убогий каламбур, но ничего лучше мне не придумать.
К н я г и н я (холодно). Зачем тогда вообще каламбурить?
С к у р в и. Дурной пример наших литературных острословов: их шуточки давно прогоркли, а они, канальи, всё каламбурят. Всё – хватит: надо ж кем-то быть и в этой западне – встать либо на ту сторону, либо на эту. От страха перед ответственностью – этого моего страха – я того и гляди упущу самый лакомый кусочек отпущенной мне жизни. А будь я графом, мог бы просто наблюдать со стороны.
К н я г и н я. Только в Польше проблема графского титула стоит так остро. Но довольно об этом – шлюс, чудесные вы мои ребятки! (Целуется с Подмастерьями.)
С к у р в и. Как же можно так говорить: «чудесные вы мои ребятки» – брррр... (Брезгливо содрогается и цепенеет.) Господа, да это ж верх безвкусицы и моветона! Я брезгливо содрогаюсь и цепенею. (Что и делает.)
I I П о д м а с т е р ь е (утираясь). Так что за эти туфельки, госпожа княгиня, я с вас денег не хочу, а извольте-ка мне десяточек пламенных поцелуев, навроде тех, что у Чикоша с мадам де Корпоне в том романе Иокаи, что я в детстве читал.
К н я г и н я (направляя на него маленький серебряный браунинг). Знаю: «Белая женщина» – ты получишь дюжину пуль, как тот самый Чикош.
I П о д м а с т е р ь е (в высшей степени изумленно). Ну и ну, так выходит, как пишут все эти безмозглые литературщики, подрывающие устои здравого смысла, все эти адепты нечистого монизма, сакра ихняя хлюздра: «жизнь это искусство, а искусство это жизнь»! Так у нас же тут, на нашей малой сапожницкой сцене, того, и так всё есть – все, чего только эти обормоты из себя ни вымудрят! Я изумлён в высшей степени!
С к у р в и (вдруг придя в себя, поднимается). Хе-хе!
С а е т а н. Гляньте-ка: снова захехуекал. Небось опять чего-нибудь изобрел, чтоб сызнова над нами возвыситься. Качели какие-то, а не человек. Однако, он тоже не такой уж сытый – говорю вам: он же, бедолага, просто ужасно мучается, как говаривал Кароль Шимановский, похороненный недавно на Вавеле, а не на Скалке, как хотелось бы некоторым, – все же Скалка – это для местных знаменитостей, а не для подлинных гениев.
С к у р в и (холодно, обрывая зубами цветы). Хочу и буду! Я встану во главе их и открою вам чертог моей души: вы узрите величайшего представителя нашего сословия – бедной, демократической, не до конца добитой буржуазии. Я должен! Я преодолею желудочные проблемы, после чего ваш вопрос будет рассмотрен на высшем духовном уровне. Вы еще будете мне руки целовать, вы, братья мои по духовной нищете.
С а е т а н. Да никто ж тебя ни о чем не просит, ты, Робер Фратерните! Нам интеллигенты без надобности – ваше времечко прошло. Из вибрионов мы восстали – в вибрионы и вернемся. Я люблю животных. Я, двоюродный брат мезозойских гадов, силурийских трилобитов, свиней и лемуров – чувствую связь со всем живым во Вселенной – такое редко бывает, но это правда! И-эх! И-эх! (Впадает в экстаз.)
К н я г и н я (восторженно). Ах, Саетан, как же я вас люблю за это! Люблю вас именно таким – дурно пахнущим, вшивым. В сердце старейшего сапожника нашей планеты сияет солнце змеиной любви ко всему на свете. Пожалуй, когда-нибудь я стану вашей – только ради формы, для фасона, для шика – но лишь один-единственный разок.
С а е т а н (поет на мотив мазурки).
К н я г и н я (посыпая его цветами). Я отвечу – я! Только не надо больше мелодекламаций – это у вас выходит так безвкусно, что просто ужас. Мне за вас стыдно. Я-то другое дело, я могу себе это позволить, я ведь, того, популярно выражаюсь, княгиня – ничего не поделаешь. (Кричит.) Эй! Эй! Здравствуй, пошлость! Уж теперь-то я тобой натешусь всласть – за всю беду: мою, моих предков и их задков. Даже бедняга Скурви не кажется мне сегодня таким ничтожеством.
I I П о д м а с т е р ь е. В проблеме предков что-то есть! Родители кое-что значат – это ж вам не инкубатор, а стало быть, и дальние предки – тоже не хухры-мухры, черт возьми! Только не надо доводить до абсурда, как все эти аристократы да деми-аристоны. Во как: это единственное, в чем я рекомендую соблюдать умеренность. Хуже нет, чем польский аристократ, – еще хуже, пожалуй, только польский полуаристократ, который уж и вовсе из ничего выпыживается. Гены, вишь, у него. Так опять же – и у доберманов, и у эрдельтерьеров...
I П о д м а с т е р ь е (прерывает его). А ты попробуй-ка, браток, хоть что-то в этой жизни не довести до абсурда: ведь всё бытие, святое и непостижимое – это один великий абсурд – борьба чудовищ, только и всего...
К н я г и н я (пылко). А все потому, что беззаветно уверовать в Бога не...
Саетан бьет ее по морде, да так, что вся Княгиня буквально обливается кровью (пузырек с фуксином). Княгиня падает на колени.
Зубы мне выбил – зубки мои, как жемчужинки! Это ж настоящий...
Саетан бьет ее еще раз, она умолкает и только всхлипывает, стоя на коленях.
С к у р в и. Иринка! Иринка! Теперь уж никогда мне не выбраться из лабиринта твоей лунной души! (Декламирует.)
I П о д м а с т е р ь е. А утречком придешь смотреть, как рыгают от страха приговоренные тобою к смерти живые трупы. Этим ты и живешь, паскуда! А перед смертью еще и кровушку у них отсасываешь – вампиризируешь их: You vampyrise them. You rascal![83]83
Ты сосешь из них кровь. Ты, мерзавец! (англ.)
[Закрыть] Я был в Огайо.
С к у р в и. Меня уже не ранят эти речи. То, чего вы хотите добиться гнусным, грязным, паскудным способом, я совершу в сказочном сне о себе и о вас: всё в чудесных красках, и я – в шикарном фраке от Сквары, благоухая одеколоном «Калифорнийский Мак», как истинный денди, – спасаю этот мир одним волшебным заклятьем, но не по-вашему, а за счёт деградации культуры. Еще не утрачена магическая ценность слов, в которую верили наши поэты-пророки, а сегодня продолжают верить логистики и гуссерлисты. Я говорил об этом еще накануне кризиса: смотри мои брошюрки – которых, notabene, так никто и не читает.
К н я г и н я (на коленях). Господи, какой же он зануда!
С к у р в и. Аристократия выродилась – это уже не люди, а призраки! Слишком долго человечество таскало на себе этих призрачных вшей! Капитализм – злокачественная опухоль, он загнивает и разлагается, заражая гангреной организм, его породивший, – вот вам нынешняя общественная структура. Необходимо реформировать капитализм, не посягая на частную инициативу.
С а е т а н. Что за галиматья!
С к у р в и (лихорадочно). Либо вся земля добровольно преобразится в единую, элитически самоуправляемую массу, что почти немыслимо без финальной катастрофы, – а ее следует избежать любой ценой, – либо необходимо застопорить культуру. У меня в башке просто жуткий хаос. Создать объективный аппарат власти – элиту всего человечества – невозможно: избыток интеллекта лишает дерзости в поступках, самый премудрый мудрец ничего не додумает до конца из страха хотя бы перед собственным безумием, но и это ничто в сравнении с реальностью. Страх перед самим собой – не легенда, а факт – человечество тоже боится себя, человечество как целое устремлено к безумию – единицы это сознают, но они бессильны. Непостижимо бездонные мысли... Если б я мог оставить либеральный тон и на время с этими мыслями слиться, чтобы потом их разложить и проникнуться ими! (Задумывается, сунув палец в рот.)
К н я г и н я (встает, вытирая платком окровавленные губы). Скучно, Роберт. Все, что вы говорите, – бред социального импотента, не имеющего серьезных убеждений.
С к у р в и. Ах так? Ну, тогда до свиданья. (Выходит, не оглядываясь.)
I I П о д м а с т е р ь е. Однако у этого мопсястого прокурора гениальное чувство формы: ушел как раз вовремя. И все-таки он слишком умен, чтоб быть сегодня кем-то: сегодня, чтобы чего-то добиться, как ни крути, а надо быть немного идиотом.
К н я г и н я. Ну а теперь приступим к нашим обычным, повседневным делам. Продолжайте работу – час еще не про́бил. Когда-нибудь я превращусь в вампирицу и выпушу из клеток всех монстров мира. Но он, большевизированный интеллигент, желая выполнить свою программу, сперва должен подавить всякое стихийное общественное движение. Он все рассует по полочкам, но при этом половине из вас головы свернет во имя надлежащих пропорций мира. Скурви – единственный, кто имеет влияние на лидера «Бравых Ребят» Гнэмбона Пучиморду, но он никогда не хотел это влияние использовать во имя абсолютного общественного лесеферизма, лесеализма и лесъебизма. (Садится на табуретку и начинает лекцию.) Итак, любезные мои сапожники: по духу вы мне даже ближе, чем механизированные, согласно Тейлору, фабрично-заводские пролетарии – в вас, представителях кустарных ремесел, еще жива первобытно-личностная тоска лесных и водяных зверей, которую мы, аристократы, абсолютно утратили вместе с интеллектом и даже самым примитивным, мужицким, так сказать, разумом. Что-то у меня сегодня не клеится, но, может, пройдет. (Откашливается – долго и весьма многозначительно.)








