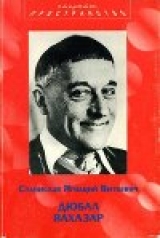
Текст книги "Дюбал Вахазар и другие неэвклидовы драмы"
Автор книги: Станислав Виткевич
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Они питаются взаимоисключающими чужими мыслями и не улавливают моментов их перехода в противоположности; просто меняются вместе с произносимым словом. Здесь все могут всё: причинность в поведении отсутствует, оцепенение исключает общение, в мозгах идут реакции, рождающие энергию непродуктивного действия. Герои, от мала до велика, не знают, кто они такие. Они – лишь проекции чужого взгляда, их человеческая внешность часто скрывает животную суть. Бывает, они перебрасываются масками, напяливают личины, противоположные их истинной роли. Порой словно бредят, издеваясь над языком, коверкая его, невразумительно бормоча. Все высказывания тут же попадают в компрометирующий контекст: ирония гасит голоса, за видимостью богатства открывая убожество. От скуки люди играют в трагедию, произнося слова, в которые сами не верят.
Необогащенная, «житейская» речь была бы тут бессильна. Идет игра на всех лексических регистрах, снята обособленность стилей, изжит страх эклектизма, все сочетаемо со всем. Причудливая знаковая вязь, синтаксические нагромождения, архаизация, неологизмы, макаронические имена-кентавры, иноязычные вкрапления, арго, звукоподражательная брань – речевой камертон для настройки восприятия на специфику фантазии Виткевича, на его манеру комически-сниженного выражения серьезных проблем.
Нарочито штампованные герои «неэвклидовых драм», «сферических трагедий» и «комедий с трупами» говорят языком автора об идеях, которые он сталкивает, чтобы обнажить их неполноту. Драмы Виткевича – театр в театре, где выступают знаки знаков знаков: густая сеть намеков, зачастую пародийных отсылок к стилю эпохи, мир в двойных кавычках, полигон интеллектуальных страстей. Его фантазии – театрализованный процесс мышления. Невероятная смесь бульварного фарса, будуарной драмы, ученого трактата и чистого нонсенса – такова саркастичная ткань драматургии, которую он рассматривал как литературную основу для театра мысли, философской антиутопии.
Автор, как и его герои – страдающий посредник в распре между старым и новым временем. На фоне событийной фантасмагории в его «метафизическом сверхкабаре» (выражение Т. Боя-Желенского) идет философское расследование причин деградации. Авторская позиция выражена здесь не только в столкновении действий и реплик, а порой и прямо – через экспозицию, ремарки, прологи, сноски. В своих утрированно-литературных пьесах автор высмеивает и героев, и самого себя, и театральную традицию (акцентируя банальность используемого приема). У него все больше трюков и аттракционов: Виткевич словно хочет доказать сценичность своих пьес и опровергнуть легенду об их некассовости. Автор-поэт – вне и над текстом: он словно видит сон о собственном кошмаре. Он спускается к нам, чтобы, страдая вместе с нами, перекинуть мостик к потаенной сути.
Конец истории – вечно модная тема, ее интерпретаторам несть числа. Среди них не последний – Виткевич со своими антиутопиями, рисующими затяжную, полную потрясений стадию перехода к «новому миру», осложненного деструктивными матрицами поведения людей. В произведениях Виткевича вскрыта растущая психическая опухоль – отсюда их нарастающая образная емкость. Его пьесы не привязаны к конкретному месту и времени; редкими исключениями подчеркнут контраст с фантастичностью происходящего. Многозначность и неясность – знак неразрешимости противоречий. Никакое истолкование не исчерпывает смысла этих текстов, их значимость растет по мере развития реальности. То, что современники порой принимали за графоманию, оказалось предвидением, дающим проекции на множество ситуаций.
Подняться над эмпирической правдой ради полного знания – так Виткевич понимал смысл искусства. Его пьесы – как зрелищные, так и лишенные внешней эффектности и событийного размаха, – организованы по принципу дополнительности, взаимоопровержения трактовок, а речевая ткань их так плотна, что иногда уместней назвать их сценическими трактатами. Диалог – средство смыслового контрапункта, с точки зрения действия он зачастую не функционален. События развиваются как бы сами по себе.
Благодаря тонкой возгонке жизненного материала пьесы Виткевича непрямолинейны, лишены навязчивой аллюзионности, хотя автор отнюдь не чурался проблем эпохи. Они подтверждают уверенность писателя в том, что если театр не прикован к жизни, его общественное значение только возрастает. Динамическая гармония диссонансов выявляет в реальности странное, нелепое, переродившееся. Драматургия Виткевича – метатекст, изобилующий смысловыми сцеплениями, пронизанный сетью внутренних связей, многообразно включенный в контекст его творчества и мировой культуры.
Виткевич смешивает, точно алхимик, множество компонентов, чтобы получить нечто новое. Свобода обращения с традицией обоснована его пониманием художественной ценности: «Новизна формы – не только в материале как таковом, но в его организации. В театре мы оперируем и будем оперировать определенными известными ранее элементами действий и высказываний». Блеск эффектной формы для него фактически несравненно менее значим, чем красота игры смыслов. Открытия совершаются словно невзначай, на фоне серийных сценических положений.
Смешение пространственно-временных пластов, метафоризм и асимметрия визуальной среды, нарушения причинности, неравномерность темпа, эссеизм диалогов и фантастика речевой экспрессии, мигающий свет и загадочные звуки за кулисами, сочетание грубой театральности с утонченной интеллектуальностью, – все служит тому, чтобы подчеркнуть: перед нами театр иной, отличный от воссоздающего, он выражает глубинные противоречия человеческой природы. Не только герои чувствуют себя здесь «как во сне».
Драматургия Виткевича основана на амбивалентном, трагикомическом видении мира. Демонстрируя неизбежность крушения замкнутой антиреальности, Виткевич дал прогноз от противного, построил образ нарастающего противоречия, исследовал гипотетическую катастрофу в надежде ее предотвратить. Его метод – объединение противоположностей – соответствует самой жизни, ироничной, самоопровергающей в каждом проявлении. Гротескная многослойность образов становится отрицанием банальности, позволяет писателю добиться неустойчивого равновесия смыслов, идейной открытости и тем самым выразить надежду на выход из безвыходного положения.
Открытие Виткевича мировым театром стало своего рода находкой «недостающего звена». Прежде в общей картине развития литературы оставалось отчасти вакантным место, условно говоря, между Жарри и Беккетом. Ныне, наряду с другими, его занял Виткевич, этот, по словам М. Эсслина, драматург колоссальной изобретательности», «одна из самых блестящих фигур европейского авангарда». Роль Виткевича в литературе, полагает Эсслин, обеспечена тем, что он «подхватывает и продолжает традицию сна и гротескной фантазии, подтвержденную поздним Стриндбергом и Ведекиндом; его идеи точно параллельны идеям сюрреалистов и Антонена Арто, достигшим апогея в шедеврах театра абсурда сороковых-пятидесятых годов: у Беккета, Ионеско, Жене, Аррабаля».
Это был мастер «духовных диверсий» (как говорил он сам) – рискованной игры, которая не всякому по нраву. Судьба игрока закономерна: его подозревают в шулерстве. Программно выраженное неравенство правды сцены и правды жизни оказалось нелегким для усвоения; с трудом воспринимались современниками и драмы Виткевича. Критикам они представлялись порчей театра. Предметом постоянных недоразумений была теория; за нее писателю накрепко прилепили ярлык апологета бессмыслицы. Однако вопреки видимости многое в современном Виткацию театре было подсказано его творчеством. И это притом, что современники вообще не знали главных пьес Виткевича – большая часть их была издана через двадцать с лишним лет после смерти автора (да и по сей день не все они разысканы и опубликованы).
Он был «на слуху», но ставили его не часто. Драматургия Виткевича, в общем, разминулась с театром при его жизни, хотя порой за эти пьесы брались неплохие режиссеры, а играли в них первоклассные актеры. Виднейший польский постановщик Леон Шиллер не пожелал иметь дело с «маньяком», а другой великий – Эдмунд Верцинский – заинтересовался Виткацием, но быстро к нему охладел, так ничего и не поставив. Не избалованный вниманием театров, Виткевич писал: «Если все же кто-нибудь из театральных директоров решится на постановку одной из моих пьес, я попросил бы господ режиссеров и актеров: а) о том, чтоб реплики звучали как можно более бесчувственно и риторично; б) при выполнении предыдущего условия – о том, чтобы темп игры был самым что ни на есть безумным; в) чтобы предельно точно соблюдались мои «режиссерские» указания относительно мизансцен, а декорации соответствовали описаниям; г) чтобы никто не стремился сделать что-то более странным, чем есть в тексте, за счет декоративно-сентиментально-биологических комбинаций и ненормального произнесения звуков; д) о том, чтобы купюры были сведены к минимуму».
Пожелания автора в основном игнорировались. В работе театра с его текстами сочетались две тенденции, закрепившиеся на годы: с одной стороны, подгонка к превратно понятой идее чистой формы – тавтологическое стремление сделать пьесу еще более странной и экстравагантной, чем она есть; с другой – снижение и приземление, попытка выжать из текста максимум правдоподобия, снятие гротеска через натуралистическую психологизацию и скатывание к бытовому комизму. «Они отлично играют, но все еще не понимают, что такое гротеск», – заметил как-то Виткевич на репетиции своей пьесы. «Я словно снаряд огромный взрывчатой силы, который спокойно лежит на лужайке. Но пушки всё нет, и некому мною выстрелить. А сам я не могу – мне нужны люди», – эти слова одного из героев Виткевича – будто о нем самом. Лишь немногие спектакли вызвали одобрение автора, в большинстве же он видел искажение своего художественного замысла.
Он сам предложил альтернативные решения, дважды предприняв попытку создать собственный театр-студию в Закопане. Первой акцией «Формистического театра» стал «футуро-формистический костюмно-магический бал-маскарад» в начале 1925 года. В том же году состоялись премьеры четырех пьес Виткевича: «Новое Освобождение», «Сумасшедший и монахиня», «В маленькой усадьбе», «Прагматисты». Режиссером был сам автор. В 1926 он – впервые в Польше – поставил теми же силами «Сонату призраков» Стриндберга, а также повторил постановку пьесы «В маленькой усадьбе» в львовском Малом театре. В 1927 Формистический театр под руководством автора приступил к репетициям «Метафизики двуглавого теленка»[1]1
Большинство перечисленных пьес в переводе на русский см. в кн.: Виткевич С. И. Метафизика двуглавого теленка и прочие комедии с трупами. М.: Вахазар, 1999. (См. также с. 352)
[Закрыть], но до премьеры дело не дошло из-за распада труппы. В 1938 году, заручившись поддержкой друзей – сотрудников первой студии, Виткевич основал «Товарищество Независимого театра» и начал репетировать ту же пьесу. В 1939 к постановке планировались его «Каракатица» и «Там, внутри» Метерлинка, однако второй, предвоенный театр Виткевича не показал ни одного спектакля.
Воскресение Виткевича на подмостках произошло сразу после его смерти – в 1942 году, в оккупированной нацистами Варшаве: в подпольном университетском театре молодые поэты поставили его драму «Сумасшедший и монахиня», посвященную «всем безумцам мира». Затем в течение пятнадцати лет пьесы Виткевича не появлялись на сцене. Долго не выходили и книги... С конца 50-х, после почти полного забвения, начался этап признания и успеха. Виткаций «реабилитирован», даже по-своему канонизирован, стал автором хрестоматийным – хоть и «на правах сумасшедшего», как метко заметил его издатель. Наконец попали на сцену все драмы – парад премьер длился до 1985 года; инсценирована проза, многое экранизировано. С середины 60-х в польском театре нет сезона без Виткевича.
Важная роль в выработке постановочного стиля, адекватного драматургии Виткация, принадлежала художнику и режиссеру Тадеушу Кантору. С премьеры «Каракатицы» в его краковском театре «Крико-2» в 1956 году начался второй виток сценической истории драм Виткевича. Постановка послужила своего рода образцом стиля для многих режиссеров, сам же Кантор на двадцать лет почти исключительно посвятил себя интерпретации его творчества, исходя из принципа: не ставить Виткевича, а мыслить Виткевичем. Существен и опыт Юзефа Шайны, стремившегося в своих постановках, говоря его словами, не отражать мир Виткевича, а жить в его мире. Созданный Шайной варшавский театр «Студио» со временем вырос в Центр искусств имени Виткевича. А в год столетия драматурга в Закопане открылся театр его имени, которому удается сочетать идеи патрона с кропотливой сценической герменевтикой и игровой стихией театра-общности.
Ежи Гротовский Виткевича не ставил, но, отвечая на вопрос журналиста, чей портрет он повесил бы у себя в кабинете, назвал «ради предостережения и памяти» четверых «мучеников театра»: Мейерхольда, Арто, Станиславского и Виткевича, «который отнял у себя жизнь, поскольку не мог вынести мысли об обществе, достаточно здоровом для того, чтоб ему оказалась чуждой... потребность в более высоких и сложных формах психической жизни». Гротовский, по его словам, именно от Виткевича научился тому, что театр может быть религией без религии; он признал Виткевича предтечей своей концепции театра.
Работа этого художника оказалась уникальной по значению для искусства его страны. Справедливо видя в Виткевиче фигуру, соразмерную крупнейшим деятелям мирового искусства, польский центр Международного института театра присуждает премию его имени. Для польской литературы гротеска Виткаций – признанный мэтр. С его именем эта традиция связана настолько тесно, что влияние писателя почти автоматически усматривается во всех позднейших явлениях. Драматургам иной раз приходилось даже отнекиваться, отрицая инерцию преемственности (нечто в этом роде произносили и Гомбрович, и Галчинский, и Ружевич, и Мрожек).
Театральные «диверсии» Виткация не эпатажны. В них нет рыночной дешевки. Они продиктованы неугомонной совестью, неуемной пытливостью ума. Неутолимой жаждой настоящего. Ему было что сказать, поэтому с его именем считаются, а пьесы ставят во всем мире. Виткевич заговорил на двух десятках языков, на ряде из них его драматургия и проза представлены почти исчерпывающе полно. В России он еще почти неизвестен. Его книга издана лишь однажды, сценическая история едва началась. А значит – всё впереди. Время «диверсий» против убожества буден и нищеты здравого смысла не пройдет никогда. Чем дальше в будущее, чем яснее неизбывность беды людской и неисчерпаемость форм абсурда, тем более ценен тот экстракт мужества и сопротивления, который добыт Виткацием.
Андрей Базилевский
ОНИ
Драма в двух с половиной действиях
Действующие лица
Г о с п о д и н К а л и к с т Б а л а н д а ш е к – весьма интересный темный блондин. Невысокий, худощавый, 36 лет. В полудействии, в начале пьесы, одет в темную пиджачную пару. В I действии – в жакете, во II – во фраке. Очень богат, так называемый знаток «изобразительных искусств». Вообще-то застенчив, но бывают с ним приступы поистине козлиного упрямства. Бритый; проборчик посредине.
Г р а ф и н я С п и к а Т р е м е н д о з а – актриса. Живет себе с Баландашеком, собирается за него замуж. Ведет бракоразводный процесс со своим мужем графом Тремендозой, которого уже много лет в глаза не видела. Светлая блондинка с высокой прической, с двух сторон локоны. Глаза выцветшие, немного навыкате. На всем лице печать скрытого страдания. Очень красива. 28 лет.
М а р и а н н а С п л е н д о р е к – кухарка. Вполне прилично одета во все фиолетовое, волосы каштановые. Очень хороша собой, 39 лет. Черный кружевной платочек, который госпожа Сплендорек то повязывает на голову, то снимает.
Ф и т я – прислуга. Хорошенькая девочка-подросток, 18 лет. Одета в черное. С белым фартучком.
Д и р е к т о р т е а т р а ( Г а м р а ц и й В и г о р ) – господин во фраке с накинутой на плечи роскошной шубой. Гривастый блондин с того же цвета бородой, подрезанной снизу по прямой линии. Джентльмен высшей пробы.
Двое Л а к е е в – во фраках. Разносят прохладительные и тонизирующие напитки во II действии.
Теперь «о н и»:
М е л ь х и о р А б л о п у т о – полковник, 55 лет. Пышные, с проседью, усы, черная седоватая шевелюра. В I действия – im Zivil[2]2
в гражданском (нем.).
[Закрыть]. Редингот табачного цвета. Брюки в мелкую клетку (пепита). Лаковые туфли. Белый широкий галстук из тонкой ткани. Нос приплюснут. Милейший человек: готов ради вас на всё. Во II действии – в полной униформе красных гусар президентской гвардии: алый мундир, обшитый золотым галуном, белые рейтузы, лакированные сапоги со шпорами. В руке черный меховой кивер с белым султаном. Говорит густым усато-бородатым голосом, хотя у него только усы, а никакой бороды нет. Акцент восточного пограничья.
Г л и н т в у с ь К р о т о в и ч к а – поручик жандармерии. Милый мальчик 28 лет. Довольно деликатный блондинчик. Чрезвычайно вежлив, но под этим прячет несгибаемый характер и стальную волю. В I действии im Zivil. Во II – в мундире, описанном ниже.
П р о т р у д а Б а л л а ф р е с к о – дама 68 лет. Матронистая лягушенция. Жабообразная, седовласая. Во II действии одета в черно-фиолетовое декольтированное платье, в I – в такое же, но без декольте. Говорит властно. Жена лидера партии Автоматистов.
Г а л л ю ц и н а Б л я й х е р т – худенькая старушка 66 лет. Высокая, говорит негромко, но убедительно. Жена президента. Страшнейшая из его галлюцинаций.
С о л о м о н П р а н г е р – финансист. Коренастая скотина с квадратными плечами. Неслыханный деспот. 46 лет. Шатен. Прическа ежиком, коротко стриженные усы. Светло-серый костюм и желтые американские штиблеты в I действии, фрак во II.
Р о з и к а П р а н г е р – его супруга. Брюнетка румынского типа. Бывшая шансонетка, 22 года. Миловидная и соблазнительная кокетка высшей марки. В I действии одета в черное с красным, во II – на ней красное бальное платье и соответствующие аксессуары.
Т р о е С е к р е т а р е й:
а) Г р а ф М а ч е й Х р а п о с к ш е ц к и й – брюнет с усиками,
б) Б а р о н Р у п р е х т Б е р е н к л о т ц – бритый блондин,
в) М а р к и з Ф и б р о м а д а М и о м а – брюнет с бородкой клинышком.
Молодые люди, изящные во всех смыслах. Одеты в I действии в жакеты, во II – во фраки.
С е р а с к е р Б а н г а Т е ф у а н – основатель новой религии Абсолютного Автоматизма. Большой друг полковника Аблопуто. Одет: в I действии и полудействии – в широкие шаровары и желтую рубаху, подпоясанную красным кушаком с кистями. На ногах лапти. За поясом ятаган. Во II действии во фраке. Гигантская черная куафюра. Орлиный нос и черные усы. Худой, высокий. Лицо черное от застрявших в нем крупинок пороха. Враг искусства.
Ж а н д а р м ы – одеты как Кротовичка во II действии, т. е. в черные мундиры и черные же рейтузы с зелеными лампасами. На головах стальные шлемы. Их по меньшей мере человек восемь. Карабины с примкнутыми штыками.
Т р и п р е л е с т н ы х Д а м ы – в бальных платьях, на балу у Баландашека. Первая: зеленое платье. Вторая: сине-фиолетовое. Третья: розовое.
Пол-действия
Сцена представляет гостиную на вилле Баландашека, в каких-нибудь пяти километрах от центра столицы. В глубине, чуть справа, дверь в бальную залу, занавешенная голубой портьерой. Слева от двери мебельной гарнитур времен Людовика XIV: стол, диван и кресла. Темно-вишневая обивка. Направо и налево двери, также занавешенные голубыми портьерами. Чуть левее, ближе к зрительному залу, наискосок – голубое канапе изголовьем налево, ногами к авансцене. У левой двери, ближе к зрителям, какая-то штуковина, заставленная безделушками. Между нею и дверью – окно. Справа стол и три беспорядочно стоящих кресла. На полу ковер – темно-красный с голубым. На стенах картины: прямо – большое полотно с обнаженными фигурами (копия какого-то старого мастера). Левее – футуристская и кубистская «мазня». На левой стене китайский портрет и японские гравюры, на правой – огромная кубистическая композиция Пикассо. Вечер. Сверху льется мягкий молочно-опаловый свет. Портьера на двери полуоткрыта. В проеме видна мрачная глубина бальной залы. На диване сидит господин Б а л а н д а ш е к. По левую руку от него сидит С п и к а, держа в руке роль. Она одета в жемчужно-серое платье с чем-то оранжево-красным.
С п и к а (перелистывая роль). Спятил он, что ли, этот директор театра? Тут ведь нет абсолютно никакого смысла. Он говорит мне – ты только послушай, Каликст: «Дендриты жизни уносят мой дух в беспредельность вечного стыда перед самим собой. Неужели я нужен тебе таким?» А я ему на это: «Я знаю, ты равен себе лишь в преодолении тяжести, небытие которой пронизано голосами...»
Фразы в кавычках, цитируемые из роли, произносит, занудно растягивая.
Б а л а н д а ш е к. Знаю, знаю! Мы уж столько раз говорили об этом. Чистая Форма в театре! Новый блеф ненасытных оборванцев демократизированного, опустившегося искусства. На самом деле этому никогда не бывать, все неизбежно кончится полным крахом. Сон – событие чисто индивидуальное, коллективных сновидений на сцене не создать никому. Они там, в своем тайном комитете пропаганды упадка искусства, знают это – если, конечно, такой комитет существует, в чем я сильно сомневаюсь – и потому так упорно поддерживают этот блеф. Если все это правда, то твой директор – просто наемный убийца и ничего более.
С п и к а. Искусство театра не может прийти в упадок. Мы – актеры – спасем театр. Наш Синдикат...
Б а л а н д а ш е к (обрывает ее). Да что может ваш Синдикат против организованной государством или тайным комитетом подрывной работы? Создавать – дело трудное. А организовать упадок – что может быть легче? Само существование есть перманентный упадок чего-то. Только вот никак не пойму – чего же именно. Легко только бредить à la Бергсон.
С п и к а. Оставь ты в покое философию. К утру я должна выучить все эту галиматью. Ох! Какая скука. (Читает совершенно монотонно.) «Я знаю, ты равен себе лишь в преодолении тяжести, небытие которой пронизано голосами призраков прошлого, убитых в закоулках трупно-бесстрастной ночи. Молчи! Ты узнаешь любовь жестокую, исполненную бессилия и упоительной боли. (Обольщает его.)» (Говорит.) О, ну и как же мне его обольщать? Покажи-ка, Баландашек.
В дверях бальной залы появляется госпожа С п л е н д о р е к.
Б а л а н д а ш е к (оборачиваясь). Все хорошо; иногда до того хорошо, что я прямо чувствую, как хорошо. Просто слезы на глаза наворачиваются от этого безличного блаженства, которым, кажется, напоено все вокруг. (Марианне.) Садись же, чудная моя, дражайшая кухарочка. (Спике.) Пересядь в кресло, позволь мне насладиться обществом нашего доброго духа, нашей несравненной госпожи Сплендорек.
Спика молча проходит направо и садится в кресло, наблюдая сцену между Баландашеком и Марианной.
М а р и а н н а (садясь на место Спики). Совсем я нынче забегалась. Но зато принесла: моркови, горошка – по два фунта, совершенно свежий огурчик, фунт сухариков для фарша. (Баландашек припадает к ее «лону».) И что важнее и лучше всего: изюм из Минданао – каждая ягодка с кулачок младенца.
Б а л а н д а ш е к (ластясь к ней, как котенок). О, до чего же чудесно ты пахнешь айвой, кухарочка. Любоваться на шедевры, висящие вперемешку на одной стене: Джорджоне рядом с Ван-Веем и Пикассо, чьи кубы ошалели от соседства с натуралистической водицей Таулова, – и предвкушать состряпанный тобою обед, вдыхая запах айвы, смешанный с ароматом «Шевалье д’Орсэ». О, как хорошо, как хорошо!
М а р и а н н а (слегка его отстраняя). А вот в городе говорят, что комитет по уничтожению нового искусства – знаете? – такое подразделение тайного правительства – приказал ставить комедии дель арте чистой формы во всех театрах, кроме самых дрянных балаганов.
С п и к а (с ужасом). Как это? Комедии дель арте? Как такое может быть? Я же завтра играю в пьесе «pure nonsense»[3]3
«чистого вздора» (англ.)
[Закрыть] под названием «Независимость треугольников».
Б а л а н д а ш е к (не шевелясь). Ты отравишь мне вечер, Марианна! Помни: однажды отравленный вечер уже не вернуть. Лучше подай-ка те грибочки на капустном рассоле и раздавим-ка под это дело бутылочку вермута. Иногда я совершенно не верю в существование тайного правительства.
С п и к а (Баландашеку). Прекрати! (Марианне.) Продолжай. Для меня именно это – важнее всего. Мало им того абсурда, который и так есть. Они еще новые штучки выдумали!
М а р и а н н а. Na, hören Sie mal, Frau Gräfin[4]4
Да вы только послушайте, госпожа графиня (нем.)
[Закрыть]: актеров собираются выпускать на сцену абсолютно бесконтрольно. Кто в чем одет, будь ты трезв или пьян. А дальше уж вам самим комедии ломать – кому какая в голову взбредет: один то, другой сё – так и будете друг над дружкой измываться да куролесить до последнего издыхания. И это должно означать свободную Чистую Форму и заменить собой древние церемонии в честь Кибелы, Аттиса и Адониса, все те истории, о которых вы книжку написали, добрейший мой господин Баландашек.
Б а л а н д а ш е к (вскакивает). Нечего и говорить – вечер ты мне отравила, кухарочка! А ну давай те грибки – может, хоть они меня утешат. Ведь она-то теперь не оставит меня в покое.
Показывает на Спику.
С п и к а (вставая). Да тебе этого просто не понять. Вы, мужчины, способны играть в чем попало. Вам не надо себя отыгрывать. А я могу отыграть себя только в жестких рамках, когда режиссер меня держит, как собаку на поводке, когда я знаю, кого играю, черт возьми.
Б а л а н д а ш е к. Да уж, да уж. Вне рамок можешь отыграться и дома, устраивая сцены мне или Фите, а то и животным – Джоку и Бизе. Бедный Бизя до сих пор ходит с перевязанным хвостом.
С п и к а. Ты отвратителен. Ты совершенно не понимаешь меня как артистку. Ты – всего лишь эгоистичный, эстетствующий в художествах самец...
Б а л а н д а ш е к. Ну, довольно сцен! Бога ради, хватит! (Марианне.) Подавай грибки, кухарочка! Вот сюда. (Показывает направо.) Маленький столик, немножко грибков и бутылочку вермута. Только поживее. Может, оно еще вернется, это ощущение бесконечной доброты вселенной, эта иллюзия улыбки вечного довольства на лике самого бытия, в мягкой пропасти бесконечного блаженства.
М а р и а н н а. Ладно, ладно. Только не ссорьтесь, детки мои.
Выходит в правую дверь.
С п и к а. Каликст! Я тебя люблю. Надеюсь, ты мне веришь. Но иногда мне с тобой до того тоскливо, до того тоскливо, что хочется натворить что-нибудь ужасное или чтоб меня саму кто-нибудь замучил, только б избавиться от этой невыносимой тоски.
Б а л а н д а ш е к (хватаясь за голову). Довольно, умоляю! Сегодня – единственный милый вечер за последние месяцы. Было так славно, так хорошо! И ты обязательно хочешь мне все испортить.
С п и к а. Твоя изобразительная эстетика, Баландашек, сделала тебя бесчувственным. Иногда ты мне противен с этим своим вечным: «хорошо, хорошо, как хорошо». (Передразнивает.) Подумай, скольким людям на свете в эту минуту плохо. Подумай, сколько муки, страданий и мерзости во всем нашем якобы идеальном обществе.
Б а л а н д а ш е к (поучающе). Данное общество хорошо лишь постольку, поскольку, будучи его членом, ты не чувствуешь, что ты его член. Все равно что платье на женщине: когда хорошо сшито, женщина в нем – как голая. Такое платье, как твое, как все платья, придуманные мною для тебя – эти наряды, которые доводят публику до безумия. (Все более страстно.) Ты в них как голая – понимаешь? Сразу и голая, и одетая – ох! Что за извращенность! (Придвигается к ней; Спика отшатывается за столик, в узкий проход между ним и стеной.) Почему ты убегаешь, Спикуся? Единственная моя...
Последние слова произносит голосом, дрожащим от страсти.
С п и к а (говорит брезгливо, в напряжении опираясь о стену). Ты гнусный эротоман – в тебе нет ни капли чувства.
Б а л а н д а ш е к (не обращая внимания на ее слова). Но потом ты ведь будешь доброй ко мне, Спикуся? Помни, я не люблю никакого насилия. Будь добра, не убегай от меня. Завтра себя отыграешь в Чистой Форме, а сегодня побудь простой, доброй, домашней женщиной.
С п и к а (сжавшись, со слезами в голосе, едва владея собой). Тихо! Не доводи меня до безумия. (Баландашек, испуганный, ретируется на диван и садится, закрыв лицо руками. Спика, понемногу обмякнув, берет роль со стола и медленно выходит из-за него – из глубины сцены. Садится в кресло и нервно вчитывается в роль.) «Я знаю, ты равен себе лишь в преодолении тяжести, небытие которой пронизано голосами...»
Баландашек взрывается коротким смешком и вскакивает с дивана. Справа входит М а р и а н н а, в левой руке у нее столик, в правой – тарелка с грибами и вилки, под мышкой бутылка вермута.
Б а л а н д а ш е к. Нет, сегодня ничто не убьет во мне радость жизни. Все хорошо, и баста. Меня распирает ощущение дикого совершенства вселенной.
Марианна ставит столик, накрывает, подает рюмки.
С п и к а (угрюмо). У меня ужасные предчувствия...
Б а л а н д а ш е к (прерывает ее). Скажи лучше, когда у тебя их не было? И оправдалось ли хоть одно из них? Предчувствиями ты защищаешься от несчастий, которых никогда не будет. Так ты отравляешь жизнь и мне, и себе.
С п и к а. Довольно, ах, довольно! Не гневи судьбу!
Сжимает кулаки.
М а р и а н н а. Все готово. Успокойтесь, поешьте грибочков. Если чего не хватит – пожалуйста, не смущайтесь, тут же меня зовите.
Выходит. Спика и Баландашек садятся в кресла в профиль к залу: Баландашек слева, Спика справа. Баландашек пьёт, восхищенно поглядывая на Спику.
С п и к а (ест грибки). Думаешь, приятно получать анонимки, в которых – хочешь не хочешь, а найдешь слова правды (достает из-за корсажа бумагу и читает):
Под крылом искусств изящных
Приголубил Баландашек
Спику Тремендозу.
И хоть был он скот ужасный,
Ей давал такие яства,
Что жрала – мимоза.
И хоть все в ней бунтовало,
Когда кнедлики жевала —
Не любила шика.
Без измены, без позора
(И без повода для ссоры)
На тот свет – поди-ка! —
Улизнула Спика.
Б а л а н д а ш е к (кладет себе грибков). Замысел никудышный, а исполнение того хуже. Вкратце так: я – скотина, а ты мне просто-напросто угрожаешь самоубийством.
С п и к а (прячет бумагу). Не угрожаю. Я могу, как и прежде, быть одинока. Ты ведь знаешь – я ненавижу театральную атмосферу, всю эту так называемую «театральщину». Если б я захотела, у меня были бы тысячи любовников. А я не хочу. Мне нужно хоть немного настоящего чувства. Ты – мой предел. Я люблю тебя, как любила бы своего ребенка, а в ответ – одна неблагодарность. Твои адские эротические затеи, лишенные всякого чувства, – это что-то чудовищное. Ты у меня на глазах раздваиваешься надвое.









