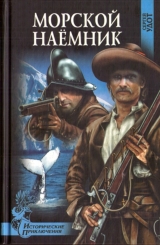
Текст книги "Морской наёмник"
Автор книги: Сергей Удот
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
IX
Ну вот, глянь-ка, кабы было кому глянуть: он ведь ещё и вышагивает чинно, гоголем, подстраиваясь под раскат палубы. Словно на дружеской солдатской пирушке. В самом начале, скажем, когда вино не в то горло попало. Или, к примеру, когда озорник какой, коих пруд пруди, заместо воды для ополаскивания рта кувшинчик чистейшей aqua vita[133]133
«Живая вода» – название спирта в Средние века.
[Закрыть] подсунул. А ты ещё должен Господа благословить, что он для того же самого дела «царской водки»[134]134
«Смесь кислот» – смесь, используемая при производстве пушечного пороха.
[Закрыть] у пушкарей не промыслил. И когда всё это дружно засобиралось вдруг назад, наружу. А ты не можешь просто так броситься из-за общего стола, пока ещё аккуратно накрытого, под прицелом десятков, а то и доброй сотни ещё не пьяных и потому всё исправно примечающих глаз. Нет вот чтобы через пару часиков, когда уже все изрядно заложили за воротник и по большому счёту всем уже всё едино – под стол ли, на стол, тихо-незаметно или трубным звуком на всю пирушку. Но тебя ведь припёрло именно сейчас, и ты топаешь медленно, давя мятеж собственного брюха. А угол намеченной сараюшки, достаточно густого кустарника, одинокого дерева или телеги невесть чьей – в общем, чего-то такого, что намечено барьером для опорожнения, – ох как далеконько! И всё чудится, что злыдни эти, богомерзкие и богохульные, отставили давно закуску-выпивку и обернулись и по рукам уже вовсю бьют: дотянет до места али расплескает по пути?
Вот так и Михель. И ведь не следит же сейчас никто за ним. И ведь никто не мешает ему заблевать его же, кстати, собственный корабль хоть от киля до клотика. А единственный свидетель десятый сон видит, порхая до поры до времени в своём бескровном мире. Однако жив чужом море Михель блюдёт в меру силёнок, непонятно зачем, традиции суши. Это всё равно что в атаку ходить, не кланяясь чужим пулям да ядрам. А на пути неспешном Михель, капитан рачительный, ещё и внимательно оглядывает дали морские. Тоже, кстати, с недавних пор его родовые угодья. Нет ли где пирата, чужака-супостата али ещё беды какой? Однако ж дали-угодья те сейчас больше туманны, с просветами совсем малыми, и, даст Бог, к обеду только они и попрозрачнеют...
А когда зрак, ровно заряд картечный, лишь на крупную дичь насторожен, то, конечно же, такую мелочовку, как головешка Томасова, в упор не замечает. Тем паче что Томас уже в своего рода мёртвом пространстве, то бишь почти что под бортом. Удивляется, как это он ещё жив до сих пор и трепыхается даже, а не камнем идёт ко дну. Кто на воде не бывал, тот досыта Богу не маливался! А вельбот «ноевский» затерянный, где давно уже все про холод забыли, согрелись и даже взопрели в волнении за себя и Томаса, где гарпунёр только что веслом не колотит по пальцам самых горячих-неугомонных, надёжно в туман укутан. Без паруса да мачты уже и его Михель с похмельных глаз не видит.
И когда Томас, уже точно последним, почти полуобморочным усилием хватается за сеть типа абордажной – не для промысла пиратского, а для удобства разделки китов прилаженной, – тут его и накрывает горяченьким.
За полшага до борта, до места облюбованного, намеченного, у Михеля под желудком ровно пороховая мина взрывается, мощным кулаком отправляя содержимое наверх. И рту Михеля – если он, разумеется, не желает захлебнуться собственным содержимым, – остаётся только исполнить роль жерла. И Михель уже совсем не думает, куда всё это и на кого выльется. Вдобавок малая часть ещё и носом идёт, а этого он и вовсе терпеть не может. Поэтому попросту забывает обо всём на свете...
Томасу не повезло – его голова приняла на себя основной удар. И, разумеется, первое, о чём подумал бедняга, если он вообще был способен думать в подобных обстоятельствах, – это о коварстве людском. Точнее, ладскнехтском, раз тот подкараулил его и ошпарил чем-то сверху: то ли супом, то ли помоями, то ли кипящей ворванью. Ибо для замерзшего насквозь Томаса всё, что чуть теплей его самого, кажется сейчас кипятком. И ещё ему кажется, что он враз ослеп, потому как глаза залепило какой-то мерзостью: точно кислая ворвань. А самое страшное – что их планы уже раскрыты и всё пропало.
Томасу повезло. Когда Михель, ведомый первым мощным фонтаном, переваливается через борт и начинает без дураков, до самого донца, «бахвалиться харчишками», у Томаса от неожиданности чисто инстинктивно, для защиты, как ему показалось, от кипящей струи посреди ледяного океана, разжимаются руки. И он погружается в текучую воду, которая сразу уносит его вдоль борта. И Михель его не видит.
Томасу не повезло. Его уносит всё дальше, прямо в бездонную глотку океана, и он может только бессильно царапать смоляной бок буйса, напрочь срывая ногти.
Томасу повезло. Последним якорем для него становятся выброшенные за борт для очистки рабочие рукавицы китобоев[135]135
Распространённая практика рыбаков и китобоев.
[Закрыть], которые, естественно, предварительно привязывают к крепкому линю.
X
Боже, до чего ж гнетёт это барахло на туго затянутом ремне! Дорвался, называется, до бесплатного, тоже мне – хозяин. И куда б это делось на буйсе-то – и денежки, и ключи? Пистолеты и шпага ему явно ещё с месячишко не понадобятся, не поржавели бы от безделья и сырости... А тут ещё сам ремень змеюкой впился в раздутое брюхо! И давит, и давит... Посему – долой бы его. Потом – пару пригоршней водицы на собственное поганое рыло. Обычный ландскнехтский утренний туалет, только вот вода очень даже холодная и очень даже солёная. То есть очень даже препротивная, и главное, рта не прополощешь. К тому же тянет в каюту – в тепло и к опохмелке. Спит там этот, понимаешь, а ты здесь как юнга с водой таскаешься! Михель мгновение раздумывает над полным ведром забортной воды, затем решительно хватается за дужку. Начинаем наводить дисциплину, и прямо сейчас. Из-за прихваченного тяжёлого ведра планы насчёт ремня с оружием меняются.
«Юнгу пришлю, позднее. Зачем он мне тогда, как не быть на посылках и исполнять любой каприз? Вот сначала разбужу его, а потом и погоняю всласть. Для сугрева».
И ещё раз окинув напоследок дали и хляби, более для успокоения и сбережения от гор ледяных, Михель со своей ношей, изрядно повеселевший, отправляется обратно в шкиперскую каюту. И прямо с порога, ничуть не сомневаясь, окатывает спящего Яна ведром ледяной воды.
Михель начинает хохотать, верно, раньше, чем струя достигает цели. А поржать от души есть над чем. Ян сначала испуганно вскакивает, ударяясь головой о борт. Затем, так, видно, до конца и не проснувшись, забивается в угол, инстинктивно-лихорадочно стараясь спастись от неожиданно прорвавшегося холода, тянет на себя, под себя и просто к себе одеяла, шкуры, плащи, любое тряпьё, словно желая поскорее создать новое гнёздышко взамен безжалостно порушенного. Потом вдруг резко замирает, явно осенённый какой-то свежей мыслью, проводит по волосам и лицу руками, подносит мокрые руки к глазам и, щурясь в полутьме каюты, тщетно пытается определить цвет обрушившегося на него водопада.
А Михель, коего так и тянет брякнуть замогильным голосом что-то вроде: «Это ледяная кровь утопленников», начинает вдруг раскаиваться в бесшабашно содеянном. Сначала ему, разумеется, жаль испорченной постели, но затем он до боли сердечной начинает жалеть Яна, особенно сообразив, что тот пытался сейчас углядеть.
– Не боись, – в голосе Михеля бодрость того же свойства, что и металл в монете фальшивомонетчика, – это не кровь. Это водица. Считай, я тебя причастил на верность новому капитану. – И совершенно умолкает, полностью поняв нелепость только что сказанного и сделанного. Вот ведь закавыка: он может преспокойно убить Яна, но вот – обидеть?! – А ты почему в моей постели? – почему-то спрашивает он. Вопрос так себе, ни к селу ни к городу, – лишь бы прервать неловкое молчание.
– А ты не помнишь, ландскнехт? – неожиданно вскидывается Ян.
И Михель вдруг с изумлением чувствует, что краснеет. Возможно, первый раз в жизни. И даже тупит взгляд. Да неужели?!
– Не боись! – Ян, кажется, удивлён поведением Михеля не меньше его самого. Тем не менее повторяет его же слова, пользуясь моментом, перехватывает инициативу и повторяет: – Не боись. У тебя ведь не встал.
– Ну и как тебя теперь называть? – хотел пообидней, да смазал на обычный вопрос. Проклятое похмелье глушит все эмоции. Ничего, вот счас поправимся...
– У тебя не получилось, ландскнехт. У тебя давно уже ничего не получается.
– Ой ли? – скривился Михель. Он даже никак не отреагировал на столь страшное оскорбление, как упрёк в мужском бессилии. Потому что... Потому что эта сволочь назвала, вернее, обозвала его, как и команда, «ландскнехтом». Довесок «проклятый» хотя и не был произнесён, однако явственно ощущался в спёртом воздухе кубрика.
– Об этом знаю я... и мой зад. А вот ты ничего не знаешь и не помнишь. – Ирония недолго дружила с мокрым ровно мышь мальчишкой. – Нечистый меня попутал связаться с тобой, проклятый, – теперь уже без недомолвок.
– А ты кликни погромче дружков своих. Авось освободят.
Пора, пора прекращать глупую перебранку ни о чём. Михель не успевает понять, что он чувствует при таких в общем-то простых и понятных, высказанных без каких-либо эмоций словах: стыд, гнев либо, напротив, радость и облегчение. Потому что...
Потому что за спиной по палубе шлёпают босые мокрые ноги. И от этого ну никак не могущего здесь быть звука волосы сразу встают дыбом, а за шиворот вмиг ровно некрупных обломков айсберга засыпали. Ведь это же... посреди полярного океана... на пустом корабле... здесь ведь даже кладбища поблизости нет! Это может быть только ангел смерти – лёгкий и босой.
И, отсекая все глупые мысли враз, – знакомый как «Pater noster»[136]136
«Pater noster» (лат.) – «Отче наш».
[Закрыть] звук взводимого курка. И в белизну бездонного страха – ровно с пёрышка капля синьки-облегчённости: всё ж таки не ангел и не нечистый. Значит, ещё поживём.
А рука уже отдельно от пустой, выстуженной ужасом головы заученно-машинально лапает пояс. Да вот только напрасно рефлекс ландскнехтский сработал. Потому как вся амуниция с поясом осталась на палубе! И это он, неведомый Ужас, именно твоим, вчерась ещё шкиперским, пистолем вооружился. Грустно.
Пора повернуться и познакомиться с пришельцем. Хотя, чует сердечко, мы с ним давно уже знакомы. Боже, как же не хочется! А позорно-трусливо получить пулю в спину? Совсем не хочется. Кстати, и никогда не хотелось...
Значит, так: поворачиваемся, морозим какую-нибудь глупость и – сразу вглубь каюты. К Яну, вернее, к его поясу. А там уж поглядим, у кого пули кучнее ложатся. Раз сразу в спину не выстрелил, то, верно, пообщаться желает... Только не делать резких движений, покуда сам не вооружился! На пулю не напрашиваться. Да, и ещё можно пустым ведром в неведомого запустить – пусть истратит порох. И вот сразу так, без перехода, ноги из стали напряжённой стали ватой невесомой. А сердце, что ещё только что, недавно совсем, колотилось бешено, летит теперь, замерев, в бездну, чтобы там взорваться почище гранаты. «Боже, что ж я натворил?! Я же Яна окатил с головы до пят. А значит, залил напрочь его пистолеты. И толку от них сейчас не больше, чем от маленьких дубинок замысловатой формы. И прочее оружие я ведь, куражась, заставил сначала Яна в каюту притащить и зарядить, но потом зачем-то обратно утащить! Посему, Михель, хочу тебе начистоту, напрямки сказать. Первое – ты самоуверенный болван. Второе – мы, кажется, пропали. Но при любом раскладе – разворот!»
– Ба, Ян, глянь-ка! Кто к нам пожаловал! Да это ж Томас! Радость-то какая! А где ж дружков своих забыл? – Михель был почти уверен, что, обернувшись, увидит невесть как освободившегося и невесть зачем разувшегося Адриана. Увидев же нагого Томаса, он сперва растерялся, но, узрев крупную дрожь, сотрясавшую всё тело парня, его волосы – ледяные сосульки, которые перед этим явно ещё и обрыгал кто-то, а главное, эти краски – белое, синее, лиловое и ни капли розового и красного, – Михель почему-то успокоился и даже развеселился.
Ведь у Томаса и глаза, того и гляди, сейчас замёрзнут-захрустят, ровно ледышки под каблуком. Человек прямо на его глазах обращался из опасного вооружённого врага просто в ледяной монумент. Дай срок – присобачу его заместо носовой фигуры корабельной. А что, до тёплых широт вполне послужит, пока не завоняет. От смеха Михеля удерживало только дуло собственного пистолета, направленного ему прямо в грудь. И правая рука – единственное, что у Томаса не дрожит и не колотится «пляской святого Витта». Но вот уже и эта рука устаёт, склоняется... Кажется, поживём ещё немножко.
Но тут Томас недвусмысленно кивает дулом, и Михель послушно выпускает дужку ведра.
– Так где дружки-то? – ещё раз бесцеремонно интересуется Михель, ибо это, разумеется, для него сейчас главное.
– Не боись. – Слова Томаса еле прорвали ледяную корочку, уже успевшую стянуть губы. – На твои поминки обязательно поспеют. – И он начинает поднимать пистолет, и видно, каких усилий ему это стоит.
– Эй, постой, постой! Дуралей! Может, лучше с нами в тёплые края?
Томас хочет сказать: «Нет, предатель!», но на этот раз лёд на устах не даёт ему разомкнуть губы. Тогда он энергично мотает головой, и мелкие льдинки летят во все стороны.
– Ян, Ян, иди хоть ты потолкуй с этим воякой. Ты ж с ним якшался... – А нутро Михеля вопит во весь голос: «Давай, придурок, принеси хотя бы кинжал, хотя бы замоченные пистолеты! Отвлечь, напугать, запустить в голову в конце концов! Это ж надо, впервые за столько лет не перепоясал чресла оружием, и – вот он, ледяной воин, откуда не ждали. А почему так? Да потому, что оно всё здесь для меня чужое. Это их море, и я не ведаю, как себя здесь вести, вот и допускаю ошибку за ошибкой. А лимит ошибок я, кажись, давно уж вычерпал. Аж до самого донца. И зовут меня теперь к расчёту...» – Ты ж не ландскнехт, Томас. Ты же не сможешь убить человека, даже такого, как я. Да у тебя просто будет осечка. Да, да, осечка, обычная осечка.
А внутри уже бешеным огнём паника пожирает остатки рассудка, и то, что Ян подошёл, – правда, молчит как рыба, только глупо таращится, и поддержки от него никакой, хотя можно ведь дотянуться до оружия, – уже не имеет никакого значения. Потому как Михель отчётливо видит, с какой силой онемевшие пальцы Тома давят на тугой курок. И проносится мысль: курок, верно, тоже успел заледенеть намертво! Но надежду эту со всех сторон обволакивает паника, и она также вспыхивает, и – камнем вниз. Ровно неосторожная птица, вздумавшая пролететь над лесным палом.
«Может, заслониться Яном?! А что? Пуля попадёт в него, а дальше я разделаю Тома кинжалом, точно умелый спексиндер – доброго кита. Лишь бы не сломать лезвие о его задубевшую на морозе шкуру. Но ведь тогда будет кровь, и как Ян перенесёт всё это? Но ведь кровь будет в любом случае...»
Дурацкий, в общем-то, мир, где не приемлют только свою кровь, а на чужую плевать. Мир, который промок до нитки от нескончаемого кровавого ливня. И дурачок Ян, не понимающий, что по-иному просто невозможно. Кто думает иначе – обречён.
«Как же оно так получилось, что я свернул на его тропку неприятия крови? Сейчас он воочию сможет убедиться, сколько крови помещается в одном человечке. Словно и не человек он, а бочонок какой. И угадай-ка, Ян, кто этим человечком будет? И ведь всего-то разочек ему уступил: когда не стал топить этих китобоев как паршивых щенков. Нет, два: ещё когда отправил шкипера не к праотцам, а всего лишь в трюм».
XI
А где-то там, не столь уж далеко, Йост огромным и сердитым, ну ровно адским, змеем зашипел страшнопростуженно:
– А теперь – полный вперёд! К буйсу! Да смотрите мне: чтоб без всплеска и крика. И – р-раз...
XII
Но ведь он же не может умереть! Кто угодно, только не он! Он ведь не может умереть, пока его кто-то помнит и ждёт там, далеко, на земле Войны...
ХIII
Чаще всего по утрам просыпаешься именно от холода, а не потому, что кто-то будит – неважно, ласковыми прикосновениями случайной подружки, руганью непохмелённых собутыльников или капральской палкой, – и уж тем более не потому, что выспался и мять бока боле невмоготу.
Вот и сейчас свежая сырая струя буквально язвит открытые участки тела, забираясь в каждую прореху: вставай, мол, хватит дрыхнуть, проспишь всё самое интересное. Что же, позвольте поинтересоваться, он может этакое проспать? Только подскочи – сразу о своих нуждах напомнит брюхо, затем ещё что-нибудь неотложное.
Стоп... это ведь не приполярная стужа. Это просто утренняя, правда, уже осенняя прохлада. А достаётся Михелю поболее других, потому как по жребию ему опять выпало спать под солидной дырой в пологе. Располосовали как-то в пьяной возне, да так и не заделали: недосуг, да и нечем. А жребий выпадает гораздо чаще из-за прихворнувшего Георга: сдаёт старик, хворает всё чаще да по пустякам. Потому и спит в серёдке, где с боков соседи греют. Вон, разметался от жара да дышит так хрипло, будто рот галькой набит. Оклемался бы хоть до настоящих холодов. Ворота райские во время войны – всегда настежь, а уж в военные зимы их, судя по всему, и вовсе снимают с петель. Георг скорбит от незаметной и негероической хвори, которая и прибирает-то, в конце концов, большую часть служивых. Ведь если разобраться по совести, вечно пируют лишь Мор да Глад, а Битва и Осада – под их столом, на карачках, – подъедают ими непрожёванное.
А утрецо-то действительно знобкое, даже чересчур. Не помогает даже то, что на Михеле накинут ещё один плащ. Ну, разумеется, Гюнтеров. Благодетель! Сугрева – чуть да маленько, зато все насекомые с его дырявого «ляузера»[137]137
Буквально: «вшивень».
[Закрыть] – давно уже на Михеле: едят да нахваливают. Хорошо им: уж и позавтракали, и пообедали зараз, судя по почесухе. Поповская собственность, она ведь от хозяев приучена жрать в три горла. А значит, Гюнтер, как обычно, раньше всех на ногах: отмолился давно и, может, даже чего пожрать навострил. Михель несколько раз глубоко потянул ноздрями: дым, дым, сплошной дым от сырых веток и соломы, а вкусненьким ничем и не воняет.
Хотя един лишь Бог ведает, что за дым заползает в их драное логовище. Весь бивак, почитай, сейчас глаза продирает да костерки по привычке налаживает: есть что над огнём приладить, нет ли, однако ж с дымком-то оно всё веселей и приятней время коротать. И значит, опять чьи-то дома идут на костры.
А судя по всему, только ты, Михель, – больного не в счёт, – в палатке до сих пор и кукуешь. Ну ладно Гюнтер: он ведь, ежели с утра Богу, ровно командиру, рапортичку не подаст, то провалится в тартарары тут же, на месте. Ну ладно Макс: дурная голова дурным, кстати тоже, ногам никогда покоя не даёт. А прочие? Не дай бог, что-то втихомолку уплетают, а то и подъели уже. Ваш выход в свет, господин ландскнехт!
Сразу за порогом Михель натыкается на удобно расположившегося Маркуса и едва удерживается, чтобы не начать день с ругани. Чем может заниматься Маркус, да ещё с утра? Ответ ясен, как день божий: в кафтанчике дикого цвета, наброшенном на голое грязное тело, яро надраивает песочком оружие, затем любовно умасливает его, вполне соответствуя любимой поговорке старого Йоганна[138]138
Имеется в виду Тилли Иоганн фон Черклас – командующий войсками Каталической лиги, формально подчинённой императору.
[Закрыть], брякнувшего однажды при виде подобного молодца: « Оборванный солдат и блестящий мушкет». А ещё он, говорят, вообще как-то выдал ну прямо как про славных 4М и 4Г: «Некоторые мои люди, вместо того чтобы пугать своим грозным видом противника, пугают, чёрт возьми, меня». В имперской армии ведь все на «ты», от солдата до фельдмаршала. Поэтому здесь шутит командующий, шутят над командующим, и никакой высокий чин не сбережёт никого от острого заслуженного словца или прозвища. Однако ж не блеск Маркусова мушкета ослепил Михеля, иное заворожило. Маркус не только чистил, но и время от времени не глядя протягивал руку к весьма-таки доброму ломтю, лежавшему на чурбачке, и, откусив, также не глядя пристраивал бережно обратно.
«Эге, да мы Божьим промыслом с утреца самого и хлебушком уже успели разжиться?! Оно, конечно, повеселей с хлебом-то будет. Или это только Маркус разжился?»
Давно и не нами замечено, что то, насколько увесистым выглядит для нас кусок хлеба, зависит от того, голодны мы или сыты. На Михелев распоясавшийся аппетит ломоть был весьма и весьма – на двоих, скажем. Вот уж действительно: чужой ломоть лиходею дороже своего каравая.
– Если ты, Михель, на мою горбушку стойку сделал, то беги лучше до Ганса. Он у нас сегодня за пекаря, – всё так же не глядя бросил Маркус, продолжая нехитрое солдатское дело. И уже вслед рванувшему Михелю: – Да повторяй прилежно всё, что прикажет, а то получишь шиш и даже без масла.
Михелю на бегу почему-то вспомнилось, что Маркус в маслёнке ружейной всегда держал лучшее масло, навроде «деревянного»[139]139
«Деревянное масло» – просторечное название оливкового масла.
[Закрыть]. И не столько уже от любви к оружию, сколько для того, чтобы в случае крайней нужды употребить самому и тем подкрепить иссякшие силы. Дело хорошее, только за товарищами большой догляд нужен: когда все мысли постоянно вокруг того, чего бы в рот сунуть, махнуть душистого масла залпом – это не кража, а удальство. Главное – быстренько подбородок утереть, чтобы не блестел предательски.
Так, ну и где же, где же этот Ганс? И что же на сей раз удумал этот чудила, который как-то умудрился пропустить всё самое в жизни весёлое, ибо себя помнит только с тех пор, как резать начал? Да кажись, он и из утробы-то так и выскочил – с ножом в кулачке. Главный оппонент Ганса Гюнтер, схолар-златоуст, как-то в подпитии всерьёз взялся доказать, что у Ганса никакой в помине матери и не было. Занятно было бы послухать, да стреножили тогда вовремя полёт мысли вольной: и тема скользка, и объект выбран неудачно.
Так вот у парнишки был как раз момент просветления. Любо-дорого глядеть. Ведь даже на рожу стал по утрам водой плескать да подолом утираться. А ещё дороже стало его слушать. Ибо запал в тот момент Ганс на шутки-прибаутки солдатские и разные, коих каждый ландскнехт десяток добрый, а то и поболе про запас держит. Ибо зачастую жизнь зависит не только от стали острой, но и от словца острого тож. Счас всего и не упомнить.
То на весь кабак писклявым своим голосом служке:
– Торопись поскорей – наливай пополней!
Правда, добавляя часто, потише:
– А то зарежу.
То с набитым ртом выдавал нечто посерьёзней:
– Видать, Господь и в самом деле велит, чтоб пили мы и ели.
Правда, уже через минуту, подставляя ломоть под нещедрую струйку серых крупинок, ощеривался во весь свой гнилозубый рот:
– Соль – это ж солдатское сало. Посолив, и лягушку можно сожрать.
А тут как-то отчебучил и вовсе мудрёное:
– Мы не велики числом, зато велики сердцем.
Все как услышали, так и упали, поскольку менее всего подобное от Ганса-живодёра чаяли услыхать. Только Гюнтер остался серьёзным, но уж потом, когда Ганс не видел, так хохотал – думали, пупок развяжется.
Однако Ганс вскорости и Гюнтера приголубил, ляпнув метко:
– Всем ведомо, что из молоденьких ангелочков старые черти выходят.
А вот что Гюнтер ему точно не простил бы до скончания мира, если б услышал:
– Молитва – та же водка. И ничего более.
А последнюю его шуточку долго и лагерь повторял. Случилось это, когда Косача вешали. Казнь сама по себе – развлечение во время затишья, вроде как перемирие очередное: не то подписали уже, не то собирались вот-вот учинить. Да и Косач фигура занятная.
Никто уже и не помнил, как того Косача при крещении нарекли: Косач да Косач. Ведь что учудил: срезал у невесть как забредшего на огонёк и картёжную забаву богатенького «жабоеда»[140]140
«Жабоед» – презрительное название французов.
[Закрыть] любовно слаженную по тогдашней моде[141]141
Мужские косы (одна, с левой стороны, украшалась бантом и драгоценностями) вошли во французскую моду во время правления Людовика XIII.
[Закрыть] – как же, noblesse oblige[142]142
Noblesse oblige (фр.) – «положение обязывает».
[Закрыть], – прихотливо заплетённую косу. А на косе той – бант роскошный, а на банте – россыпь самоцветов. Как он вообще до сих пор с таким богатством на башке и с башкой целой ещё ходит, а не sous-sol[143]143
Sous-sol (фр.) – «под землёй».
[Закрыть] отдыхает? Явно для Косачева удальства Бог берёг сию франтовскую диковину. Франция тогда ещё не воевала, а этого волонтёра явно грозный папаша снарядил – поучиться искусству воинскому у людей правильных. Вот он и «обучался» усердно. Причём пострадавший был, разумеется, навеселе, но вполне вменяем, соображал. Пусть увлечён игрой, но не настолько ведь, чтобы не почувствовать, что тебе волосы режут практически по живому?! И тем не менее Косач так отхватил, что не только французишко, но и слуга его, что тут же толокся, и карточные партнёры-шулера ничего не заметили. Так ведь и игорное место по указу прямо возле главного караула налажено было, чтобы, опять же, догляд был и без озорства какого. Но потеха на этом отнюдь не закончилась. Потому как Косач сумел испариться из поля зрения не только жертвы и охраны, но и своих подручных, в доле мазанных и на подхвате толкущихся. Долго они потом головёнками без толку крутили да судачили, что вот, мол, скинул же он наверняка добычу, только – кому? А уж как открылась им наконец вся чернота Косачева предательства, тут они и забегали-запрыгали-заскакали! Ну ровно рыба, которую ещё живой на сковороду швыряют. И так их выгнула измена, что главные концерт и потеха, – когда французишко в очередной раз собрался косу свою любовно огладить, да цап-цап по пустому месту, – мимо них прошли. И то сказать: там ведь верных две недели можно было пировать безотказно всей бражкой, даже несмотря на то, что украшение разрушать придётся, сдавать по отдельности, да хорошо ещё, ежели за четверть цены.
Смех да грех: им и шума-то нельзя поднять опосля того, как француз своим визгом весь лагерь переворошил, и искать надо дружка непутёвого, расспрашивать, разнюхивать.
В общем, башмаки они зря топтали и справки – так и эдак хитро – тоже зря наводили. И запытали походя пару людишек, которые, как им показалось, что-то, да обязательно должны были знать, – тоже зря. В итоге плюнули, растёрли да забыли. И тоже, как оказалось, зря: потому как рановато. Ибо нарисовалась головушка повинная и в усмерть пьяная – как потом выяснилось, на последние гроши, – где-то месячишка через полтора с гаком.
Интересна всё ж таки натура людская – потому как непредсказуема! Ведь за время отсутствия, поминая Косача так и эдак словами «ласковыми», они все казни, и не только египетские, вспомнили, перебрали со смаком, так и этак муки на тщедушное Косачево тело прилаживая, да придумали ещё добрый десяток – хоть сейчас иди палаческую должность занимай. А явился субчик – ручонки и опустили. Нет, они, конечно, когда опомнились, взяли голубка залётного под белы руки да в развалины на отшибе стащили. Но вернулись-то тоже с ним. Живым! Здоровенный синячина под глазом не в счёт. И ведь не запили же они после – то есть не откупился он от смерти неминучей, потому как верные люди сообщили: нечем. Прожил-промотал, собака, прорву деньжищ и в ус не дует. Правда, по лагерю слух пошёл, что осталась-таки у жадюги ухоронка. Потому, мол, и пожалели – ждут, что рано или поздно он за ней отправится, тут-то они его, голубчика, и накроют. Только ерунда всё это. Ведь в тех же развалинах: сунь ему, к примеру, палец в курок, либо фитили любовно вокруг тех же пальцев обмотай – побежал бы показывать утаённое так, что еле догнали бы. Только такие глупцы, как Ганс, и могли в подобную чушь поверить.
Бог, однако, – а судя по всему, за ландскнехтами приглядывает какой-то особый, свой Бог, – наказал обманщика. После такого фарта Косач не то перенервничал шибко, не то напился так, что стали трястись руки, но не смог более выполнять тонкую работу и теперь за стакан работал на подхвате у Пшеничного. С Пшеничным-то и подзалетел. Того in flagranto delicti[144]144
In flagranto delicti (лат.) – «на месте преступления».
[Закрыть] с чужим кошельком, намертво в руке зажатом как доказательство, и до профоса не довели. Так эта сука предательская и сдохнуть как следует не могла! До самого мига последнего, уже ни на что не надеясь, орал воришка, что не согласен подыхать в одиночку, что с ним, мол, и Косач был, и ещё люди. В общем, заложил дружка по полной программе. Косача, конечно, сразу за фалды – цап. Но порешили: сколь можно оружие честное кровью поганой недостойных марать? И довели-таки подельщика до профоса. А там уже решили с ним честь по чести разобраться, чтобы, значится, не только порок покарать, но и всех, кого Пшеничный сдать не успел, приструнить-устрашить.
Так вот Ганс тогда из строя звонко, на весь лагерь, очередному висельнику, то есть Косачу, и посоветовал:
– Не тужи, сердяга! Тут ведь или шея напрочь, или петля пополам.
Хоть и зыркнул профос грозно, но ведь для всего лагеря, окромя друзей, Ганс – дурачок безобидный, гауклер местный, для веселения солдатского назначенный и лелеянный. Своим криком он эту свою славу только подтверждает. В этом весь он, Ганс-то. Как никто достоин казни быстрой, лютой, кровавой. А не таится, как мышь в нору. Тут ведь пока барашком не прикинешься – волчка не одолеешь. Ещё и советы подаёт. Верно, знает, что когда вора казнить примутся, все лишь на него, вора, глазеть будут, а в Гансовы очи никто и не взглянет. Вот бедняге последние мгновения на этом свете и скрасил. Тот ведь до самого хруста позвонков всё ждал, что вот оно – петля пополам, как обещано.
Косач и смертушку свою обратил в ёрничество. Сначала вроде всё как у людей – задрыгал ручками-ножками, а потом вдруг с шумом и треском хряснулся вместе с веткой, на кою его усердно приладили, оземь.
Зрители дружно грохнули: всем ведь весело, когда профос-прохвост оконфузится со всей своей шайкой. Не хохотал, схватившись за живот, только Ганс, явно чего-то выжидая. Постепенно угомонились и остальные, гадая: а дальше что? По всем правилам, людским и божеским, дважды казнить за одно и то же не полагается. Только плевали с самой развысокой колокольни профосовы законники на все установления, не от них исходящие. Шепоток пошёл по рядам:
– Посмеют... не посмеют.
Не посмели, потому как хрустнули воровские позвонки гораздо быстрее, чем ветка, кою Ганс заранее подпилил: тоже думал, что какая-то ухоронка у Косача замылена. А как-де Косача недодушенного помилуют – ибо кто ж даст но два раза за одно злодейство казнить? – тут Ганс и нарисуется: благодари, мол, пильщика-спасителя. Теперь вот локти кусай, что слабо поработал – поленился.
Что ж теперь-то... В очередной раз, запрятав за улыбкой кинжал, пошёл Ганс своей дорогой, да быстрее всех, про конфузию свою и забыл, потому как не умел долго думать об одном и том же. Ляпнул только напоследок и невпопад вроде:
– С вшивым поведёшься – вшей и наберёшься.
Так что в дни последние к Гансу без шутки-прибаутки зело перчёной и не подходи.
А вот и благодетель наш нынешний. У Михеля аж дух захватило, какой каравай-то добрый – ну ровно холм крутобокий на столе! Явно теперь какую-нибудь vivandiers[145]145
Vivandiers (фр.) – маркитантка, мелкая торговка с повозкой.
[Закрыть] с распахнутым от уха до уха горлом найдут и опять будут выяснять, кто у неё последним выпивал-закусывал, да не расплатился. А того, кто просто, дуркуя, по своим никчёмным делам бежал да поинтересовался на ходу, как бы между прочим, хлебушек свежеиспечённый имеется ли, – того и не запомнил никто.








