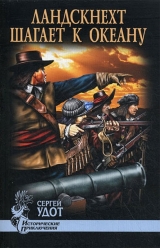
Текст книги "Ландскнехт шагает к океану"
Автор книги: Сергей Удот
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Давай-ка, уточним сей момент с нашим другом.
Или:
– Да здесь у тебя путаница полнейшая, приятель. Ещё раз, то же самое, поподробней, с нашей помощью.
С Гийомом вышло иначе. Видно, время поджимало. Ибо не успел он на первом допросе и рта раскрыть, как судейский его и огорошил:
– Знаю, ты нам все выложишь, как на тарелочке, но сначала мы тебе всыплем как следует.
И удалился.
Гийом до сих пор вспоминает с дрожью, что последовало за этими словами. Вроде и били его крепко и до, и после, и ранило в бою, но то был первый случай твоей абсолютной беспомощности и их абсолютной правоты.
Теперь-то Гийом знает, что следователь напрямую нарушил закон, который гласит, что сначала нужно потребовать и выслушать добровольные показания. Лишь в случае запирательства либо дополнительных улик, неопровержимо обличающих во лжи, принимается решение о более действенных методах устрашения при поиске истины. Понял Гийом и то, что дознавателю просто надо было срочно куда-то отлучиться – может, нужда припёрла человека. И вот, чтобы палач не зря жевал свой хлебушко, а обвиняемый был полностью готов к чистосердечной даче показаний, он и отдал такой приказ. Чего время зря переводить, дел много. Больше Гийома в тюрьме практически и не били. Так, по мелочам перепадало.
И завертелось перед ним во всей своей красе колесо[95]95
Завертелось колесо – распространённая в то время казнь колесованием.
[Закрыть], на котором вертеться ему в последний день своего земного бытия, покуда не переломают все суставы, покуда не умрёшь от невыносимой боли, или покуда милосердный палач метким ударом не прекратит страданий. Хлопоты Гийома о том, где бы раздобыть хоть немного денег на подкуп палача, дабы не измызался долгонько на потеху зевакам, а скоренько отправил к Плутону[96]96
Скоренько отправил к Плутону – то есть в преисподнюю (Плутон – бог подземного мира в древнеримской мифологии).
[Закрыть], оказались прерваны самым счастливым образом. Их государь, тогда ещё не курфюрст, а просто герцог Макс[97]97
Герцог Макс – Максимилиан Баварский, глава Католической лиги, союзник императора, активный участник Тридцатилетней войны. Отобрал у Фридриха V Пфальцского его владения и титул курфюрста (выборщика императора).
[Закрыть], избран был вождём всех католиков империи. А любому вождю надобна сила, да побольше. В поисках этой силы армейские зазывалы не миновали и застенков. За головы еретиков обещали полную амнистию. И на индульгенцию[98]98
Индульгенция – платный церковный документ от имени римского папы об отпущении грехов.
[Закрыть] тратиться не надо. Вот благодать-то снизошла внезапно на не самых лучших сынов Баварии. К тому ж армия не тюрьма – улизнуть, то есть дезертировать, не в пример как легче. Гийом, с превеликим удовольствием оттискивая отпечаток большого пальца под текстом контракта, думал только об одном – как легко он надул Костлявую. Душа пела, тело болело. Лишь через полгода затянуло рубцы. Сейчас мельком и не разглядишь. К холоду и дождю, правда, донимают. А так ничего, жить можно.
Убёг бы в конце концов Гийом, пополнив одну из шаек, если бы в один прекрасный момент его не осенило. Ведь находясь в армии, он каким-то боком выступает в двух ипостасях: и как преступник, и как палач. Что до грабителя, то это ощущение для него не ново, привычно. Но ещё грабёж на службе государства дал ему непередаваемое чувство безнаказанности и даже полезности своего бытия. То, за что до войны мигом сволокли бы на эшафот, сейчас не пресекалось, но даже поощрялось и награждалось. Он мог судить, он мог казнить, при этом целиком оставаясь старым Гийомом по кличке «Хватай, что плохо лежит».
Это ли не счастье, это ли не вершина достижимого? А что до боёв и опасности умереть? Так ведь и жизнь порядочного вора не способствует долголетию. И судейским чинушам головорезы иногда устраивают «тёмные». Палачей вот, правда, не трогают – человек при деле. И каком нужном. Все, везде, всегда рискуют своей шкурой. Так что бои – это плата за твоё перерождение. По этой таксе ты, Гийом, здорово задолжал. Вот и явился судебный исполнитель по твою душу...
Не так себя, как ребят жалко. Хорошо хоть виселица, а не колесо.
Думка Маркуса была пряма, как толстая кишка и проста, как дырка в заднице:
– Только бы не обделаться! Пособи, Святая Катерина[99]99
Пособи, святая Катерина – у неё просили помощи при расстройстве желудка.
[Закрыть]!
С вина, что ли, поганого, сонного брюхо с утра крутило – спасу нет. Самое скверное – ведь подумают, что со страху напустил в штаны. Он уже и истлеет напрочь, а живые всё будут поминать: вот ведь затесался дристопшонник в наши ряды. Позор-то какой. Маркус предпочёл бы серьёзно заболеть, и чтобы видели, что болезнь, а не глупый страх выворачивает его внутренности.
Маркусу нечего вспоминать и не с кем прощаться. Вся его жизнь – армия и война. Сын солдата, которого убило на следующий день после рождения Маркуса. Сколько таких временных папаш, материных дружков сменилось у него: материализовывались из порохового дыма и в нём же вскорости растворялись.
Жозеф, которого они так и не смогли разыскать под грудами мёртвых тел, но ротный сказал, что точно видел, как его подняли на пики. Лейтенант, сам ставший ротным два часа назад после боя, выразил желание тут же утешить скорбящую вдову. Но недолго мать походила, вернее, поспала, лейтенантшей. Утром он смылся, а днём ещё и его постоянная подруга примчалась – ругаться.
Мартин, сбёгший с пятью гульденами. Мать до последнего вздоха не уставала вспоминать те денежки да проклинать воришку. Особым красноречием эти тирады отличались во время частого безденежья и голода.
Словно кому-то неясно, что эти денежки тогда же и были бы истрачены, но никак не отложены на чёрный день. Такова судьба всех денег, приплывавших в их руки. И это резонно – на войне надо жить только сегодня.
Потому что завтра здесь далеко не для всех. Причём Маркус заметил, что сумма похищенного в материнских устах имела постоянную тенденцию к росту. Изредка его так и подмывало ехидно поинтересоваться:
– И как это Мартин смог упереть такую прорву деньжищ, не надорвавшись? Явно на телеге вывозил.
Корнелиус, который так скверно с ними обходился, что все их молитвы того периода жизни являли страстную просьбу к Господу избавить от этого чудовища. И Всевышний, отложив прочее, внял. Корнелиуса скрутила «лагерная лихорадка», и они бросили его, предварительно обобрав, в каком-то заброшенном овине и ушли под его проклятья и бессильные угрозы. Позже мать и сын обоюдно признались, что испытывали веское желание поднять камень или палку и, вернувшись, расквитаться за кошмарные полгода. Да вот постеснялись друг дружки. Потом ещё долго в страхе вздрагивали: вдруг выкарабкался, выздоровел, нашёл. После кулаков Корнелиуса мать стала осмотрительней, долго не решалась выбрать постоянного сожителя. Но куда одной, да с мальчонкой – нужно плечо...
Появился Ингмар: весёлый, удачливый, смелый. Живи, да радуйся. Только вот не одной матери глянулся сей добрый молодец.
Молодая вертихвостка, шлюшка Катрин, коей едва стукнуло пятнадцать годков, распахнула любвеобильному, как выяснилось впоследствии, Ингмару, свои жаркие объятья. Естественно, старая мать, а ей в это время уже, кажется, стукнуло двадцать пять, не могла конкурировать со свежестью и красой.
Стерва Катрин, по двадцать раз на дню мозолила глаза: то, словно невзначай, начнёт расправлять и разглаживать новую юбку, то перебирать ожерелье – опять же Ингмаров подарок. А уж ночью словно бес какой в девку вселялся. Напрасно мать зарывала голову поглубже в тряпьё: звуки любовных утех проникли бы, пожалуй, и сквозь крепостные стены. Эта ведьма ещё нарочно выбирала местечко поближе.
Бог с ней, с Катрин, у ней совесть явно ещё в материнской утробе стибрили. Её выкрутасы – полбеды, ну, отбила, ну, пользуется, ну, торжествует. И то – юность не вечна. Но ведь и сам Ингмар тут же обретается. Выгадывай, не выгадывай, а столкнёшься то там, то здесь. В другой раз мать затащила бы на себя первого встречного, утром плюнула, да забыла обо всём. А сейчас вот что-то не могла.
Маркус знал уже, что в устах матери и всех её товарок слово «люблю» подобно мелкой разменной монетке – гуляет туда-сюда. Но глядя, как она мается без своего Ингмара и рядом с ним, и непонятно от чего более страдает, Маркус впервые задумался над истинным значением этого слова, кое каждый вечер гуляло вокруг под тысячами повозок, парусиной палаток, от капральской до маршальской, солдатскими, ветром подбитыми, плащами и просто под вечно распахнутым небом. Сызмальства все происходило на глазах у Маркуса, и никогда не составляло какой-то там тайны. Но сейчас он осознал, что «люблю» далеко не всегда тождественно «хорошенько вставить». Осознал и решил не говорить этого непростого слова никому, похоронить вместе с собой.
Сталкиваясь с Маркусом, Ингмар пытался заговорить, разузнать. Чего там выяснять – и так все понятно. Маркус всячески старался увернуться от этих встреч, где-нибудь прошмыгнуть. Однажды, когда Ингмар попытался попридержать мальчугана за шиворот, Маркус, неожиданно даже для самого себя, цапнул его зубами за руку. Тогда Ингмар при встречах стал просто совать ему кусок хлеба, ветчины, а то и мелкую монету. От подарков Маркус, воспитанный по системе «Дают – бери, бьют – беги!», не отказывался.
Отсутствие постоянного мужчины весьма плачевно отражалось на благосостоянии небольшого семейства. Раз, когда было совсем голодно, решился поделиться добычей с матерью. Пока она яростно расправлялась с куском колбасы, Маркус рассказывал, где это ему так подфартило. С младых ногтей он включился в процесс поиска хлеба насущного. Совсем маленьким выпрашивал, затем стал подворовывать – иначе не выжить. Вдруг мать закашлялась, подавившись. Маркус уже сжал кулак – стукнуть хорошенько по спине. Но она, отбежав, сунула два пальца в рот. Потрясённый Маркус наблюдал извержение драгоценной пищи. Вытирая рукавом рот, мать обнаружила, что в руке по-прежнему зажат остаток колбасы. Швырнула его на землю и принялась исступлённо топтать. Затем подскочила к сыну и наградила его звонкой оплеухой так, что искры из глаз посыпались. Впавший в панику Маркус решил было, что она рехнулась, но потом его озарило. Поток ругательств, обрушившийся на его голову, подтвердил догадку. Сразу после удара он предусмотрительно отскочил на почтительное расстояние, так что орудовать кулаками мать уже не могла. Основной смысл забористой ругани заключался в том, чтобы он, выблядок, и думать не смел более принимать какие-либо подачки от этой скотины Ингмара. Сын не долго оставался в долгу, тем более что его душила ярость на собственную глупость: слупил бы втихомолку весь кусок без остатка и сам бы был сыт, и эта дурёха не выступала бы.
– Брал и буду брать! А ты хоть сдохни с голоду, крошки не поднесу. А если ещё хоть раз тронешь, дождусь, пока напьёшься, возьму палку и так отделаю, что никто и даром на тебя не позарится.
Вволю наоравшись на потеху соседям, мать и сын заснули, завернувшись кое-как в единственный плащ. Легли спинами друг к другу – ведь они же в ссоре. Улечься по отдельности им и в голову не пришло – холодно ведь.
Младая Катрин недолго хвасталась шикарным любовником. Ингмар променял её на сдобную Петру, совсем не оправдывающую своего имени[100]100
Сдобную Петру, совсем не оправдывающую своего имени – имена Пётр, Петра буквально означают «камень», «каменный».
[Закрыть]. Когда какой-нибудь служивый собирался одарить Петру своим вниманием, он громогласно объявлял, что идёт «выспаться на пуховой перине». Однако и у Петры Ингмар «не залежался». «Пошёл в поход по юбкам» шутили в полку, некоторые ещё прямей и конкретней объясняли, куда он направился.
Враз лишившаяся лоска и бравады, нечёсаная и трясущаяся с похмелья Катрин пришла к матери на третий или четвёртый день своего несчастья. Ингмаровых подарков на ней заметно поубавилось. Зато в руке сжимала увесистый узел, из которого приветливо подмигивало горлышко кожаной фляги, да выглядывала на свет Божий копчёная баранья нога.
– Выпьем, подруга? – с порога предложила Катрин, как ни в чём не бывало.
Мать вкратце, но энергично пояснила, кто теперь у Катрин в подругах, присоветовав в конце топать своей дорожкой и не мельтешить перед глазами у добрых людей.
– Ладно, не желаешь со мной общаться, Бог тебе судья. Хоть парня покорми – вон одни глаза да уши остались. У меня тут каравай, сыр, ещё чего-то наложили. А для нас – водочка. Мы ведь теперь как бы родственницы – с одним мужиком спали, – криво ухмыльнулась Катрин. – Слышала, конечно, о моём горе?
– Конечно, – в голосе матери явственно проскользнули торжествующие нотки.
– Делить-то нам, выходит нечего?
– Вроде так.
– Так, может, как раньше – по стаканчику? Мириться пора.
– Маркус, расстилай плащ, тащи нож, кружки. Глянем, что этой липучке от нас понадобилось.
Женщины молча навалились на выпивку, не чокаясь и почти не закусывая. Маркус, тоже пару раз дёрнув водочки, подсел поближе к провианту. Выпивал он, сколько себя помнил, всем напиткам предпочитал сладкое вино, особенно гипокрас[101]101
Гипокрас – сорт сладкого вина, обильно сдобренного пряностями.
[Закрыть], но от водки тоже никогда не отказывался. Особенно хороша зимой, с мороза. Мигом прибрав добрую половину съестного, принесённого Катрин, Маркус ощутил тяжесть и блаженное томление в членах и решил, что самое время вздремнуть на солнышке.
Третья порция оживила Катрин, ей страшно захотелось выговориться. И у матери заблестели глаза, она то и дело перебивала вновь обретённую подругу. Посему Маркус убрался подальше – чтобы не тревожили глупым бабским трёпом.
Проснулся он от сильного толчка в бок. Продрав глаза, обнаружил, что мать и Катрин катались по траве, вцепившись друг дружке в волосы. Маркус поискал глазами нож, обнаружив, сунул за пазуху. Больше оружия поблизости не было, значит, можно надеяться, что обойдётся без смертоубийства. Сделал пару добрых глотков обжигающей жидкости, плотно загнал пробку, чтобы не разлили сгоряча, и перевернулся на другой бок.
Вторично пробудился от холода. Вечерело. Мать и Катрин сидели, тесно обнявшись, и выли в два голоса. От закуски – корки, да кости, тут же валялась пустая фляга.
– Чем ныть, разбежались бы лучше за жратвой, да винца прикупили тож, – недовольно пробурчал он, приглаживая пятерней взлохмаченные со сна волосы.
Предложение пришлось повторить дважды, прежде чем на него обратили внимание. В конце концов он бы и сам прогулялся до съестной лавочки – дали б на что купить.
– Заткнись щенок, – отреагировала мать. – Чудовище ненасытное.
Зато Катрин поддержала предложение Маркуса:
– Верно, малец! Требуется добавить. Пить буду, пока все его подношения не спущу. Пусть лучше голая останусь. Да, голая! Но ни одной его тряпки не оставлю. И юбка эта дурацкая. Говорила ж – не покупай!
Она попыталась разорвать на себе юбку, но не удержалась и покатилась под горку. Лёжа на спине, продолжала орать в небо:
– Ненавижу его! И семя его поганое изведу!
После ленивой перебранки они уковыляли, наказав Маркусу сидеть и дожидаться и, наобещав гору вкусностей и сладостей.
Только отпустив, Маркус сообразил, что совершил ошибку. Надо было с ними топать. Ведь ясно, как Божий день, что они начнут возлияния, едва завладеют заветной посудиной и, совсем о нём забудут. Маркус сел, прислонившись спиной к пеньку, и твёрдо решил дожидаться.
В очередной раз пробудившись от холода, он обнаружил, что уже ночь, правда, светлая из-за полнолуния. Дружный храп вывел его на спящих в обнимку мать и Катрин. Весь их безмятежный вид говорил о не зря прожитом дне: похмелились, подрались, напились, выплакались. Маркус усмехнулся: как ещё обошлось без мужиков. Он не ведал, что обе торжественно поклялись держаться от злодеев-мужчин подальше, а также любой ценой вернуть Ингмара: Катрин – для матери, мать, соответственно, для Катрин. Естественно, встав утром, обе и не заикнулись о своих обетах, потому что начисто обо всём забыли. Маркус терпеливо истоптал траву вокруг спящих. Разумеется, ни жратвы, ни выпивки. Так и знал! С досады наградил Катрин пинком в бок – мертвецки пьяная, она на мгновение оборвала храп, чтобы тут же продолжить с удвоенной силой. Тогда, движимый каким-то непонятным чувством, не то озорством, не то ещё чем, Маркус, с помощью подвернувшегося под руку прутика, осторожно закатал юбки Катрин и, присев на корточки, принялся бесстыдно-внимательно разглядывать облитые лунным светом прелести непотребной девки, размышляя, и что же нашёл в этом особенного Ингмар? Все как у матери. Зачем, спрашивается, менять шило на мыло? Но ведь и у Петры точно то же самое, разве размерами поболе. В чём же дело? Опять эта непонятная «любовь», утащившая у него единственного человека, к которому он привязался всей душой. Ещё непонятно, кто больше тоскует по Ингмару, мать или сын.
Катрин беспокойно заёрзала. То ли иззябла, то ли стало донимать комарье. Маркус торопливо одёрнул юбки и, немного поглазев на луну, решительно втиснулся в серёдку между Катрин и матерью. Согреваемый с двух сторон, он уж точно выспится как у Христа за пазухой.
Жеребчик Ингмар недолго погарцевал. Зарезали на пирушке менее удачливые по женской линии завистливые товарищи.
Катрин действительно все с себя пропила и истекла кровью после визита к знахарке, неудачно поковырявшейся крючком.
Прочие «отцы» как-то не отложились в памяти, из-за полной схожести друг с другом и общей серости. К тому времени Маркус, посчитав себя взрослым, всё больше отдалялся от матери, перестал интересоваться её делами. Встречались, выпивали, разбегались. И речи быть не могло, чтобы заставить его называть очередного пьяного хмыря, тискающего подурневшую мать, «папой».
Об истинном отце Маркуса мать вспоминала после побоев очередного молодчика. Схаркивая кровь, заводила надоевшую волынку:
– Вот был бы жив наш Жан-красавчик.
Потом мечтала, как хорошо бы было, если бы армия вновь прошла по тем заветным местам: показать сыну место гибели отца, а если совсем повезёт, и яму ту найти, куда их скидали скопом после боя – и своих, и чужих.
Сгинула мать глупо. На войне, в лагере, в походе довольно непросто умереть героически-красиво. Даже в бою.
В целом Война есть великая универсальная ярмарка, где на продажу выставлено всё, что душе угодно. Включая и саму душу, и саму Войну. По амбиции и по амуниции можно заказать резню на выбор: на сокрушение или на измор, династический конфликт или всеевропейский погром. Гибкая система оплаты: натурой, в кредит, в счёт будущей добычи. Не прогоришь, если будешь помнить старое как мир: «Война кормит войну». Здесь же широкий набор инструментария: десяток-другой тысяч головорезов во главе с в меру жадным и продажным фельдмаршалом[102]102
10! Десяток-другой тысяч головорезов во главе с в меру жадным и продажным фельдмаршалом – практика продаж и перепродаж отрядов и целых армий являлась обычным делом.
[Закрыть]. Предлагаемое мясо, правда, исключительно одного вида, зато в любых количествах. На продажу выставлены и более тонкие субстанции.
Всегда в продаже, например, «мёртвые души».
Оказался ли полк на острие вражеского удара и был практически полностью повыбит, голод ли протянул меж солдатами свою тощую шею, чума ли чёрной змеёй вползла в лагерные ворота – в бумагах полковника число подчинённых всегда близко к штатному. Такой же ажур в ротных списках. Бумажная армия не болеющих, не голодающих бессмертных топает параллельно. Бесплотные призраки, разумеется, не атакуют и не обороняются, не просят хлеба и не бунтуют. А денежки получают. Ибо жалование казна отпускает именно по этим капитанским и полковничьим рапортичкам. Получив жалование на двести человек, капитан честно выдаёт положенное семидесяти-восьмидесяти имеющимся налицо, а остаток столь же бестрепетно ссыпает в собственный карман. Подобную же операцию проводит и полковник, только остаток у него как минимум на порядок выше. Кавалерийские начальники имеют дополнительный доход на фураже, потому всегда и разодеты пышнее, и деньгами сорят не в пример пехтуре. Проскакивают, разумеется, «белые вороны», тянущие лямку за одно офицерское жалование, но таких чем дольше идёт война, тем меньше. Погибают они, почему-то чаще и раньше. Большинство генералов и офицеров либо кутит напропалую, живя сегодняшним, либо копит на безбедную старость в отставке, думая о завтра. И для первого, и для второго необходимы золотые кругляшки – и побольше. Не будет же офицер, роняя честь, шарить по карманам убитых.
И всё бы распрекрасно, но там, где денежки, там и свары из-за них. Каждый мечтает отхватить кус пожирнее. Затем, если в армии по спискам пятнадцать тысяч, то и задачу дают на пятнадцать, а не на пять, как на самом деле, а это чревато конфузней. Наконец работодатель и заказчик, а у любого из них вечно туго с деньгами, не может не реагировать на наглый обман.
Поэтому время от времени, не столь часто, как хотелось бы верховному командованию, и слишком уж часто по мнению вороватых командиров, устраивались смотры, где список сличался с наличностью.
В такие дни полковники и капитаны становились ну чрезвычайно любезны со слугами, торговцами, проститутками, ребятнёй и прочим лагерным, по мнению командиров, отребьем, для которого во все иные времена у них только окрик и хлыст. Наблюдалась прямо-таки гонка за такими: их улещали, угощали, подкупали. Всё для того только, чтобы приодеть в солдатское, дать оружие и поставить в строй, показав, что вот они, родимые защитнички веры и престола, все на месте, как мы и отписывали, можете убедиться.
И мать, и Маркус, и Катрин, да и весь их шумный табор, не упускал возможности подзаработать. Однако прибыток сей был небезобидным и небезопасным тож. Неподкупленные заранее ревизоры, обычно лишь отечески журили пойманных с поличным офицеров, зато с «липовыми» солдатиками обращались беспощадно: секли принародно, клеймили, резали уши, могли и повесить.
Вот с таким непримиримым фанатиком, чуть ли не из самой Вены[103]103
Из самой Вены – столица Австрийских Габсбургов, императоров Священной Римской империи.
[Закрыть], и пришлось иметь дело матери Маркуса.
В тот год все начальнички, что уцелели, словно с цепи посрывались, выжигая неповиновение и крамолу. И то сказать, недавно столь безоблачный католический небосклон заволокло свинцовыми протестантскими тучами, и всё ещё вчера несокрушимое имперское здание заходило ходуном. Беда не в последнюю очередь утвердилась потому, что очень многие чиновники и генералы блюли государственные интересы в редкие перерывы между наполнением своих карманов. Вон у герцога Савелли[104]104
Герцог Савелли – имперский полководец.
[Закрыть] в Померании за зиму, протянули ноги две трети вояк, а денежки ещё полгода исправно требовали на все десять тысяч. Поэтому на Дунае были твёрдо уверены, что Север на замке, пока Густав-Адольф, всего лишь с тринадцатью тысячами солдат так двинул бронированным кулаком, что вся империя содрогнулась[105]105
юг Густав-Адольф, всего лишь с тринадцатью тысячами солдат, так двинул бронированным кулаком, что вся империя содрогнулась – имеется в виду начало так называемого «шведского периода» Тридцатилетней войны (1630—1635), отличавшегося наибольшей ожесточённостью и размахом боевых действий, а именно высадка войск Густава II-Адольфа в Северной Германии, которую не смогла предотвратить ослабленная армия герцога Савелли.
[Закрыть]. Проверяющий прошествовал мимо матери, которая и усы себе нацепила, и выправкой блистала так, что залюбуешься бравым воякой, как вдруг, обернувшись, несильно ткнул её в грудь:
– Что, служивый, телеса распустил? Никак от водянки пухнешь? Али грыжа заблудилась да не там вылезла?
Мать побледнела, пытаясь что-то сказать, но он уже не слушал. Проворно расстегнул её камзол:
– Что, красавица, совсем растелешить, или и так уж все поняли, что не мужик ты?
И так же лениво, не повышая голоса:
– Возьмите даму.
Сделав пару шагов, обернулся:
– Понимаешь, пахнет от вашего брата по-другому. Амбрэ, так сказать. Вот по запаху я отлов и веду. Без ошибочки.
Дальше в строю, не сразу, а через настоящего ландскнехта, стоял и Маркус. Огромный штурмовой шлем постоянно сползал на глаза, под тяжестью пики затекла рука, прочая амуниция тоже изрядно гнула долу. Хорошо хоть от лат, разных там наколенников и налокотников, в спешной суматохе построения удалось отбояриться.
И сам Маркус, и все окружающие отлично могли предсказать его будущее. Топать ему по солдатской стезе – а по какой же ещё? Сызмальства игрушки – пули, порох украсть да поджечь, или когда очередной «батяня» под настроение смастерит деревянную шпажку, а то и мушкет: и резвись, и привыкай. Со товарищи опять же игры какие – ясно воинские. Причём игра не безымянна, а битва знаменитая или, допустим, осада, рассказов о которых, правдивых и не очень, можно наслушаться у любого костра.
Но мал он пока, не берут в солдаты, год хотя бы ещё подержаться за материну юбку советуют.
Ревизор надолго задержался возле Маркуса. Разглядывал без интереса или осуждения. Маркус почувствовал, как пунцовеют уши, щёки. Тонкие струйки пота зазмеились из-под шлема. Сейчас сильные безжалостные руки вырвут из общего строя, словно зазевавшуюся рыбёшку из родной стихии потащат неводом. Сверкай потом поротой задницей перед всей армией.
– Служи верно, солдатик, – вдруг услышал он, и проверяющий под смех свиты натянул ему шлем на самый нос. – Эх, обстановочка, совсем сопляков приходится поднимать на защиту императора и церкви.
Маркус, боясь спугнуть своё счастье, так и простоял весь смотр, ничего не видя. Чуть позже до него долетел сердитый знакомый шёпот:
– Не думай влезать.
Идиот он, что ли. И мать не выручит, и сам влипнет. Да и ей не убудет с кнута: кости целы останутся, а мясо нарастёт.
Однако так легко, как ожидалось, она в этот раз не отделалась. Посоветовавшись, разоблачённым, а это были в основном непотребные девки и их дети, затесался, правда, ещё и одноногий инвалид, решили рвать ноздри. Верно, ревизор с острым нюхом опасался конкуренции. Кстати, несмотря на все его бахвальства, из строя выдернули едва ли шестую часть псевдосолдат. Везунчики в строю, пряча глаза, переминались с ноги на ногу: вдруг да у кого из приговорённых к экзекуции нервы сдадут. Закричит: «А почему я должна страдать?» – да и пойдёт сдавать всех напропалую.
Однако в помертвевшей от ужаса кучке отлично понимали слепоту выбора: сегодня ты – завтра тебя. Безносой ещё можно протянуть, наоборот, кто-нибудь из не выданных сейчас завтра из жалости и признательности, возможно, кусок побольше швырнёт. Но вот если все отвернутся за предательство – тогда уж точно конец.
А ужаснуться было чему. Потехи ради, а также для усиления эффекта устрашения, велено было инструмент калить на огне.
Детей, раздав оплеухи, в конце концов помиловали, причём пара самых красивых мальчиков исчезла по мановению руки аудитора, а вот остальным пришлось испить уготованную чашу до дна.
Мать была второй. Девку перед ней, у которой и рвать-то нечего было, так как нос давно провалился, унесли замертво, и люди профоса долго отливали её водой, а вот мать оказалась покрепче. Она не только не лишилась чувств от пронзительной боли и вони собственной горящей плоти, но и принялась громогласно награждать ревизора и всю его шайку такими эпитетами, какие даже в солдатском лагере далеко не каждый день услышишь.
Разгорячённый уже втихомолку выпитой водкой, раздосадованный неожиданной задержкой: ведь в генеральском шатре его ждал обильный стол, и он точно знал, за скольких «мёртвых душ» должны угощать, а ведь есть ещё и другой шатёр, где ждёт так кстати подвернувшаяся добыча иного сорта, – аудитор несколькими словами расколол свою блестящую карьеру:
– А вы этой горластенькой ещё и язычок подрежьте.
Под дружный гогот его прихлебателей, слова его обернулись для бедной матери Маркуса гнусным делом.
А уже вечером, когда аудитор, сам сплошная немота, валялся под столом, в столицу полетел донос. Ведь всем доподлинно известно, что нельзя дважды карать за одно и то же преступление, утяжелять кару, когда приговор уже объявлен и записан, а каждый подсудимый имеет право на последнее слово. За первой анонимкой последовали и другие: аудитор обвинялся во взяточничестве, содомском грехе, растлении малолетних, и дни свои он закончил в сырой келье монастырской тюрьмы, тщетно замаливая грехи. Искалеченным им людям, может, и стало бы легче. Если бы они узнали об этом.
Мать отлёживалась пару дней, всем лекарствам и снадобьям предпочитая водку, затем как-то вечером напилась больше обычного и попыталась выяснить, все ли для неё потеряно. Недвусмысленные жесты, в какой-то мере заменили язык, но мужчины откровенно шарахались от её изуродованного лица.
Оставалось одно – сесть на сыновью шею. Маркус в отличие от многих других сыновей вряд ли бы выразил недовольство, тем более прогнал прочь и уж, конечно, не стал бы брезгливо отводить глаза. К тому же у него появился заработок. Сразу после смотра его записали на половинное жалование. Но когда он ещё начнёт получать полное, не говоря уже о двойном. А ведь не сегодня-завтра заведёт себе кралю. Такого увальня и служаку явно причешет какая-нибудь оторва, что будет пить-жрать в три горла. Матери и объедков-то не останется. Да и быть у кого-то в нахлебниках, пусть даже у собственного сына... К тому же она понимала, что чем дальше, тем больше ей необходимо будет выпивки. Поэтому мать продолжала вливать в себя водку, и всё более мрачнела. А ночью, пока все дрыхли без задних ног, она повесилась...
Маркус поморщился – история повторяется. И матери, и, судя по всему, сыну погибель несёт смотр. Династическое проклятье, да и только. Разница поколений в том, что у матери хватило смелости самой разом подвести черту под всей этой мерзостью, а вот сынка поволокут на верёвочке, словно упрямого бычка на бойню.
Среди их команды Маркус, пожалуй, менее всего боялся смерти. Если счесть солдат, отдыхающих под землёй, окажется гораздо больше, чем марширующих по земле. Пришла пора воссоединиться с молчаливым большинством.








