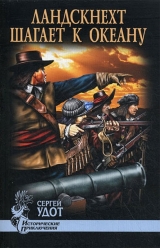
Текст книги "Ландскнехт шагает к океану"
Автор книги: Сергей Удот
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Ганс усмехнулся, неожиданно для всех. Этак ты домечтаешься до «Зелёной лягушки»[79]79
Домечтаешься до «Зелёной лягушки» – на деньги, полученные за казнь руководителей чешского национального восстания 1618 г., пражский палач Ян Мыдларж купил трактир «У зелёной лягушки».
[Закрыть], приятель. И туда будут приходить молоденькие девочки и пить вино, а потом оставаться наедине с тобой в подвале. Ты, она и острейший нож для разделки мясных туш. Ганс даже слюну пустил от удовольствия.
Но всё это, если нас выдадут, если профосова шайка с глубокого похмелья, если из своих никто не предложит услуги вперёд тебя. Хоть беги из строя сломя голову к профосу да докладывай обо всём без утайки.
Старый Георг, после того, как схлынуло первое потрясение, вызванное известием, что Максова подружка жива и спасения не предвидится, начал откровенно клевать носом. Это ведь молодым только голову до кулака донести, а его в последнее время порядком измотала старческая бессонница.
Ошарашил вот её бурдючком с сонным вином и только собрался разом расквитаться со всеми липкими бесконечными кошмарно-бессонными ночами – не дали. Распроклятая солдатчина: ни пожрать, ни поспать толком.
Мало нужды, ещё и убиенная графиня проходу не даёт. Чуть смежишь веки – тут как тут, зазывает проклятая, сулит всякое такое, а сама в кровище с головы до ног, да и гнить начала, как любой кусок мяса. Но ведь он же, Георг, к ней и не прикасался. Вон лбы, что в неё кинжалы пихали, – такого храпака выдают, что призраки и вурдалаки и на пушечный выстрел опасаются к ним подойти. Непонятное что-то творится и на том, и на этом свете. Ведь не пристаёт же к нему тот здоровяк-кирасир, которому Георг влепил пулю в бок на той же полянке. Аккурат в щель между передней и задней половинкой кирасы, ажно сам поразился. Лежит себе покойно там, где уронили, а старая карга совсем взбеленилась. Явно тот вояка, не смотри, что верхом, живым был, и человек уважительный, и товарищ добрый. А графиня и по жизни, верно, была такая же стервозная. Крестьяне её явно наплакались горючими слезами.
Можно, разумеется, службу заказать за упокой души, да где денег взять, да и подозрительно это будет выглядеть. Поп у них ненадёжный, всё более с офицерами якшается да гулеванит. Донесёт, как пить дать, абы просто кому сболтнёт по пьяному делу.
А вообще что ни творится в мире подлунном – оно к лучшему. Ведь ежели по совести судить, подзадержался ты, Георг, на этом свете основательно. Пора к семье, заждались уж тебя горемычного, все глаза проглядели. Вот только как бы исхитриться – попасть в обитель душ безгрешных. Геенна ведь огненная по тебе истосковалась, хоть и уверяет Гюнтер, что наше дело верное и Господь на нашей стороне. Ему-то, краснобаю, все давно и безоговорочно ясно, а вот Георга мутит. Это что же: все их грабежи, смертоубийства и прочие «подвиги», когда сперва режут, а потом начинают интересоваться верой, – все богоугодные делишки?
Сумрачно, Георг, тебе будет являться пред всевидящие вопрошающие очи. Хотя и пора, давно пора.
Вон сколько молодых сгорело мотыльками на огромной свече Войны. А тебе хоть бы хны. И команду ты себе удачливую подобрал. Некоторые из резвых, Михель там, Макс, Ганс опять же, паршивец, посмеиваются за глаза, а то и в лицо прямо выговаривают, что помоложе бы им компаньона, пошустрее. Георг привык к этим подначкам. Время от времени в любой порядочной компании случаются недоразумения, вспыхивают ссоры, плетутся интриги. Разве ж не костерили они порой всемером того же Макса за излишние прыткость и легкомыслие. Вот же свеженький пример – убрали, понимаешь, свидетеля на пару с лопоухим пьянчужкой Гийомом. Перепадало и Гюнтеру за его учёность и гордыню, и Михелю за стремление везде и всегда командовать, всех подминая под себя. А уж про Ганса-то, живодёра, и говорить нечего.
Порода людская неизменна. В мирное время враждуют десятилетиями из-за пустячной межи. Без драки, а то и смертоубийства не обходится ни одна ярмарка, да и любое другое скопище народу. В кабаках, само собой, вино и девки действуют, ровно огонь на порох – то там, то здесь вспыхивают ссоры, драки, поножовщина. А в семьях? Или муж лупцует дражайшую половину почём зря, что чаще, либо здоровая бабища отыгрывается за весь свой род на каком-нибудь хиляке, что всё ж таки случается пореже. Либо родители воспитывают деток всем, чем под руку попадётся, либо возмужавшие отпрыски сживают своих стариков со света, резонно полагая, что хватит, покуражились, пора и честь знать.
Единственное, несущественное отличие войны: у солдат поболе средств разобраться со своими обидчиками. Вот года три назад, подгулявшие канониры шарахнули из полукартауна[80]80
Полукартаун – вид осадного арторудия. Картаун стрелял 24-фунтовыми ядрами, полукартаун – 12-фунтовыми.
[Закрыть] двенадцатифунтовым по кабаку, где их обсчитали, а потом и вытолкали взашей.
Дрались частенько и за работу. Сам Георг из Нижней Саксонии родом. Испанские Нидерланды, а затем и республика Генеральные Штаты под боком. Те же ланды, те же пустоши, но насколько богаче, сытней и привольней живут тамошние крестьяне. Георг, как и многие, не мог ни задаться вопросом: почему так? Он особо не завидовал голландцам и не очень-то их ненавидел. Он вообще тогда был добрее – нижнесаксонский крестьянин-отходник Георг. Может, потому, что немного больше задумывался над тем, что происходит вокруг.
Наверное, не зря нидерландские фермеры и бюргеры столь долго и упорно боролись за свою свободу, за право самим распоряжаться заработанными деньгами. И уже никого не удивляло, что горстка сугубо мирных торгашей и сукноделов швырнула перчатку в рыло самой гордой и воинственной империи христианского мира, да это рыло ещё и размололо в кровь. И хотя славящиеся кроме своей гордыни ещё и ослиным упрямством испанцы снова и снова рвались в бой, даже слепому стало ясно: союзу Семи[81]81
Союз Семи – Нидерландскую буржуазную республику образовал договор 7 провинций.
[Закрыть] быть, процветать и никогда уже не называться Испанскими Нидерландами. Потому и зажили по-людски, что не стало над ними ни жадных маркграфов, ни хищных курфюрстов, ни алчных епископов[82]82
Ни жадных маркграфов, ни хищных курфюрстов, ни алчных епископов – территория Германии была поделена на множество светских и духовных владений.
[Закрыть]. Потому-то каждую весну тысячи кнехтов[83]83
Кнехтов – здесь батраков.
[Закрыть] из Северной Германии привычно топали на заработки к соседям. Их было так много, что нидерландские фермеры-работодатели, кочевряжась, нередко стравливали артели приходящих, руководствуясь дедовскими заветами: «Кто хорошо машет кулаками, тот и трудиться будет на славу».
Какое-никакое, а развлечение в их затерянных в ландах фольварках.
А пришедшие, злые, отощавшие за зиму, и сами всегда были не прочь вздуть друг дружку. Георг как-то попытался действовать на свой страх и риск. Ещё хуже! Полная беззащитность. Заработок не проблема – работа в поле привычна, кормёжка, как правило, очень даже прилична. Надо только вот свои честные гроши домой донесть. Стервятники всех мастей от профессиональных нищих и отставных солдат до благородных рыцарей и всевозможной монашеской братии густо облепляли к осени дороги, по которым сезонники возвращались к родным очагам. Пуская в дело льстивое слово и дубину, краплёные карты и меч, они ровно пиявки присасывались и к без того не толстым кошелькам отходников. Поневоле оценишь преимущество артели. Даже если шайка какого-нибудь фона, у которого цветистая фамилия – единственный капитал, начнёт резать передних – задние могут уцелеть, рассыпавшись по придорожным лугам и лесам.
Вскоре артели стали вооружаться так, что нередко жители встречных деревень спешили укрыться, полагая, что на них наступает организованный отряд разбойников.
Мир буквально сочился насилием,ровно нерадиво слепленная плотина, что даёт обильную «слезу», и каждая такая «слезинка» может стать роковой, пустив сперва размывающую струйку, затем ручеёк, затем неудержимый поток. Мир распирало от злобы, зависти, нетерпимости, как брошенный на солнцепёке труп начинают разносить дурные газы, продукты разложения. Мир кубарем катился с горки в пучину Войны, но многие ли тогда понимали это? В деревнях вот всеми правдами и неправдами выживали иноверцев, заставляя порой людей бросать нажитое поколениями. И рабочие артели сейчас набираются по религиозному принципу. Первый вопрос, куда бы ты ни пришёл: порог какого храма переступаешь, на каком языке слушаешь проповеди? Драки артельные стали более жёсткими, с увечьями, а то и смертоубийствами. Причём опять же полосуются больше из-за «кто как молится», а не «кому на кого спину гнуть». Голландские прижимистые хитрованы подливали масло в огонь, извлекая доход из религиозной чересполосицы. То иноверцам платят меньше, то, наоборот, ссылаясь на родство душ, напирают на то, что «уж свои-то не станут обдирать бедных хозяев как липку».
Георг начинал бояться, как только перешагивал родной порог. Боялся заболеть, получить увечье, потерять деньги, быть ограбленным или убитым, не найти работу, продешевить при найме. Да мало ли что. Мириады опасностей поджидали за каждым поворотом неоднократно хоженой, такой известной и каждый раз по-новому узнаваемой дороги. Осколки того непонятного древнего страха до сих пор сидят в нём. Дорога сама по себе представляла источник страшного беспокойства, тупой ноющей боли. Нанявшись на работу, Георг на короткое время успокаивался, но почти сразу с тоской начинал отсчитывать дни, когда ему опять придётся ступить на дорогу. И так раз за разом. С деньгами он боялся быть ограбленным или обманутым, без денег дрожал, что, не найдя чем поживиться, его просто убьют. Деваться-то некуда. Надел маленький, земля скверная, подати огромны. Ртов много, помощников нет. Старший сын ушёл на заработки да запропал. Георг всё ж таки надеялся, что нашёл его Иоганн работёнку неплохую, постоянную, а то и охмурил подвернувшуюся мясистую вдовушку да живёт припеваючи, имея каждое утро вдоволь хлеба с маслом. Любой нормальный родитель желает детям лучшей жизни. О том, что Иоганн, скорее всего, догнивает в придорожной топи с проломленным черепом, Георг даже и не думал. И второй помощник, Рудольф, не оправдал надежд отца – сгорел в одночасье, простыв осенью в поле. Соседи, правда, призрачно намекали, что дело нечисто, не обошлось без порчи, и изъявляли желание помочь разобраться, но Георг не дал хода этому делу. Вернувшись в следующем после смерти сына году из Нидерландов, Георг узнал, что женщину, давно подозреваемую в связи с Сатаной, настигла-таки кара Божья. Причём обошлось без святейшей инквизиции. Всем встречным-поперечным говорили, что в дом колдуньи попала молния, спалив в одночасье. Георгу, как своему, проговорились за кружкой, что роль небесного огня выполнили охапки соломы и вязанки хвороста да пара факелов. Мужики ещё и заставили Георга выставить им пива, уверяя, что мстили и за Рудольфа.
Одну дочь удалось выпихнуть замуж в соседнюю деревню за такого же горемыку-отходника. Концы с концами сводят, а чтобы помочь родителям – об этом никто и не заикается. Опять же свои дети у них пошли.
Другая дочь так и не обрела своей половины. В том мало её вины: парни то в батраках, то в солдатах, там же, на стороне, и девок навострились находить по вкусу. Перезрелая злючка, у которой каждый прошедший день подъедал кусочек надежды как-то обустроиться. А жизнь-то идёт. Невостребованная. Невозворачиваемая. И начала его Грета заявляться в родительский домишко заполночь, навеселе. Многие замужние соседки стали как-то холодно раскланиваться с Георгом, а в глаза их мужей словно масла изрядно плеснули. Того и гляди утром обнаружишь свои ворота в смоле. Вот срамота-то будет.
Одна надежда – трое младшеньких. «Поскрёбыши». Тихие близнята – мальчик и девочка – и неугомонный сорванец годом помладше. Так и стоят русоголовые перед глазами. Сколько бы сейчас им было, если бы...
Подточенная плотина рухнула, и бездушная стихия с рёвом устремилась на взлелеянное и ухоженное трудом поколений... Не в силах сдержать и остановить более процесс разложения, гниющая плоть кадавра с треском разошлась, выпуская болезненный миазм смерти гулять по белу свету.
Война войной, а есть-пить желательно каждый день, посему Георг опять ступил на знакомую дорогу, ведущую вниз[84]84
Знакомую дорогу, ведущую вниз – то есть в Нидерланды; Nederland – низкая земля.
[Закрыть]. Успокаивало, что война идёт где-то на юге, в фамильных доменах императора, которые в одночасье перестали таковыми являться.
Но война, подземным торфяным пожаром упорно пожирая пространство, продвигалась от своей колыбели. Вытесненные из Пфальца голодные оборванцы Мансфельда, делая буквально-таки заячьи прыжки и петли, пытались прорваться на лютеранский север империи, а Тилли[85]85
Тилли Иоганн Черклас фон – командующий войсками Католической лиги, формально подчинённой императору.
[Закрыть] плотно вцепился им в холку и гнал, не давая огрызнуться или хотя бы дух перевести.
В этой бешеной голодной гонке, теряя сотни отставших, больных и умерших, обе армии вместе с тяготящим снаряжением отшвырнули и те святые принципы, которые якобы заставили их расхватать оружие и загнать Европу в кровавое болото. И когда орды Мансфельда прорвались всё ж таки на столь желанный север, они этого словно и не заметили. Две гигантские волны, вернее, два всепожирающих смерча затеяли причудливую смертельную пляску, подбираясь всё ближе и ближе к родным местам Георга. В своих, на первый взгляд абсолютно бессмысленных метаниях они напрочь игнорировали все границы и нейтралитета, подчиняя свои амбиции лишь принципу животной силы и страха. Что им уютный опрятный домишко Георга со всеми его обитателями? Получасовая забава для горстки негодяев. Деревушка Георга? Дневная лёжка разбитой роты: жадно вобрать чужие жизни, чтобы продлить свои. Что им эта страна? Всего лишь операционная база. Главная стратегическая задача – опустошение. Не оставить противнику ни куска хлеба для пропитания, ни жилья для ночлега и обогрева, ни человека, у которого можно вымучить потаённый припас, которым можно усилить свои ряды.
Георг, как назло, застрял в тот раз в Нидерландах. Фермеры, понимая, что в данных обстоятельствах дармовщине приходит конец, всеми правдами и неправдами старались задержать пришлых работников, то суля златые горы, то пугая адовыми муками по возвращении в родные края, то попросту не отдавая заработанного. Назойливым мушиным роем закружили вербовщики, предлагая вступить в единственную армию, где платят по часам[86]86
Вступить в единственную армию, где платят по часам – армия Нидерландов вызывала изумление всей Европы регулярностью выплаты солдатского жалования.
[Закрыть].
Сердце Георга болезненно сжималось от страха, от тревожных весточек с родины. Дорога стала страшно-враждебной, как никогда ранее, ибо заканчивалась рукотворным адским жерлом. Но он муж и отец. Поэтому, как бы ни трусил, едва последняя монетка аккуратно заложена в кошелёк, кошелёк надёжно укрыт в одежде, дорожная сумка готова, отвальная чаша, да не одна, осушена для храбрости – Георг немедля выступил в путь.
Никогда он ещё так не спешил, и никогда дорога не была столь зловеще пустынной. Война убивает и дороги, когда некому становится по ним ходить или когда уцелевшие люди предпочитают торной дороге тайную тропу. Тогда дорога умирает, зарастая сорной травой, ровно неухоженная могила.
А потом вдруг дорога наполнилась скрипом в спешке мазанных колёс, мычанием и храпом донельзя измотанных животных, испуганным детским плачем. Шли люди, пытающиеся сменять родину на жизнь. Вот только немногим это удалось. Невидимое тавро Войны уже заклеймило каждого из них. Это уже было её стадо, её убойный скот, направляемый опытной безжалостной рукой. И это была агония дороги, как неизлечимый больной перед мраком неизбежности ощущает вдруг улучшение и прилив сил. Практически никто не шёл по пути с Георгом, многие встречные разглядывали его с испугом, как вражеского шпиона или опасного сумасшедшего. С началом бесконечного людского потока Георг внимательно вглядывался в лица беженцев – опасался пропустить своих. Потом плюнул – слишком уж много звеньев составляли живую цепь горя. Осознал вдруг, что не уйдут они никуда, останутся на месте. Не решатся бросить пусть маленький, но свой дом, бедняцкое, но своё хозяйство. Его станут дожидаться, несмотря ни на что, хозяина, принимающего важнейшие решения. А решение покинуть, бросив все, являлось, с какой стороны ни глянь, поворотным в судьбе.
Георг шагал, почти не давая передышки избитым ногам и воспалённым глазам. Дорога, словно заправский карманник, тащила и тащила у него секунды, минуты, часы. Георг шёл как во сне, почти не воспринимая окружающее, едва успевая уворачиваться от встречных повозок, явно ускоривших темп движения. Наконец тело не вынесло напряжения, заданного лихорадочно пульсирующим мозгом. Ноги отказались более выполнять простую и ясную команду – вперёд! Они понесли Георга куда-то вбок, как-то ещё нашли укромное и уютное место – и полный провал в десятичасовой глубокий, как смерть, сон.
До конца дней своих Георг проклинал себя и уверял, что это случилось именно во время его беспробудного сна. Слабые доводы рассудка, что ничем он, успей тогда, безоружный и беззащитный, пособить бы не смог, став ещё одной жертвой, безоговорочно отметались. Если бы он был рядом, уж что-нибудь да придумал, вывернулся, откупился своими деньгами. Жизнью, в конце концов.
Однако его не было, когда длиннющая лапа Войны дотянулась до родного очага, мягко торкнулась в дверь, гнилостным нутром учуяв чистую добычу, задубасила сильней и уверенней. Лопнули ставни, вылетели двери, рухнули стены, осела крыша, погребая глупых людишек, наивно полагавших отсидеться и спастись.
Окончательно обезумевшие от страха и голода ландскнехты Мансфельда после остановки накоротке побежали дальше, а ландскнехты Тилли ещё не подоспели. Вот в щель между двумя армиями, как зёрнышко между мельничными жерновами, и втиснулся Георг. После того как отоспавшись, вопреки своей воле, вновь пустился наперегонки с Войной, дорога совершенно опустела. И хотя все эти люди, нещадно нахлёстывающие заморённых кляч, тянущие, с руганью, упрямых мулов, мочалящие увесистые ослопы о бока медлительных волов, шли в прямо противоположную сторону, их отсутствие резануло неожиданно по сердцу так, что Георг, несмотря на всю торопливость, вынужден был сесть прямо на дороге, благо никому не мешал, и немного отдышаться. Исчезла последняя прослойка между ним и Войной – никогошеньки.
Пара глотков из фляжки взбодрили как обычно. В путь, в путь! С внезапным необъяснимым и полным исчезновением людей его надежда, что все обойдётся благополучно, начала таять, словно струйка дыма, угасающего под холодным дождём костерка. Властно вышибая надежду, её место в душе всё более по-хозяйски прочно и основательно занимал страх. Тёмный, тягучий, беспросветный. Настроения никак не добавляли трупы по обочинам – пока ещё загнанных животных, первые пепелища – пока ещё устроенные самими жителями, дабы лишить врага крова.
Деревушка Георга была, пожалуй, первой, или, смотря откуда идти, последней из опустошённых в те дни. Что бы вражеской походной боковой заставе свернуть на один из просёлков, чтобы на всякий случай быть поближе к основному ядру армии, что бы не дойти полмили, что бы полениться, не подняться на холм, с которого так прекрасно обозревать окрестности. И просочилась бы деревушка, с которой проходящему войску ни толку, ни проку, меж загребущими лапами очередной грабь-армии, осталась целёхонькой. Нет же, изверги, не свернули, дошли, поднялись.
Как у него не лопнуло сердце, пока он шёл по тому, что совсем недавно называлось деревенской улицей, – уму непостижимо. И ведь до самого же конца, минуя остовы и пепелища соседских домов, он упорно продолжал на что-то надеяться. До самого последнего шага. Даже смешно. Сейчас.
А когда дошёл и убедился, что-то вдруг оборвалось внутри, как перетянутая струна. Надежда, издав последний вздох, окоченела, но вместе с ней исчез куда-то томительный гнёт страха и неизвестности. И осталась одна огромная и безмолвная, как мир, пустота. Георг попросту застыл посреди дороги соляным столпом и стоял, смотря и не видя. Почему-то вдруг сразу решил, что они мертвы, и не стал бегать, искать, суетиться, пытаясь отыскать свидетелей и свидетельства. Просто стоял, не чувствуя даже усталости.
Он немного ошибался. Дочь Грета в этот момент была ещё жива, и даже, что удивительно, вполне довольна своей долей. Но вряд ли Георга порадовала бы весть об этом.
Спокойно, не крича и не царапаясь, пропустив целое капральство, она поднялась, подтянула спущенные чулки, одёрнула завёрнутые юбки, и поняла, что чем-чем, а мужским вниманием она здесь обделена не будет ни в коем разе. А большего ей от жизни ничего и не требовалось. Конечно, вояки обошлись с ней, мягко скажем, грубовато, но так их же никто не представлял друг другу.
Ей не повезло потому, что строгое командование, прекрасно сознавая, как большие обозы и лишние люди тормозят маневрирование любой армии, особенно драпающей без оглядки, издало очередной суровый циркуляр. Отныне и вовеки, на роту разрешалось иметь из женского пола четыре «прачки». Причём и отдавшие приказ, и принявшие его к исполнению, ни на йоту не сомневались в отношении основного занятия этих «прачек». Ей повезло потому, что в ротах плевали с высокой колокольни на этот приказ, как, впрочем, и на все остальные. Ей повезло потому, что одну из ротных «прачек» вот уже третий день трепал приступ нервической горячки[87]87
Нервическая горячка – сыпной тиф.
[Закрыть] и солдаты дискутировали на тему: не стоит ли освободить зазря занимаемую повозку, да подыскать достойную замену.
Ей не повезло. Поднимаясь с земли, сильно помятая и счастливая, Грета не подозревала, что сразу прочно подцепила дурную болезнь из букета, которым страдала половина солдат и поголовно все «прачки». Менее чем за год прогрессирующий недуг, облюбовавший молодое свежее тело, вкупе с прочими «прелестями» кочевой лагерной жизни, сведёт её в могилу.
Георг так и не вспомнил, сколько простоял он, недвижим, в шоке и полной прострации. Возможно, что и не один день. В чувство его привело появление новой армии, как нитка за иголкой следующей за первой. Войска, как ноги, всегда топают парами – то одна впереди, то другая.
Эти люди хотели догнать и побеседовать накоротке с нелюдьми, отнявшими душу Георга. Значит, ему с ними по пути. Позднее Георг уразумел, что людьми не пахло и на той, и на другой стороне, да и сам заделался подобным. А тогда он видел все попроще: надо идти и отомстить, а после этого можно и в могилу. Промелькнула, правда, мысль о том, чтобы покончить со всем разом, но он твёрдо помнил, что самоубийцам вход в небесные врата, в которые скрылось от него его семейство, строго настрого заказан. Со своей стороны лигисты[88]88
Лигисты – сторонники Католической лиги.
[Закрыть], лишившиеся в бестолковой и бесплодной гонке через всю империю более трёх четвертей армии, понимали, что исход дела может решить последняя пика. Так лютеранин в третьем поколении Георг, правда, никогда не отличавшийся ревностью в делах веры, встал под знамёна католиков.
Остаток дня и ночи он пропивал со всеми встречными и поперечными донесённые в никуда денежки. Солдатам казалось, что новобранец выставил «вступительные», на самом деле это были поминки. Походя и, в общем, не желая того, Георг узнал, что не успевшими убежать или спрятаться жителями, мансфельдовцы доверху забили два деревенских колодца. В их болотистой местности всегда ощущалась нехватка здоровой воды. Вот, чтобы лигисты почаще отлучались в кусты и тем поумерили свою прыть в погоне, униаты[89]89
Униаты – сторонники Протестантской унии.
[Закрыть] и израсходовали самый дешёвый на войне «материал».
Утром, морщась от жесточайшего похмелья и кряхтя от непривычной тяжести лат и длиннющей пики, как зелёного новичка его конечно ж засунули в пикинёры. Проклиная болтающуюся промеж ног шпагу, Георг шагал на северо-восток.
в перерывах между ругательствами моля Всевышнего попридержать прытких на ногу и на расправу мансфельдовцев.
В первых стычках Георг, ровно одержимый, пёр вперёд, не ведая страха, чем заслужил авторитет среди товарищей. Затем острота боли пылающим вечерним солнцем канула во вчера, сменившись лунно-рассеянной тупой тоской безвозвратной потери, и Георг стал просто жить, всё более думая о себе, а не о мщении.
Впервые вопрос «что делать» встал, когда под давлением настырного Тилли и прочих обстоятельств Мансфельд распустил своё войско. Немалая толика его соратников пришла к католикам, в одночасье став из заклятых врагов, товарищами, однополчанами. Георг едва не нанялся в отряд, которому поручили выследить и убить самого неистового кондотьера[90]90
Кондотьер – военный авантюрист, командир набираемого на свой страх и риск наёмного отряда.
[Закрыть], Эрнста фон Мансфельда, но туда требовались помоложе и покрепче. Тут ещё узнал, что мятежный генерал и Лига попросту не сошлись в цене[91]91
Мятежный генерал и Лига попросту не сошлись в цене – постоянный переход как солдат, так и известных полководцев из одного лагеря в другой и обратно являлся характерной чертой Тридцатилетней войны.
[Закрыть], ибо свои услуги незаконный сын известного католического полководца ценил ой как высоко. Не то получил бы Георг в командиры главного убийцу своей семьи. Впрочем, возможно, те, кто швырял детские тельца в жерло колодца, плечом к плечу шагают с ним по нескончаемым дорогам войны, стоят рядом в битвах.
Шли годы. Георг старел, слабел, и вот в последнее время, всплыв из омута обезличенной тупой тоски, его родные всё чаще появляются перед ним и зовут, зовут к себе. И графиня эта неспроста подзуживает. Пора, значит. Вероятно, это произойдёт сегодня, и бессмысленно уже гадать, куда попадёшь после смерти. Просто пришло время. А всё едино боязно. Потому и угрожал сдуру такому же придурку Максу. Умирать надо без злобы в душе. Так, кажется, поучает Гюнтер.
Георг легонько коснулся Макса.
– А, что? Это ты. Ничего, старик, может, ещё и обойдётся. Прорвёмся. Мы ж всё-таки 4М и 4Г, а не шваль какая-то, пороху не нюхавшая, – забормотал Макс, вырываясь из плена своих мыслей. Как ни был расстроен, а свою букву, назвал вперёд. Георг бы несомненно произнёс: 4Г и 4М.
Незадачливый Гийом именно себя держал виновником того, что вскорости должно произойти. Ведь Макс же вывел его тютелька в тютельку и девку выставил, ровно мишень, а вот он, Гийом, не удержался, перебрал некстати и так облажался. Нет ему прощения ни на том, ни на этом свете. Сгубить такую компанию. Лучшую в армии! Гийом очень гордился и дорожил как своей командой, так и участием в ней. Нельзя сказать, что у него совсем не было споров и ссор с остальными, тем не менее его все устраивали. Вот бы ему такую бриганду в Регенсбурге – сейчас бы в золоте купались. В довоенном бытии Гийом был вором широкого профиля. Мог и кошелёк срезать, и в церковном алтаре не гнушался пошуровать. Как и у всякого уважающего своё ремесло лихого человека, в конце пути у Гийома стояло лобное место – ни обойти, ни свернуть. Со сколькими приятелями, славными выпивохами и живорезами, разлучил его эшафот – сейчас и не упомнишь. Зато сколько карманов очистил он под вопли своих подыхающих подельничков! Народ валом валил на публичные расправы, в экстазе забывал обо всём на свете, некоторые ухари даже девок умудрялись портить в толчее, ну а любителям лёгких деньжат – только успевай поворачиваться.
Мысль о том, что если твою руку вдруг придержат в чужом кармане и ты станешь следующим хрипящим на помосте неудачником, не останавливала, а как бы даже подстёгивала. Острее ощущались бренность бытия и сладость кратких мгновений жизни.
А в Воровскую башню[92]92
Воровская башня – уголовная тюрьма в городах.
[Закрыть] угодил, как это всегда бывает, по-глупому, совсем не там, где ожидалось. В преддверии открытой схватки в моду вошли тайные политические убийства. Протестанты втихую резали католиков, и наоборот. А кроме того, под шумок моты списывали долги путём устройства смерти кредиторов, распутницы избавлялись от чересчур дотошных супругов. Уставшие ждать наследники, набитые под завязку капюшонов чужими секретами иезуиты... Да мало ли кому после долгих размышлений или спонтанно, по наитию, озарению, либо как там ещё, вдруг срочно понадобились специфические услуги бретёра[93]93
Бретёр – наёмный убийца.
[Закрыть]. Гийома порой тошнило от показной порядочности, лживого целомудрия, прожжённого благочестия заказчиков. И практически все требовали одного: дело должно выглядеть форменной уголовщиной, и ничем более. Авансировали, правда, щедро. По исполнении заказа могли исчезнуть, но ведь анонимный донос-то придумали не только для того, чтобы невинных порочить.
В том треклятом дельце Гийом и стоял-то всего лишь «на стрёме», успел удрать, пока заводчиков вязали. Залёг в укрывище тайном, только доверенным ведомом. Под утро и выгребли оттуда, плотно перекрыв, без исключения, ходы и выходы. Видно, ночью вырвали палача из объятий Морфея или Бахуса, супруги или любовницы, ну, он спросонья и прожарил хорошенько пятки кому-то из схваченных посвящённых. А Гийом понадеялся, что он только с утра возьмётся за своё «достойное» ремесло, да покуда раскачается: захмелится, огонь воздует, дыбу смажет, топоры да крючья поправит.
Гийома особо-то не допрашивали. Вина доказана, показаний против него уйма, да он и не запирался: выложил начистоту, и про себя, и про дружков, точно так же, как и они про него. Зачем омрачать себе последние денёчки, упрямиться, озлобляя следователей, когда дело коню понятно.
Страшна не сама даже пытка, а её ожидание. Стойкий запах бойни, погреба, сортира. Крупные капли шлёпаются со сводов в унисон долетающим, словно из толщи камня словам. Как ни вслушивайся, ни напрягай уши, если они у тебя ещё сохранились[94]94
Уши, если они у тебя ещё сохранились – распространённым видом наказания мелких уголовников, попавшихся впервые, было отрезание ушей, как бы визитная карточка, доказательство того, что данный человек уже имел дело с законом.
[Закрыть], всё едино, эти размеренные, никак не складывающиеся в связные вопросы слоги идут, словно из склепа. В перерывах между вопросами и ответами, скрип гусиного пера и треск свечного фитиля, порой самые громкие звуки, но эта тишина пугает пострашней любого окрика и вопля, ибо в них уже изначально запрятаны твои будущие не столь далёкие мучения. Гийому этот скрип представлялся скрипом колёс позорной телеги, отвозящей приговорённого на лобное место, а треск – треском своей дымящейся шкуры.
Палач в углу солидно потягивает винцо, ожидая своей очереди. Весь его вид словно говорит о случайности и ненужности его нахождения в этом храме боли. Словно топал он в таверну, да вот незадача – промахнулся дверью. Если присмотреться, видно, что он немолод, устал, невесёлые думы витают далеко от обдумывания способа, как ловчее переломать тебе кости. Но никто на него не пялится, словно все здесь играют в игру «его здесь нет», словно неосторожный взгляд может притянуть несчастье. Кажется, что и дознаватель нарочно понижает голос, и писец старается помягче елозить пером по бумаге – только бы не привлечь внимания главного жреца этой юдоли страданий. Зато вовсю резвятся подручные заплечных дел мастера, мельтешат туда-сюда: подсыпают уголь в горн, качают мехи, позвякивают цепями, выкладывают перед тобой инструменты – один ужасней другого.
Наглядная агитация служит мощным побудительным средством развязывания языков, но порой эффект прямо противоположен: при виде этих зверских приспособлений, которые вот-вот начнут кромсать, мять и рвать твою плоть, язык прилипает к гортани, мысли рассыпаются, ровно истлевший костяк, освобождённый от ржавых оков. И чем более страстно стремишься отдалить момент начала знакомства с этими хитроумными орудиями, тем быстрее приближаешь. Причём Гийом, как и все преступники города, прекрасно знал, после каких слов допросчика следует ожидать этого. Постоянное, мучительное ожидание ключевых слов, отнюдь не добавляло красноречия. Как правило, это звучало так:








