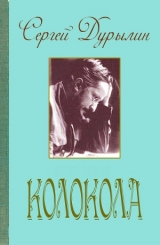
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
3.
В Ильинскую пятницу совершался самый дальний крестный ход в Темьяне.
Еще до Пугачева, сказывают, нависла над Темьяном, в пятницу, что пред Ильиным днем, черная, плотная, как чернозем, туча.
Стала над городом – и ни с места: ни гром не гремит, ни дождь не идет, ни молния не сечет. Страх напал на темьянцев. Вывели на крыльцо под руки столетняго Белоусова, купца, посмотрел он на тучу и сказал:
– Копит силу. Где силу эту сбросит. Где силу эту сбросит, там смерть большая падет.
Сам городничий выходил смотреть на тучу. Убедился он: был в небе большой непорядок: точно, кто выковырял из земли кусок чернозему, десятин в двадцать, и залепил небо. Туча над городом стоит и не скомандуешь ей: «налево кругом!» А раз скомандовать нельзя, чтó городничему делать? Сам себе скомандовал он «Налево кругом!» – и заперся в боковушу: свечу зажег и стал читать «Придворный календарь».
А чернозем густеет над Темьяном и чéрнеть его, с минуты на минуту, жирнеет. Ужас напал на горожан.
Вот тогда-то, сказывают, простой человек, сребряных дел мастер (а кто говорит, – и еще поменьше: тупейный мастерок, Антип, пудривший по утрам косу городничего), взбежал на колокольню, босой, без шапки, и, перекрестясь, ударил в Государев колокол. Был человек он кроткий, тихий, малословный, и откуда у него сила взялась: ударил он звоном в бок черной туче, и туча от того удара дрогнула и двинулась, гремя и чернея. Тупейщик Антип бил и бил тучу в бок серебряным звоном и, под его ударами, отодвинулась туча от города, переплыла за реку и повисла нéхотя над лугами и нивами. А Антип толкал и толкал ее ударами все дальше и дальше от людского жилья, от нив и садов и дотолкал до Боровой опушки.
Там остановился чернозем над буреломом, и в громком гневе вонзил в сухолом такую молнию, что вспыхнул мгновенно вековой сухолом, а из-под бурелома, как из-под Купины Горящей, забил родник чистый, холодный и крепкий. Ливень грянул из чернозема, и проливнем потушило горящую купину. Ключ остался, и пошло ему имя: «Подзвонный ключ». Кто-то вытесал крест над ним. Каждый год, в Ильинскую пятницу, положено было ходить из Темьяна крестным ходом на Подзвонный.
Из всех церквей города отдельные крестные ходы собирались к собору. В соборе служил архиерей. В этот день все лавки были закрыты и не было присутствия в казенных местах. Архиерей провожал крестный ход до заставы, садился в карету, и его везли на Подзвонный ключ, а с крестным ходом шел протопоп. Шли мерно, неторопно: надо пройти около восьми верст. Обедню кончали порану, чтоб до жары дойти до ключа. С крестным ходом уходило полгорода.
– «Началось великое переселение народов», – изрекал Щека, наблюдая, как бодрые толпы народа пестрым цветником двигались за переливающимся золотом хоругвей, икон и духовенства.
– Пан имеет резон, – отвечал Щеке тихонько Вуйштофович. – Обратное переселение совершится на четвереньках.
На ключе в этот день открывалась ярмарка, и многие оставались там на всю ночь.
День всегда бывал жаркий.
Было радостно веселым, размычивым звоном выпроваживать народ из пыльного, раскисшего от зноя Темьяна.
Юродивый Сидорушка брел за крестным ходом и во ржах, мимоходом, нагибался над васильками – искал Богородицыных слезок в их голубых глазах. Но глаза эти были сухи от зноя. Слепцы, идя за мальчиками-поводырями, пели про Алексия, человека Божия. Старухи и старики плелись за ними, поддерживая друг друга. Все, у кого оставалась хоть одна нога, стремились уйти с ходом из города. Безногих везли в деревянных коробках. Даже темьянские собаки плелись издали за крестным ходом: и им было приятно уйти от пыли и серых лопухов. Звон подбадривал отсталых и всех тянул из мутно-серого города, в желто-зеленые полотнища полей и лугов, сшитые узкими белыми швами проселков в неоглядную, праздничную одежду земли.
Василий и Николка с Чумелым и с подручными доброхотами налегали на веревки, чтобы заполнить гущинóй звона далекое пространство, на которое растягивался крестный ход, пока не скрывался из виду. Вместе с легкими белыми парусниками облаков, плывших по синему небу, скользили, обгоняя их, более легкие и быстрые парусники звона.
Крестный ход, переправившись на пароме через реку, уходил далеко, далеко в поля, еле золотясь извивистой ящерицей между сплошной желтью и зеленью полей и лугов. Звон прекратился.
Василий с верхнего яруса смотрел вдаль. Его манило из города. Никола, хоть не любил верхнего яруса, поднимался в этот день к Василию, и тоже смотрел вслед ходу. Чумелый зачем-то махал платком. Стрижи вылетывали из-под карнизов и полосовали воздух острыми, вольными вскриками.
– В Трéнев лог спустились, – вглядывался Никола в чуть видный хвостик ящерицы; золотая головка ее укрылась уж в густой прáзелени леса.
– Да, туда, – равнодушно отзывался Василий. – В Тренев.
Не отрываясь, он смотрел за окоем, Николке все это было знакомо, и он знал по себе, почему смотрит туда Василий. Он его не отрывал; присаживался на скамью; закрывал глаза и подставлял лицо палящему июльскому солнцу.
На верхний ярус осторожно входил старый холстомеровский приказчик Алексей Федулыч Пухов в парусиновом сюртуке. Он считал, что подняться на колокольню, при его болезни ног, все равно что пройти восемь верст за крестным ходом, и каждый год он, кряхтя, шмыгая вялыми ногами и присаживаясь отдохнуть на ступеньки, поднимался на верхний ярус и сидел там весь день, поджидая возвращения крестного хода. Увидев, что ход возвращается, он спускался с колокольни, встречал крестный ход около собора, подлезал на карачках под чудотворную икону и возвращался домой, чинный и торжественный.
Взобравшись на верхний ярус, Алексей Федулыч, в серебряных очках и в высоких плисовых сапогах на мягких подошвах, садился на скамейке возле Николки т долго вытирал вспотевшую лысину канареечным фуляром. Руки у него были розовые и маленькие, как у старушки.
– Ушли! – произносил он, ни к кому не обращаясь. – Пусто в городе. У нас, с холстомеровского двора, двадцать человек ушло. Даже жулики все ушли: выгоднее в народе им операции совершать. Все ушли. Замечал я неоднократно: даже воробьи на это время из города улетают: человек больше на дороге накрошит, чем в городе. Все ушли. Пусто.
Его плохо слушали: Николка дремал, а Василий, охватив голову руками, не отрывал глаз от широкой черты окоема.
– А ведь придут, – также ни к кому не обращаясь, замечал Алексей Федулыч. – Все назад вернутся: и люди, и воробьи. Все.
Василий недобро отзывался, переговаривая его же слова:
– Ну, «вернутся». Так что ж?
– А то ж, – отвечал ему, усмехнувшись, Пухов, – что вернутся. Сколько я лет живу на свете, и замечаю одно: все возвращаются. Кто куда ни пойдет, кто куда ни уедет, кто куда ни полетит, а все в свое место возвращается. Не дано человеку не возвращаться. Я это давно заприметил.
У первого хозяина, у кого я еще в мальчиках жил, сын был, Михаил Аверьяныч – по счету третий, по уму – не то первый, не то, не поймешь, какой. Торговали бакалеей. Пряностью: корица, гвоздика, ваниль, лавровый лист. Ну, лавровым, так лавровым – что ж тут удивительного? А могли бы сеном. Товар – товар и есть. Простое дело. Михаилу ж Аверьянычу – не простое. – «Хочу, – говорит, – видеть лавровое дерево. Что ж это, говорит, мы всю жизнь лавровый лист один видим, а дéрева, какое оно с этим листом, так и умрем, не повидаем? Корица, говорит, тоже: корица, это значит – кора. Корой торгуем, а откуда она, эта кора, от какого дерева? Так умрем и не узнаем? Это все равно что берестой торговать и березы никогда не видеть. Даже очень глупо и стыдно это». Вот вбил себе в голову: «Жив не буду, а на месте узнаю, от какого это дерева кора?» Папенька, Аверьян Иваныч, царство небесное, плюнул, а отпустил: «Поезжай, – говорит, – дурак, посмотри. Следовало бы тебя здесь березовой кашей угостить, да авось тебя там лавровой накормят». И поехал. И без вести пропал. Года два-три не было слуху. Справки наводили в иных странах – неизвестен. Думаю: видно, корица не от сладкого дерева кора: хорошо, как там из лаврового-то дерева домовины тешут, а как просто зарыли, словно падаль. Вот тебе и узнал корицу! Пропал. Ну, что ж, думаю. А, может быть, он и жив, и счастье даже себе там нашел, и лавровые-то рощи повеселей наших осиновых оказались. Ан, нет. Вернулся. Похудел, постарел, а вернулся, и за прилавок, слóва не говоря, стал. Отец спрашивает: «Ну, что ж, Михайла, корица от какого дерева кора?» – «Ничего, – отвечает, – особенного нет, папаша, от обыкновенного. Даже неинтересно рассказывать. И лавровые, говорит, рощи все голые стоят, весь лист с них содран ради коммерческих целей. Скучно смотреть. Наши березовые лучше: хоть без голизны, в листве». Вернулся – и остался. Никуда из Темьяна не выезжал. Даже за город не выходил: дома водку пил и огурцом с собственного огорода закусывал.
А то Никандра отца, от Егория-в-Холуях, дьякона, сын. Из семинарии в добровольцы на войну уходил. Ну, этот, думаю, непременно не вернется. У Никандра-то одиннадцать ртов, не считая своего, а хлеб не в каждый роток попадает. Либо убьют, либо в люди выйдет. И он сам так объяснял, уезжая: «Еду я и воевать, и чужие земли понаблюдать. Вряд ли вернусь. Всякий своего счастья кузнец». – «До свиданья, – говорю, – куй на здоровье». – «Не до свиданья, – он меня поправляет, – а прощайте». Ну прощайте так прощайте. Уехал. Нет вести. Ну, убит, думаю. Хоть этот не вернулся. Лег на поле славы. Прошло два года. Однажды шлют ко мне от отца Никандра: «Дайте, – просит, – в пузырек бузиновой» (очень хорошо я настаивал водку на бузине: от ревматизма пользительно). Налил. Даю. «Что, али отца Никандра схватило?» – «Нет, – отвечают,–Петра Никандрыча, сынка». Ага, думаю, вернулся. И так нелюбопытно мне было, что даже не пожелал поглядеть: ревматизм-то, и не уезжая, мог бы дома получить. Хоть бы ранили – и это любопытней было бы.
Еще многие из Темьяна уезжали, и на лодках уплывали, а кто и пешком уходил. Петра Иваныча сын, зеленщика. В училище какое-то поступил в Москве; учился долго; не возвращается. Ну, решаю, видимое дело: Москва слаще показалась, чем Темьян. Иду ко всенощной под Ивана Богослова: встречаю! «Обучились?» – спрашиваю. «Обучился, – отвечает. – Водку пить с пивом обучился, смесь: чернокожий с белолицей. А раньше, говорит, знания не имел. Хочешь, научу?» – «Благодарствуйте, – отвечаю. – Позвольте поздравить с возвращением».
И предводителева дворянства, Курамышева, сынок вернулся: в параличе привезли, и Веденеева дочка, чтó в Петербург выдали, вернулась: за ручку двоих ведет, третий во чреве. Это еще хорошо вернулись: кто хоть и без ног, да вольно. А то и с ногами возвращались, да по неволе передвиженье: Умницына сынок, Гаврюшка. Уехал из Темьяна. Отец долго не пускал. Пустил-таки. Не было возможности не пустить: все стены, все потолки изрисовал. Безобразное дело: в углу иконы, а на стене – некая оголенная. Пришлось пустить. Художеством, говорят, в Питере занимался. Художества мы его в Темьяне не видали, а вернулся художественно: по этапу, и прочно: без права выезда, и еженедельно визит к полицмейстеру, но без закуски и угощения.
Все возвращаются. Никто не остается. Все возврат назад. Чтó люди! Птицы даже. Губернатора от нас переводили, Пехтерьева; все с собой увез, все имущество. Мороз был, как уезжал. Попугай у него был замечательный, со словесностью. Генеральская грудка. Лапки в башмачках зеленых. «Ваше превосходительство, – губернатору советуют, – оставьте попугая. Замерзнет. По теплой погоде мы вам его доставим в здравии, с полною словесностью». Нет, взял с собою. «Я, – говорит, – с ним неразлучен». Ан, попугай-то вернулся скоро: на первой же станции замерз, оставить пришлось у смотрителя. «Зарой, – говорит губернатор и плачет, – и похорони с честью: он не простой был, а с русской словесностью». А смотритель, не будь дурак, чучело из него сделать велел. Смотрит: едет Пивоваров, купец, уже весной, в коляске, а на руке у него губернаторский попугай, зеленый с красным, красуется. Чтó за притча? Привез Пивоваров попугая домой и в клетку золотую посадил. Лет пять у него в клетке он чучелом сидел. У смотрителя купил за полимперьяла. Так попугай и вернулся в Темьян.
Да и губернатор вернулся. Только не губернатором, а так, старичок в сокращении, хоть и на красной подкладке. Доживал на Овощной, в собственном доме. На последние гроши купил, в четыре окна. Все возвращаются. Никто не уйдет.
Однажды я только усомнился: все ли возвращаются? Пролетал над Темьяном воздушный шар. Я в саду сижу, чай пью, а он летит высоко и быстро-быстро. «Вот этот, – думаю, – мимо: пролетит и не вернется». Чтó ж бы ты думал? Словно нарочно. К вечеру же вышел я прогуляться, а народ валóм бежит за город. Что такое? «На Козьем болоте шáрина мокнет». Я не поверил. Глупости. Сел на лавочке. Отдыхаю. Гляжу: везут на телеге шелковое тряпье от шара, урядник правит, а тут же, на тряпье, воздухоплаватель на боку лежит и охает. Очень его мужики избили козихинские: вздумали, что конскую болезнь он с воздусей спущает – ну, и бить. Едва отняли. Шар – в клочки. Уж как высоко летел, а вернулся-таки. Все вернутся. Куда ни уходи – вернутся. Воробей последний – и тот вернется. Выходу нет.
Пухов отер лысину фуляром. Парило.
– Скучно с тобой, – отнесся к нему Василий нехотя и отошел к другому пролету.
Николка спал.
– Не весело, – согласился Пухов. – Это к слову пришлось. Ну, я пойду пониже. Тут у вас жарко очень. Там ждать возвращенья стану.
Он спустился в средний ярус.
Василий жевал хлеб и, свесившись над перилами, тихо и унынливо напевал что-то про себя. Потом и он, растянувшись на досках, стал дремать, укрывшись в круглую тень, падавшую от большого колокола. Распарившись, Николка, тоже перешел со скамейки на пол. Спали долго.
Первым проснулся Николка.
Он зорко вгляделся в устало мревшую на солнце даль. Было еще пусто, но через полчаса из дали, из-за лога, блеснуло первое золото крестного хода. Николка разбудил Василия, и проснувшийся звон загудел над Темьяном, как облака пара, выпуская свои клубы навстречу крестному ходу.
Люди в ходу приободрились, заслышав звон. Хоругви плавнее и дружнее задвигались в воздухе. Звоном, как магнитом, притягивало крестный ход к собору. Многотысячной толпе было сладко и приятно отдаваться воле этого магнита. Возвращались усталые, потные, молчаливые, и чем слышней делался звон, тем ближе было к дому. Лишь один Сидорушка по-прежнему уклонялся с дороги в рожь и наклонялся над васильками, что-то шепча над ними.
4.
На масленице, под Обрубом, на льду Темьян-реки, происходило народное гулянье. В дощатых балаганах, с утра до вечера, стоял стон от охриплых зазывов накрашенных балаганщиков, от ударов в бубны и барабаны, от гульливого разлива и перелива веселящейся толпы. В блинницах, на скорую руку сколоченных на льду, краснорожие бабы пекли блины и оладьи, и из их скрипучих дверушек беспрестанно вылетал сизый чад с пьяным перегаром и похабными песнями. Ряженые – козы, медведи, цыгане, подлекари, мужики – толкались по улицам и проникали в дома, требуя «ряженый блин». Ряженый блин, большущий, из гречневой муки, хозяйка выносила прямо на сковороде и потчевала ряженых. У хозяек была примета: кто не угостит ряженых блином с самой большой сковородки, у того во всю масленицу будет неудача с блинами. А это было бы дело нестаточное: масленый чин блюлся в Темьяне нерушимо, и не похвалил бы ни один хозяин свою хозяйку ни на купецкой Московской улице, ни на мещанской Булыжной, ни на пропойном Обрубе, коли б во всю масленицу пошли у нее блины комом.
В четверг на масленице появлялась на глухих улицах и сама Масленица. Была она высока ростом, дородна, бела, румяна, без бороды, но в портах и в валенках, а поверх портов в затрапезной юбке и в бабьем кумачном шлыке. В руках у нее был в одной – ухват, в другой – блин на сковородке. Масленицу везли парни и мальчишки в розвальнях. Всякому прохожему и проезжему Масленица тыкала в лицо сковородку с блином – угощала своей стряпней. Отведать всякий отказывался: благодарствую, сыт, де, по горло, но за угощенье клали ей на сковородку кто пятак, а кто гривенник. Не положи ей – Масленица угостит вместо блина ухватом в бок, а это угощенье никому не сладко: Масленица-то был здоровенный мясник Кутузов из Каменного ряда. Он нарочно для «честной сковороды» брился и в бане парился, и парни, сидельцы рядские, там же обряжали его Масленицей. Наездивщись по улицам, наугощав весь город одним блином, парни с Масленицей устремлялись в блинницы. В субботу и в прощеное воскресенье там стоял дым коромыслом. Масленица пропивала все, чем одарил ее целый город за сковородную ласку. В прощеное воскресенье парни-подмáсленники катали честную Масленицу по снегу, с горки на речку. Катаясь, Масленица срывала с себя бабий наряд, а на льду оборачивалась добрым молодцом – широкоплечим, железногрудым скотобойцем Кутузовым. Он принимал кативших его подмасленников в кулаки, и этим начинался знаменитый кулачный бой на льду.
Бой прекращался только тогда, когда в соборе начинала ударять к прощеной вечерне. Если бой не кончался сам собой, полицмейстер отряжал будочников прекратить бой – тогда лед пустел: кто убегал домой, кого отводили в часть, а кого отвозили в больницу, либо в мертвецкую.
В субботу и в воскресенье по главным улицам, куда не смела показываться ражая, ядреная масленица на розвальнях, купцы катались в санях и пошевнях, устланных коврами.
В воскресенье, во время катанья, появлялся на улице старый заштатный дьячок Авессаломов в соломенной шляпе. В обычное время никто его не видывал в Темьяне. Мирно и безвестно доживал он век у своей племянницы, бывшей за Егорьевским дьяконом.
(Егория-на-Холуях – церковь старая, по старине вторая в Темьяне, после собора. Местные древнелюбители, историк Ханаанский и старинщик Хлебопеков не сошлись в определении, откуда явилось странное это прозвание: «На Холуях». Хлебопеков утверждал, что церковь, в óно время, была построена на месте диком, лесном, изобиловавшем грибами, и название ее происходит от гриба «вóлуй», и надлежит ее именовать «Георгия, иже на волуях»; в «холуи» же переделан сей «волýй» либо по запáмятству, либо по озорному невежеству, уже в позднейшие времена. Историк Ханаанский еще недавно соглашался, что Егорий, точно, построен был на грибном месте и от грибов его прозванье, но грибы эти были, однако, не «волуи», а именно «холуи» (местное название вкусного и питательного гриба (…), и даже, утверждал Ханаанский, есть известие, что на том волуйном (или холуйном, точнее) месте обитал некогда пустынножитель некий, питавший сими грибами плоть, а безмолвием дух. Но, при конце времени, Ханаанский мнение свое решительно изменил и прочел в Обществе изучения местного края особый доклад, где доказывал весьма уверенно, что вовсе не на грибах, холуях ли, волуях ли, была основана церковь Егория, а, во-первых, на народном суеверии, а во-вторых, на «холуях», то есть на холопах, то есть на крепостных людях, на их «холуйских» многострадальных косточках, сокрушенных помещичьим злодейством, и причина основания церкви была та, что некий злой крепостник-помещик, имя коего не дошло до нас, побил и потравил собаками немало своих холопов, или холуев, и, мучимый страхом загробным (под чем надлежит понимать опасение будущего заслуженного социального возмездия), на их костях построил церковь: отселе Егорий и стоит на «холуях»).
Как бы то ни было, на грибах или на холопах, церковь Егория, розовая, каменная, стояла издавна в Темьяне, а при ней, у дьяконицы, мирно жил заштатный дьячок Авессаломов. Известно было, что он первый в Темьяне знаток Апокалипсиса. Передавали, что сам покойный ученый протопоп Гелий хаживал к нему за разъяснениями по поводу масти «коня бледа»: сомневался протопоп, как разуметь «блед»: есть ли «блед» – чáлый или это пéгий, и Авессаломов разрешил: úзбела-чубáр. Губернатор, граф Птищев, был любитель читать про Наполеона и тот, дойдя в некотором сочинении (редчайшем и маловразумительном) до рассуждения об Антихристовом роге Наполеона, призывал к себе Авессаломова, любопытствуя, в какой степени верен перевод Наполеонова имени на Антихристово число, и Авессаломов объяснил ему, что ошибка достигает не более, как одной седьмой истинного числа. Авессаломов читал «Откровение», запершись в чулане, при восковой свече, а выходя из дому в сад, надевал во всякое время года соломенную шляпу: ни поярковых, ни меховых он не носил. «Соломенная шляпа – одна, которую без сомнения носить можно, – объяснял он, – она от честной крестьянской ржицы, а сын погибели ни единого колоса ржаного взрастить не может. У Ефрема Сирина писано: «все может, и неких животных чудищ пошлет, и стричь шерсть с них будут, и птиц неведомых выведет из змеиных яиц, все может, а ни соломинки, ни зернышка с поля не соберет. Помнить надо: чем главу прикроешь, тем мысль ее устроишь». И для благого устроения мысли своей носил Авессаломов всегда соломенную шляпу.
В ней появлялся он на улицах, единственный раз в году, в прощеное воскресенье. Хоть шествовал он в наряде неподобном – в соломенной шляпе, в пегом подряснике с турецким шарфом на шее, в красных валенках, с высокою палкою с Всевидящим оком на набалдашнике, – его никто не останавливал. Помавая Всевидящим оком в сторону катающихся пышно-шубных купчих и купцов, Авессаломов возглашал:
– Ристáлища вавилóнские! Вскýю ристáетеся?!
Мальчишки боялись Всевидящего ока (утверждали, что оно налито свинцом) и следовали за Авессаломовым поодаль. Купцы же считали его слова о ристалищах непристойными и даже срамными, но терпели их, почитая извлеченными из Апокалипсиса, куда никто в Темьяне, за исключением Авессаломова и протопопа Гелия, не заглядывал, веруя: кто Библию прочтет, тот не в полном уме станет, а кто Апокалипсис разогнет, у того ум наоборот перегнется.
Авессаломов шел в соломенной шляпе невозбранно и возглашал, грозясь Всевидящим:
– Ристáете, дóндеже придет предел! Отристáв, возрыдаете! Горе ристающим!
Кроме катающихся купцов и острожных мальчишек, были еще третьи слушатели у Авессаломова: приказчики тех самых именитых купцов, чтó проносились на рысаках, укрытые медвежьими полостями. Приказчики грызли у ворот семечки, озирали катающихся хозяев и перекидывались словечками, как подсолнечной шелухой.
Когда Авессаломов, стоя грозно и простирая вперед посох свой, вопиял катающимся:
– Отристáв, возрыдаете! Горе ристающим! Вскýю ристáете? – приказчики одни смеялись, другие сочувственно поддакивали:
– Катай их! Они катаются, а ты их катай! Сыпь им под полость-то, сыпь под медвежью! Ристай их!
Старшие же приказчики, седобровые и степенные, сами похожие на хозяев, изредка приговаривали:
– Все может быть! Все может быть!
Нельзя было понять, что может быть: погибнут ли, как пророчил Авессаломов, ристающие, или придется самому пророку с сочувствующими потерпеть от ристающих.
В прежние времена купцы жаловались на Авессаломова губернатору и архиерею. Губернатор ответил:
– Пустое. Политического не вижу, но нечто церковно-славянское. Отнеситесь к преосвященному.
Он недолюбливал аршинников.
Архиерей же призвал Егорье-Холуйского дьякона и сказал:
– Придержи возглашателя дома.
Но возглашатель на следующий же год возглашал, по обычаю.
Щека выходил на катанье и, став у каменных львов запущенного княж-катуевского дома, слушал возглашение Авессаломова.
Вуйштофович в выеденной молью венгерке с куньим воротничком, щурился на Авессаломова и на ярящихся купеческих рысаков, и шептал на ухо Щеке:
– Имеет резон.
Щека с сомнением качал головой, а Вуйштофович пояснил, поводя глазами вслед Авессаломову:
– Пан дьяк есть фельетонист и публицист.
Щека огрызался:
– Старый ханжа!
Вуйштофович легонько наклонял голову в знак согласия, но продолжал:
– Тó так, но особо. Пан же дьяк критикует общество: тó, в свободных государствах, есть дело публициста, тó бывает там в свободном фельетоне.
Вуйштофович с Щекой шли к аптекарю Зальцу, а Авессаломов продолжал свой грозовой поход до самой колокольни.
Там собирались звонить к прощеной вечерне.
Уже всю неделю, со среды, звон шел вразрез с тем, что творилось в городе. В городе шумела, орала и пьяно икала Масленица, а с колокольни, над ее шумом, ораньем и иканьем, раздавался строгий постный перезвон. Со среды в соборе и в церквах начинали класть земные поклоны и читать великопостную молитву «Господи и Владыко живота моего».
Однажды вместе с Авессаломовым влез на колокольню купец Пенкин.
Он был выпивши, и на обличение Авессаломова: «Ристающие, изыдите!» – остановил свои крутобокие санки, сбросил волчью полость, бил себя в грудь перед Авессаломовым и кричал:
– Обличай! Я смерд, а ты – пророк. В гороховой шляпе, но пророк. Я – в бобах, но смерд. Обличай! Дроби меня!
Но Авессаломов лишь погрозил ему молча Всевидящим оком и побрел на колокольню. Пенкин увязался за ним. Ветром на колокольне его освежило. Николка уже начал с подзвонками постный, берущий за душу звон к прощеной вечерне.
Авессаломов, стоя у столпа, прислушивался и тихо подпевал в лад мефимонный распев:
– Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Пенкин, кивнув Николке, отнял у подзвонка веревку и дернул раза два. Николка перехватил веревку:
– Не звонишь, а икаешь!
Пенкин протянул было руку за веревкой, но Авессаломов, прислонив к столпу посох с Всевидящим оком, отнял и сам зазвонил. Он звонил в лад Николке, но под его рукой звон сделался еще унынливее. Он не обличал больше ристающих, но плакал и сетовал над всюду ристающей суетой человеческой. Никола незаметно передавал ему первенство в звоне, перенимая его настрóй, и соборные колокола сливались в тихом покаянном плаче, крупными, чистыми слезами падавшем над хмельным и орущим городом.
Катание кончилось.
После вечерни, все соборное духовенство и сам соборный ктитор Букоемов с медалями кланялись в ноги народу, творя «прóщу»:
– Простите, православные, Христа ради!
– Бог простит! – отвечал народ.
Прощаясь со знакомыми и незнакомыми, богомольцы выходили из собора под покаянную «прóщу» соборных колоколов.
Окончив звон, Авессаломов поклонился в ноги сперва Николке, потом Пенкину, потом Василью, потом подзвонкам. Он перед каждым становился на колени, касаясь лбом каменного пола:
– Простите меня, Христа ради!
– Бог простит, – отвечал ему каждый и в свою очередь повергался перед ним.
Когда очередь дошла до Пенкина, он облапил старика и не давал ему кланяться. Но старик крепко приказал:
– Не мешай. Не нами указано.
И, став на колени, истово поклонился, не скоро поднял седую голову с пола и устало произнес:
– Прости меня, Христа ради.
Переняв его строгость и простоту, Пенкин ответил:
– Бог простит. Нас прости, Павлин Петрович, – и сам ему земно поклонился.
Простившись со всеми, Авессаломов спустился с колокольни и, никого не обличая, побрел глухими улицами к Егорию-на-Холуях. По дороге, он просил прощения у встречных, всем молвя:
– Прости, Христа ради.
Лишь юродивому прибавил он:
– И помолись, блаже, о рабе Павлине.
Сидорушка часто-часто забормотал:
– Куропет! Куропет!
Придя домой, Авессаломов сотворил прóщу с домашними и сел за Апокалипсис. Он не покидал прихода Егория-на-Холуях до следующей масленицы.
А зачатый им постный звон не потухал до самой Пасхи, прерываясь только воскресными благовестами да красным Благовещенским вещаньем.
Великопостный звон, изо дня в день, как неусыпный сеятель, сеял над городом золотые зерна светлой грусти и мудрой печали.
Приплывала весна.
Воробьи на колокольне и по застрехам поднимали бойкую весеннюю перекличку, точно спрашивали друг у друга после зимы: «Жив ли? – «Жив! Жив!». Грачи-новоселы, в черных полушубках, вели хозяйственные разговоры, сидя на березах, исподволь наливающих первые почки. На солнце трещали и бились о подтаявший лед неуемные капели. Снег рыхлел, бурел, из сахарного делался кофейным. Грудь ёмче и ненапивней впивала весенний воздух, как мартовское пиво. Над Темьяном капал древней настойчивою капелью, все тот же печальный и кроткий звон.
В конце каждой недели собор и приходские церкви были полны говельщиками. Черные люди часто и истово кланялись земно при строгом возглашенье:
– Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!
Щека записывал в рыжий свой «Диарий», в тетрадь толстую и притаённую: «Некий иностранец, не чуждый языка российского, изумлен был многоядением, практикуемым россиянами на масляной неделе. Быв приглашаем повседневно на блины с обычными съестными приложениями, он всех яств отведывал помалу, не в пример многоядным россиянам. Однако, и помалу отведывая, чувствовал тяжесть немалую в животе своем. С начатием поста, иностранец сей, наблюдая нравы, неоднократно посещал храмы, изумлялся продолжительности молений и, дивясь внезапной крайней скудости пищи сравнительно с предшествующим многоядением, воскликнул: «Удивителен народ этот и малопонятен. Ели они сначала так много и непрерывно, что опасался я за жизнь их; потом же, внезапно прекратив еду, ничего не едят вовсе. Посему и естественно, что, стоя в храмах, поминутно прерывают моления жалобами на боль: «Ой, живот! ой, живот!» – и падают в изнеможении от боли на пол». Наблюдение хотя и иностранца, но опытом ежегодным подтверждаемое».
Пенкин говел на второй неделе и ходил просить прощения к Щеке, к Перхушкову и к Авессаломову.
Щека не принял, а учитель Перхушков ответил:
– Я против вас ничего не имею, Авдей Иваныч, и никогда не имел. Надеюсь, и вы против меня также.
Авессаломова он застал за высокой кожаной книгой. Авессаломов выслушал его и спокойно сказал:
– Бог простит, сударь, – и опять углубился в книгу.
Пенкин был растроган и после исповеди у протопопа полез на колокольню. Ему захотелось попросить прощения и у Николки за то, что «икал звоном в прощеное воскресенье». Николка выслушал его и ответил:
– Не стоит об этом и говорить, господин. Все мы звонари плохие. Там разберут, – он ткнул пальцем вверх, – кто звонит, кто языком шебаршúт. Меня простите.
В это время губернатор Птищев, отдавшись чтению мемуаров о переезде Наполеона на остров Святой Елены, прислушался к звону и сказал своему домашнему секретарю Беневоленскому, переписывавшему губернаторский трактат о коннозаводстве:
– Внимаю. Шестьдесят два года живу на свете, а внимаю. На чужбине, в Ментоне, под пальмами, а внимал.
– Могло ли быть, Ваше сиятельство? – осведомился Беневоленский. – Далеко слишком от наших палестин.
– Внимал! – отрезал губернатор. – Далеко, а внимал. В воображении, в мечтах, в воспоминании.








