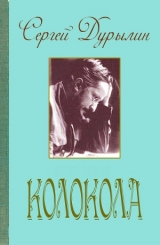
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Заря бледно и неуверенно занималась за рекой.
На колокольне повеяло едким предрассветным холодом.
Никола спустился в собор: слушал утреню на паперти. Василий зашел в каморку, прилег. Но ему не спалось, даже не дремалось. Он обвязал горло шарфом и вышел. Рассвет окружал колокольню ласковым светлым кольцом: из бледно-розового оно густело в золотое.
В это время Николка вернулся из собора.
– Скоро понесут плащаницу.
Из собора вынесли хоругви. Вышли кучки народа. Совсем рассвело. Огоньки свечей дрожали живыми алмазиками в толпе.
Никола перекрестился на восток и дернул за веревку. Он опять сделал то, что делал, призывая к утрене: опять плакал горько и, подавленный горем, умолкал, чтоб вновь плакать и опять умолкать, – плакать от горечи драгоценной утраты, умолкать от невозможности выразить плачем всю глубину и непереносность ее.
Когда крестный ход с плащаницей, сопровождаемый огнями алмазиков и яхонтов свечей, показался из паперти, Василий и Чумелый присоединились к Николке, и надгробный плач, не прерываемый уже никаким молчаньем, погасивший своей горестью всякое молчанье, изливался горьким потоком над сияющей белизною плащаницей, несомой священнослужителями высоко над толпою. Надгробный плач над погребаемым Христом незримо опускался смоченною слезами пеленою над городом, над рекой, над лугами.
Юродивый Сидорушка, идя в крестном ходе, тыкал пальцами в старые, молодые, зрячие и слепые лица и, довольный, частúл, частúл:
– Богородицыны! Богородицыны!
А Тот, над Кем плакали, возглашал из безмолвной плащаницы:
– Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе: Возстану бо и прославлюся!
7.
В Великую субботу, после обедни, на колокольню поднимался Гриша Потягаев, купеческий сын. Два подростка из лавки несли за ним корзину со стеклянными шкаликами разных цветов, с плошками, свечами, проволокой, гвоздями, молотками. Гриша снимал суконную поддевку и, размазывая широкую добрую улыбку, как всхожее тесто, по всему лицу, весело поздравлял:
– С наступающим Светлейшим днем!
– Обратно и вас, – отвечал Никола.
– Разрешите к действиям приступить?
– Как обыкновенно, – разрешал Никола и уходил полежать в каморку.
Потягаев с Васильем, Чумелым и подростками, принимался мастерить иллюминацию. Это было его право, признанное за ним всем Темьяном. Сам настоятель, отец Павел Матегорский, христосуясь после утрени с Гришей, во всеуслышанье заявлял:
– У тебя, Григорий Евлампиевич, талант. Шествовал я с крестным ходом и любовался: огни твои воистину светозарны!
Тоже говорил Грише и губернатор:
– У вас есть вкус, молодой человек. (Грише было за тридцать, и долго считалось, что он – Гриша и ему за тридцать, как вдруг оказалось, что ему пятьдесят и он – Григорий Евлампиевич; до этого один отец протоиерей звал его по отчеству: его самого величали Евлампиевичем). – У вас есть вкус, – вещь чрезвычайно редкая в этом городе!
И любуясь на Гришины кресты и огромные «Х. В.», сиявшие над колокольней, губернатор отмечал:
– Красиво, но не аляповато! Ярко, но без Азии!
Когда в городе начал издаваться «Темьянский листок», Гришина иллюминация описывалась так: «По принятому обыкновению, во время утрени на соборной колокольне зажжена была великолепная иллюминация по инициативе одного просвещенного негоцианта, не пожалевшего на это средств и трудов».
В эту ночь Гриша торжествовал.
В течение же всех остальных трехсот шестидесяти четырех дней Гриша стоял за прилавком в посудной лавке, удил рыбу в Темьяне и пил кислые щи. Еще с начала поста он начинал готовиться к своему дню. Это служило для гостинодворцев календарем:
– Скоро Пасха: Гриша шкалики принялся промывать.
Гриша осмотрел тщательно все деревянные кресты и «Х. В.», на которые нужно было нанизать изумрудные и алые фонарики. Все оказалось в порядке.
Гриша распределял кресты:
– Большой, с копием, – над западным пролетом. Свет Христов просвещает всех. Белые фонарики.
– А Пасха-то красная, поют, – домекнул Василий. – Не красные ли сюда?
Но Гриша знал твердо:
– В белых ризах Христос воскрес. Белые надо.
– А красные куда?
– Красные на «Х.В.», на восточную сторону, к алтарям. «Яко тает воск от лица огня».
Василий отобрал красные.
– Синие, куда? Зеленых вон сколько у Чумелого!
– Без всяких яких, пустим в разноцветные, на боковые пролеты, в звезды.
– А как распределить? Куда – зеленые, куда – синие, куда – желтые?
Гриша не сразу ответил, хитро посмотрев на Василья:
– А как звезды в полуночи играют?
Василий не понимал, А Чумелый засмеялся.
– Игра у звезд какая? Голубая или золотая?
Не ответил никто. Сам Гриша ответил:
– У звезд переливчатая игра. Разный налив в игре, цветливый. В осеннюю ночь выйдешь на улицу – все звезды играют. Звездится в глазах. Смотришь: вот, думаешь, поймал игру: в изумруд звезда играет – зеленая! Глядь: она в алмаз обратилась, слезой дрожит. Всеми камнями самоцветными, чтó в земле от нас утаены, дает Бог звездам поиграть. Надо нам, Василий Дементьевич, без всяких яких, под игру, под звездистость эту действовать.
Наклонившись над деревянными звездами, Гриша долго распределял разноцветные шкалики. Он вставал с полу, всматривался в звезды сверху и с боков, менял расстановку шкаликов, сердился на советчиков, предлагавших переместить тот или другой шкалик, иногда соглашался с ними, вновь сердился и, когда успевал измаять своих помощников, вдруг решал:
– Так будет хорошо. «Звезда бо от звезды разнствует во славе».
Веселый и довольный, приказывал:
– Валяй крепи.
Василий с Чумелым, с помощью лестниц и веревок, укрепляли крест, Х. В. и две звезды над назначенными Гришей пролетами. Тогда начиналось самое трудное, что Гриша делал всегда сам: установка цветных шкаликов в проволочные держалки. Василий с Чумелым поддерживали лестницу, молодцы подавали шкалики, у Гриши кружилась голова, сердце билось от волнения, но он внимательно и бессменно вставлял шкалики в держалки. Обставив всю звезду или крест, он опутывал шкалики пороховою нитью, чтоб они сразу зажглись от огня, поднесенного к концам нити. Потом уставляли плошки по карнизам колокольни, и вокруг соборного купола, и распределяли где и кому жечь бенгальские огни. Гриша совещался со всеми, выслушивал не только Василия и Чумелого, но и молодцов, но, как истинный художник, решал всегда по-своему.
– Белый огонь жечь – как выйдет крестный ход из собора, сейчас же: «И одежды его были белы, яко снег». Воскрес Христос! Красный огонь – как будут огибать южную сторону: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его». У алтаря – зеленый: «Веселие вечное». Цвет весенний. С северной стороны как пойдут – надо желтый. «Возрадуемся и возвеселимся в онь». Солнышко будет играть. Без всяких яких. Золотое. Возрадуется. А как опять к дверям подойдут – опять красный: «Пасха красная!»
Сам Гриша должен был жечь белый и второй красный огонь, молодцы – первый красный и желтый. Зеленый огонь Гриша опять брал себе: мало ему было двух огней.
– Как выйдет крестный ход из собора – ракета! Высочайшая! Брильянтовая! «Да веселится небесная!» А ей во встречу, без всяких яких, от алтаря другую ракету пустим: в небе похристосуются!
Гриша сиял.
– Ракет, вон сколько!
Молодцы распаковывали ящик.
Но Грише всего этого было мало.
– В Москве в этот день из пушек палят. Сто один выстрел. Веселье! У нас тоже можно б: говорят, в Обрубе, на горе, много пушек закопано: пугачевские. Я говорил обрубчанам: отройте, без всяких яких, палить будем на Пасху. Смеются: какой ты пушкарь! Тебя пушка разорвет. Глупость одна. Палили бы с весельем.
– И так хорошо, Гриша! – улыбнулся Василий. – Какой свет загорится сиятельный!
– Свет светом, а надо и грому быть. Воскресение Христово как было? Земля восколебалась. Так бы и у нас, в воспоминание. Так нет! Всего боятся. Носы бы им не оторвало, а и рвать-то нечего: курносые все.
Гриша озирал еще раз все приспособления и шел домой с молодцами. Он возвращался задолго до полночи.
К тому времени на колокольню набиралось много народу.
Издавна в Темьяне был обычай у купцов: искать первого удара колокола к пасхальной утрене. Кто первый ударит, тому будет во весь год удача в торговле:
– Первый удар со всего света денежку в мошну сзывает. На удар свят ответ злат.
Купцы искали ретиво «золотого ответа». Забирались на колокольню спозаранок, чтоб первому стать у большого колокола. Иные пытались добиться первого золотого удара золотым прошýном: совали звонарям в руки синенькие бумажки на «красное яичко».
Николка бумажек не брал и Василия научил не брать. Его еще Холстомеров наставил:
– Купеческий этот звон – горе с ним. Зóлот удар пасхальный – это верно, только не денежка его слышит, ад всесмехливый слышит: не денежкой колокол в мошне трясет, а геенной огненной потрясает. Даже до последних земли звон этот слышен. Мать Пресвятая в раю на него радуется, и Iуда, раб и льстец, в аду от него угрызается.
Еще при Холстомерове было заведено: купцам тянуть жребий, кому первый достанется удар, чтоб не было пререканий, – и выставлял Иван Филимонович медную тарелку – на красное яйцо нищей братии. Так это осталось и после смерти Холстомерова. Купцы клали на тарелку, а звонарей оделяли красными яйцами. В одиннадцать часов метали жребий: кому первый удар.
Николка испытывал звезды. Знал он их отлично, какая в какое время светит и на какой высоте, но боялся ошибиться в минуте с красной вестью.
Ночь тиха, безветренна, покойна. В городе тишина. Во всех домах огни. Никто не спит. И на колокольне тишина, хоть густо народом.
Гриша передал белый бенгальский огонь доверенному молодцу, а сам решил своей рукой поджечь пороховые нити, как только ударят в колокол, а потом бежать вниз к зеленому огню.
Николка упорно испытывал звезды.
Еще не разгорелись их огни, как разгорятся в полночь, еще пугливы, но входят в силу. Полночь близка.
Вот укрупнел огонь в звездах.
Вот засветился полным светом.
Тишина догорела. Ночь наготове слушать воскресный звон. Пора ударять.
Николка перекрестился крупно и радостно и возгласил громко:
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес! – ответили ему, и золотой удар соборного колокола повторил на весь город:
– Христос воскрес!
Золотой клич звучал в такой ждущей, радостно-ловящей тишине, что от тишины, от всеобщего ожиданья, от ночи и весны, он казался еще громче и красней. Его весть подхватили мгновенно другие колокола: отозвались колокола темьянских церквей, светло откликнулся звон подгородного монастыря, издалека донеслись отгулы и отзывы ближних сел, и все слилось в единый красный звон, играющий, как солнце.
Вспыхнули огни переливающхся звезд и белого креста, «Х.В.», Христос Воскрес, – сияли огни алмазами, сапфирами, яхонтами. Крестный ход вытекал из паперти многосветлой рекой и обтекал вокруг собора, озаряемый белыми, красными, зелеными, золотыми струями. Ракеты взвивались в небо и христосовались там друг с другом. С колокольни казалось: они долетали до звезд, христосовались с звездами, а звезды – друг с другом.
На колокольню неслось с земли многоустное:
– Воскресенье Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси!
Это же воскресенье пели с ангелами, с людьми и со звездами пасхальные колокола.
И целую неделю, неустанно, как люди лобзанием, христосовались колокола звуками с людьми, с птицами, с облаками, с ветром, с весенней землей.
И под христосованье колоколов, радостный, сходил Никола с колокольни, христосовался с женщиной, ожидавшей его с пасхальным лицом и, вместо красного яйца, подавал ей пузырек с водою:
– Нá, прими. С самого языкá скатил, как только «Христос воскрес» возвестил колокол, красную весть. Теперь твой… Мальчик или девочка у тебя?
– Сынок.
– Теперь твой заговорит. Попой его водичкой и заговорит, да еще красно-то! «Христос воскрес!» – скажет!
Отвечали в Темьяне светлою верою на непрестанное семидневное христосованье колоколов: младенцы, долго не обретавшие радость первого слова, немцы, утерявшие слово, – все ответят колоколам:
– Воистину воскресе!
Часть 4: Перед концом
1.
Николка умер в старости, тихо, под колоколами.
Звонили к обедне в Вознесенье: Василий с Чумелым на верхнем ярусе, а на среднем, как всегда, Николка с подзвонком Колькой. Благовест был в полузвоне, когда Николка, звоня в Княжин, сказал Кольке, надавливавшему ногой доску с путлей от малых колоколов:
– Что-то звон плохо идет. Не в лад с Васильем. Ты ли не попадаешь, я ли, на старости, подвираю – не разберу. На второй звон поди-ка ты наверх, к Василию, а ко мне Чумелого пришли.
Так и сделали: Колька, с серебряной серьгой в ухе, полез к Василию, а оттуда пришел Чумелый. Николка ему обрадовался и пожаловался на себя:
– Глухарь я стал. Не слышу, что вру. Меня бы Иван Филимоныч, покойник, не похвалил. Вам-то наверху и то, я думаю, слышно было, как я весь звон замутил.
Чумелый улыбнулся: рад был, что с ним говорит молчаливый Никола.
– Не мутил. Звон зыбкий давал, в лад.
– Отчего же я муть слышал? Звоню, – а слышу: мучý звон.
– Показалось.
– Глохну, что ль?
– Мерéкнулось, так, зря. Пора второй звон начинать.
Николка перекрестился, ударил в Княжин: звук был чистый и ясный. Чумелый рядом, а Василий наверху присоединились к нему – и возноситься стал звон. Прислушался Николка: облако бело, не мутно. «Показалось, видно», – подумал он, – и вдруг сердце метнулось куда-то больно и сладко. Николка зашатался, выпустил веревку и, поджимая ноги, быстро и послушно опустился на корточки под колокола, присел, держась рукой за сердце. В облаке звона кто-то оторвал край: оно стало ýже и водянистее. Чумелый крикнул:
– Что ты?! – перехватил болтавшуюся веревку и стал звонить вместо Николки: облако опять поплыло полное и тяжелое.
– Что ты? – крикнул опять Чумелый.
Но Николка не отвечал. Он уже был не на корточках и не сидел. Он лежал под колоколами, рука отпала от сердца, и зрачок одного глаза внимательно вперялся из-под приспущенных век в медное нутро колокола. Тогда Чумелый нагнулся над ним, сколько мог, не выпуская веревки и не останавливая звона, и крикнул было:
– Подожди: звон кончу. Сейчас. Воды принесу, встать помогу.
Но странно закруглившийся зрачок смотрел на него так недвижно и емко, что Чумелый понял, что Николка никогда не встанет, – и ахнул вслух:
– Отошел.
Звона бросить было нельзя – это Чумелый знал, – и показалось ему: если остановить звон, посмотрел бы Николка и другим глазом укорно на него, – и Чумелый, плача, звонил над покойником. Колокола привычно и спокойно возносили к небу медную, ничем нерушимую хвалу. Нельзя было лежать под ними иначе, как с таким же нерушимым спокойствием: так и лежал Николка: слушал звон.
Когда кончился второй благовест, Василий с подзвонком сбежали с верхнего яруса.
– Что тут у вас? – еще с лестницы крикнул Василий. – Звон шатался.
Чумелый не ответил: он плакал над Николкой, закрывая ему упорное веко.
– Постой, – сказал Василий.
Он положил земной поклон и, не вставая с земли, глянул в лицо Николки. Оно помолодело, веко опустилось, глаз закрылся, и от этого еще глубже лег на лицо покой.
– Отзвонил, – сказал Василий, поцеловал покойника в лоб и, встав с полу, тронул рукой плакавшего Чумелого.
Они с подзвонком подняли Николку и понесли в каморку.
Николку хоронили в воскресенье, – и когда несли его из собора, колокола прощались с ним дружно и благодарно.
Его похоронили неподалеку от Холстомерова.
Василий долго стоял над могилой. Горсть земли не бросил он в могилу, – а теперь руками разравнивал песчаный холмик. Он не слышал, как второй соборный священник, отец Георгий, напутствовавший гроб в могилу, сказал ему, разоблачившись:
– Ну, раб Божий Василий, ныне ты – господин звона! Шествуй по стопам предшественника.
Не слышал он, как его тронул за рукав Чумелый:
– Будет. Пойдем.
Василий и не плакал: просто ему отходилось от могилы, – и он отстранял всякого, кто хотел его отвести. Гриша Потягаев, улыбаясь, взял его за руку:
– Пойдем, Василий Дементьич, без всяких яких, помянуть покойника.
И на это «пойдем» – Василий ответил:
– Пойдем.
Поминали в трактире Рыкунова, куда ходили рабочие с Ходуновской фабрики и мещане из Слободки. В трактире, на чистой половине, с говорящим скворцом в клетке, собрались прямо с кладбища купец Пенкин, конторщик фабрики Ходуновых Уткин, переплетчик Коняев, старинщик Хлебников, чиновник из казначейства Усиков. Это все были любители звона, почитатели покойного Николы Мукосеева. Был тут и Чумелый. Звали и протодиакона Глаголевского, но он отказался:
– Рад бы душой: уважал покойного, но мне по сану непозволительно. Поминовение творится в трактире…
Но, чтобы не огорчать поминающих, предложил вместо себя псаломщика Порфироносцева:
– Бас его, по весу, немного разве не вытянет против моего. Он вам устроит нужное восклицание.
В «чистую» трактирщик приказал никого не пускать сторонних. Гриша притворил за Васильем дверь.
Василий, молча, поклонился всем.
– Жил человек, – и нет человека. Помянуть надо: хоть тем в памяти утвердить, – сказал Пенкин.
– Благодарны мы ему, – поддержал его ходуновский конторщик Уткин, – радовал звоном.
– Вот и помянем, без всяких яких, – улыбнулся Гриша. – Сейчас блины подадут, а кутья на столе. Помолебствуйте, Диомид Диомидыч.
Псаломщик Порфироносцев откашлялся и прочел молитву перед едой, и к ней прибавил «Со святыми упокой». Он же начал кутью, перекрестив трижды:
– Упокой, господи, раба Николая. – Отведав, передал Грише.
Хлебопеков, в серебряных очках, с голубою бородавкой, зачерпнув ложечку кутьи, сказал:
– Поминаем человека, имя коего, уповательно, останется в летописях града Темьяна.
– А есть такие? – спросил переплетчик Коняев, и не без лукавства прикрыл нижним веком левый глаз: крупный, серый, веселый.
– Есть-с, – строго поглядел на него Хлебопеков.
– Любопытно бы на них взглянуть.
– Письмéн не разберете, молодой человек.
– В лупу можно, – пробурчал конторщик Уткин.
Но Хлебопеков продолжал торжественно:
– Да-с, останется. Это был мастер своего дела, и преосновательный-с! Звон его был достопримечтальность. В путеводителе упоминания заслужил.
– В путеводителе и наша Княжеская упомянута, – хмуро буркнул Уткин.
– Во всем согласен с уважаемым Пафнутьем Ильичем, – сказал казначейский чиновник Усиков, человек очень аккуратный и щепетильный, в белом кителе, – но не могу не добавить двух слов.
Он проглотил кутью, так как до него дошла очередь.
– Звон – государственной важности предмет. Безусловно, так. Недаром, никому для частного употребления не дозволено прибегать к звону. О церковном назначении звона я не призван изъяснять. Звон, а стало быть, и производящий его, – есть напоминатель. О чем? Разумеется, о долге, об обязанностях – о религиозных, – Усиков придержал речь для аффекта, – и гражданственных. Звон приводит обывателя в чувство…
– Берет за шиворот, – вставил Уткин и, крякнув, выпил очищенной.
– Предпочтительнее другое выражение, но смысл вами уловлен, – наклонил голову в сторону Уткина. – Напоминает обывателю о законе.
В это время начали обносить блинами, и аккуратный Усиков выждал, когда первый блин благоприлично лег в желудке, и приятно продолжал:
– Возвещает о долге человека и гражданина. В колоколе слышен голос совести общественной. Колокол – гражданин.
Хлебопеков задержал полблина на вилке и осведомился:
– Не хватили ли, вы, батюшка, а еще ничего, кажется, не пили-с? «Колокол» издавал известный вольнодумец Искандер, так тот действительно и о гражданстве возвещал, – в Сибири, в рудниках-с, обедню слушать.
– Вы о вольнодумстве, Пафнутий Ильич, а я о законе. Я о гражданском значении церковного колокола, – кажется, ясно.
– Ясно, – воскликнул Уткин, – и будет! Выпейте лучше.
Сам налил три рюмки: две, одну за другой, выпил сам, а третью протянул Усикову.
– Без всяких яких, выпьем, – поддержал Гриша. – Покойник был душевный человек: это главное. По душе и помин творим.
– Позвольте, я докончу, – не унимался Усиков. – Я говорю о гражданском значении такой должности, как звонарь…
– Это не должность, – прервал Уткин.
– Что же-с? – обидчиво и спесливо осведомился Усиков.
– Это – искусство.
– Не сан ли? – вставил осторожно, не прожевавши икру, Порфироносцев.
– Сан к духовному относится, – сказал Пенкин.
– А звон – разве не духовное?
Тут вступился Коняев – сероглазый и веселый. Он все катал шарики из хлеба и один за другим бросал их в рот.
– По мнению господина Усикова, звонарь – по юридическому ведомству, вроде как бы воздушный товарищ прокурора: бдит над законами. А вот, господин Порфироносцев говорит, что – по ведомству православного вероисповедания…
– А вы по какому ведомству утверждаете, господин Коняев? – обидевшись, спросил Усиков, и шершаво повел по сутулой, крепкой фигуре Коняева маленькими, карими глазками.
– Без ведомств! – воскликнул пивший рюмку за рюмкой Уткин. – То-то и дело, что без ведомств! Без мундира!.. Вот, кто знает, что такое колокол, вот кто! – Он тыкнул в Василия, и потянулся чокнуться с ним. Но Василий отвел его рюмку и, молча, выпил свою. Его брала тоска. Он молчал.
Хлебопеков вздохнул и сказал:
– Все мы склонны к говорению речей. Наше же дело помянуть, а уповательно, не разглагольствовать. Господин Уткин, ближе к поминовению.
– Очень близко, – спокойно сказал Уткин. – Рядышком. Я на кладбище не был, а сюда пришел. Не люблю смотреть, как человека зарывают. Жил-жил человек, работал, работал, – и только всего и наработал, что зарыть, землей завалить. Это и собаку так можно, и кота дохлого. Это всем полагается по требованиям санитарии. А неужели же человеку не положено никакого отличия от кота?
– Земля еси и в землю отыдеши!– вздохнул Порфироносцев.
– Правильно. Точно. Нучно даже: земля и в землю. Куда ж еще? Не в небо ж? Но, повторяю, нужно же какое-то нибудь отличие человеку?
– Памятник поставят, – сказал Пенкин, поливая блин маслом.
– Памятник? Э, врешь! Памятник – не то. Хоть и под памятником, а землей-то все-таки засыпят. Нет, надо что-нибудь человеку: жечь бы, что ли, на высотах. Вот, мол, смотрите, не полено осиновое, а мозг человеческий горит. Сколько в мозгу огня было, в живом! Ну, и жечь бы! Огнь еси и в огнь отыдеши! Красиво бы надо с человеком поступать, а то глаза запорошить – и конец! Фу, не хорошо. Вот и не хожу я на кладбище. А сюда пришел. Помянуть Николая Мукосеева. Умер человек – и не вспомнить? «Вечная память»! Ах, враки: не «вечная»! Просто – никакой! Бугорок – баста. Молчанье. Растительность. Ничего больше. А я вот, Уткин, заявляю: помню – и буду помнить, и пока я жив, будет вечная!..
– Маловато! – засмеялся Хлебопеков.
– Маловато? – Врешь, много! Не вмещает человек в себе памяти, ничьей. Тесно ему и свое помнить, и на себя памяти места не хватает: где ж тут чужое помнить?.. Что такое колокол? Колокол – это гроза-с! Атмосферическое явление! Я, Уткин Сергей Никифоров, лежу в луже, – пьян-с, я сочинениями Пушкина, Александра Сергеевича, за ненадобностью, ватерклозет оклеил, я знаю наизусть «Братья-разбойники» – и бью по щекам жену свою, я ворую у нее пятачки из комода, – и вдруг-с, когда я в луже и Пушкиным уже оклеен ватерклозет, и вдруг-с из атмосферы мне: зык, молния звуков, гром сердца: «перестать! Пушкина с благоговением склей с непристойных стен и листы облобызай! Жене поклонись в ноги! Пятачок верни, превратив потом и слезами в сторублевку! Себя обрáзь!» Это все с атмосферы-с, от громов, – и в красоте несказанной, и без человечьего подлого указа, без человечьих приживалкиных гнусных наставлений. Это ливень на душу! А если душу, получив образование, не признаете, то на тело-с, внешнее и внутреннее-с! И мне, Уткину, не помнить того, кто этот дождь на меня изливал? Это недостаточно. Вечная память, вечная память!..
Уткин налил водки в стаканчик для красного вина, и выпил. Усиков выправил воротничок на шее, привязанный траурным галстуком, и сказал внушительно:
– Вот видите, я прав. Мне не дали докончить, но господин Уткин говорил о том же: о нравственно-вразумительном, так сказать, или остерегательном действии колокольного звона.
– Не о том! – крикнул Уткин и ударил кулаком по столу. – Опять тебе параграф нужен? Опять в судопроизводство тянешь?
– Уложение о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, – вставил Коняев.
– Не карает и не налагает, а плачет над тобой. Понимаешь разницу? Плачет! Ты караешь, а если руки коротки, наставляешь таблицей нравственного умножения, – а он плачет! И над тобою.
– Но я… – начал было Усиков.
– Но ты замолчи. Ты и человек-то бываешь, пока ты звон слушаешь. Правда, ты тогда человек, не отрицаю. Видал я: и лицо у тебя тогда человеческое. А то – ты тля. Когда рассуждаешь о звоне, уже тля ты. Поэтому молчи, и вспоминай того, кто тебя человеком делал.
– Вы оскорбляете!
– Во первых, человек пьянеющий, – я еще не пьян, и пьяным сегодня не буду, но пьянеющий несомненно, – человек пьянеющий оскорбить никого не может, во вторых, заранее прошу прощенья, в третьих, не оскорбляю, а оскорбляюсь речами о покойном… И заметьте: признаю, признаю в высшей степени, что Усиков, Пал Палыч, титулярный советник, – делается человек, homo, как говорят ученые, льóм, как говорят французы, – когда слушает он звон. И даже слезу видал. Признаю. Звон – в Усикове человеческое начало.
Хлебопеков покачал головой в сомнении.
– И это – высоко! Оставим личности. Это – высоко! Уповательно, город наш древен, но в чем мы слышим голос древности? В звоне. Он вещает о долголетии града. На предметах древних – пыль веков, но в звоне нет пыли. В нем чистое вещанье древних времен. По сему – звонарь, – уповательно, – деятель просвещения.
– Человечности! – воскликнул Уткин. – Вношу поправку: человечности деятель!
– Без всяких яких, надо еще блинков, – потчевал Гриша. – С яйцами.
– Туговато, – вздохнул Пенкин.
– Подобает, – наставительно произнес Порфироносцев, и взял еще блин и жилки у него с аппетитом заиграли на висках.
Переплетчик Коняев встал и произнес, указывая на Василия и Чумелого, которые сидели молча:
– А я вот что хотел спросить: отчего они молчат? У них потеря, а они молчат. И мне не хочется говорить…
– Ну и молчи! – дернул Уткин.
– Нет. Нельзя, Сергей Никифорыч. Я, переплетчик Коняев, объявляю, что наш Темьян, со смертью Николая Мукосеева, обеднел. Добролюбов сказал:
Милый друг, я умираю,
Оттого, что был я честен…
Ну, а мы умираем оттого, что мы не честны. Мы – то есть город, весь коллектив обитающих в Темьяне.
– Громко, но невразумительно, – сказал Усиков.
– Сейчас вразумитесь. На похоронах, то есть на поминках, за здоровье ни за чье не пьют, ну, а я предлагаю выпить…
– И невразумительно, и не прилично, – повторил Усиков.
– Нечестность, – глаза у Коняева стали грустны и потемнели, нечестность не есть – залез в карман и вытянул платок. Это воровство, а не нечестность. Нечестность есть – и словесный выворот. Мы все лжем. Я, переплетчик Коняев, прихожу к купцу Саликову – Солдатская, в собственном доме, – приношу конторскую книгу, grossbuch, моей работы, и говорю: «Библиотека у вас, Наум Мефодьевич, замечательная: редкий случай: журнал «Родина» имеется у вас со всеми приложениями, за все годы, и комплект «Парижских мод» и рисунков для выпиливания. Вам необходимо их переплести в шагрень. Редкие экземпляры». Вот – я и нечестен. Я соврал, – и потому переплел. И получил деньги. Учитель гимназии, Иван Иваныч Верелеев, кончил университет и Чарльза Дарвина полное собрание сочинений, стоит у него под кроватью, заставлено спереди старыми щиблетами и сапогами, а в шкафу книжном, на полках – «История» Карамзина 12 томов и «Русский Паломник» за прошлый год: директор у них в гимназии очень благочестив. Но читает Иван Иваныч Дарвина, а «Русского Паломника» только дает мне для золотообрезного переплета неразрезанным. Это есть нечестность. Председатель земской управы, Солодуев, «переплети», говорит, «мне в коленкор и золотом по пунцовому: «Мысли Сенеки», а книжку дает – Поль де Кока роман. Я говорю: «Ошибочка, Павел Иваныч. Несоответствие обложки с книжкою. Перепутали вы». – «Это, отвечает, не твое дело. Переплетай, что дают». Я переплел. Все это нечестность голоса человеческого. И обнаружено только по малому переплетному делу. А сколько всюду нечестности? Голос наш жив, и честности нет! нет!
– Все это чепуха, – сказал Хлебопеков.
– Не чепуха, а ложь! – я прислушивался к человеческим голосам: ложь! А есть голос честный.
– У кого же? У тебя? – спросил опять Хлебопеков.
– Я вам сказал уже, что я лгу, как и все. У колокола голос честный и по отдельности у каждого, и в коллективе!
– В каком коллективе? – переспросил Усиков. – Употребление иностранных слов без смысла.
– В звоне. Звон есть коллектив колоколов. Слышу – и про себя говорю: «А! честный голос звучит!» Удивительно! Город у нас старинный, большой. Есть в нем разные сословия, гимназия, учительский институт, газета «Темьянский Вестник», гласность, – а честный голос один. У колокола! и личная честность и общественная: в звоне. Он голос свой не пропьет, как Обрубовские мещане на сходе, не продаст, не переменит, – и голосом никогда не врет: всем одним голосом говорит про одно. А подхалимы подчинимы. Покойный Мукосеев, Николай, – как бы сказать. – горловой врач этого голоса был: смотрел за его чистотой. Умер он. Вот я и предлагаю выпить за здоровье этого голоса, – честного: чтобы он по-прежнему, по-честному, звучал, – и за здоровье тех, кто должен наблюдать за его чистотой! За Василия Дементьевича!
– На похоронах за здоровье не пьют! Глупец ты! – сказал Усиков.
– А по-моему, и безобразно, и предосудительно самое предложение и речь, – сказал Хлебопеков. – И вообще, пора бы кончать.
Уткин налил водки в стакан, и крикнул:
– Не начали еще! Выпьем за здоровье, Коняев! За честный голос!
Порфироносцев встал, откашлялся и, обернувшись к Грише, как хозяину поминок, произнес не без тревоги:
– А кончать бы, Григорий Евлампиевич. И заупокойную чашу!
И задал было сам себе тон: до-ре-до!
Но Уткин отстранил его рукой, и крикнул:
– А мы хотим заздравную! За честный голос! Николай, Гриша!
Гриша не знал, что делать: по хлебосольству своему, он рад был наливать, а по приличию – наливать не следовало. Хозяин трактира, рыжий Рыкунов, заглянул в дверь, привлеченный шумом, но тотчас же скрылся. Половой внес миндальный кисель, последнее кушанье поминок.
Усиков, закусив губу, пропищал высоким голоском, срывавшимся от злости:
– Вам бы не следовало, господин Уткин, поднимать шум. Собственно, какое Вам дело до колоколов и колокольного звона? Вы в Бога не веруете.
– Не верю, – спокойно подтвердил Уткин. – Ну и что ж?
– А то, – подхватил Хлебопеков, – что помолчать бы.
– Я и молчу, – сказал Уткин. – Я только выпить за здравие единственного в Темьяне честного голоса хочу! А сам я молчу. Это он говорит.








