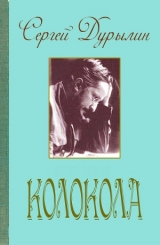
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Уткин ткнул пальцем в Усикова.
– Да-с, говорю, – окончательно обозлился Усиков. – Это не я, это все говорят, что Вы, от безбожия, коту скормили просфиру и пса напоили деревянным маслом из лампады…
– Напоил, – не из лампады: это ты врешь, – но деревянным маслом напоил. И даже могу сказать имя собаки: Перчик. Очень порядочный он человек, хотя и пес. Напоил по случаю запора желудка. И подействовало. Что и требовалось доказать.
– После этого Вы не смеете о звоне говорить! – взвизгнул Усиков. – Это оскорбление религии. Вы и слушать звона не смеете, раз Вы не верите в Бога.
– Сам ты оскорбление религии, – с гримасой сказал Уткин, и, отвернувшись, обратился к Коняеву:
– Коняев, за здравие честного голоса!..
И он потянулся к Коняеву со стаканом, расплескивая вино на скатерть.
Но тут неожиданно встал Василий и задержал руку Уткина:
– Не надо, – сказал он.
Уткин послушал, поставил стакан и грузно опустился на стул, не сводя глаз с Василия
– Ничего не надо! Домой надо.
И, повернувшись к Усикову, сказал просто, твердо, с чеканкой:
– Неправду вы говорите, господин Усиков. Звон всякий может слушать. Звон о вере не спрашивает. И ищет он слезы человеческой…
– А не катехизиса!.. Верррно!... – завопил Уткин: но уж был не далеко от этой слезы – пьяной, горькой и доброй…
– Ищет слезы человеческой, – повторил Василий, строго посмотрев на Уткина, – тот опять ткнулся на свой стул. – И на слезу человеческу взывая…
– Звоном прохвоста в человека возвращал! – воскликнул опять Уткин. – Меня, его! – он ткнул в Усикова…
– Молчи, – приказал ему Василий. – Я сказал: не надо. Сядь с ним, – обратился он к Коняеву. – И покойный… Вот я сказать не умею. Душа у него была. Зовýщая была. Большая. У другого – в песне, в слове, а у него – в звоне. Неправда это – опять повернулся он к Усикову, – что звон неверующему запрещен. Невозможно это. Звон – для всех. Слушай – все! Один в церковь иди, другой дома плачь, а третий – радуйся! Он всех в одно сгребает. Все мы – в разделенье: и здесь вот собрались, и каждый себя огородкой отгораживает. А вон всех в одну охапку сгребает: вот я, в высоте! Ну-ка, взбирайся ко мне! Ход – всем, без перегородки. А всякому повыше лезть охота. Скучно на низу-то. Нужды нет, что сорваться можно. А выше хочется! И звон зовущий. Один он и зовет человека в высь, все остальное вниз тянет. И Никола был зовущий. Зов в зов шел. Ну, и никто теперь нас так не позовет.
Василий отер слезы, и деловито обратился к Порфироносцеву и Грише:
– Кончайте, что положено. Нам к вечерне поспешать. Звонить.
Гриша с половым розлили смесь меду – и Порфироносцев запел «заупокойную чашу! Спел и виновато улыбнулся:
– А «во блаженном успении» не имею сана возгласить. Сана на мне нет.
А ты и без сана, – сказал Пенкин, – скажи ему, рабу Николаю вечную: не ошибешься…
– Верно: возгласи, – воскликнул Уткин, – ошибки не будет.
Порфироносцев встал к образу лицом и возгласил басом:
– Во блаженном успении… Усопшему рабу твоему… Николаю и сотвори ему вечную память!..
Все спели «вечную память».
Когда смолкли, Рыкунов, трактирщик, с порога крикнул:
– Замечательно: бас у Вас дважды протодиаконский.
– Я не только не протодиакон, я даже не простодьякон, – отшутился Порфироносцев.
Рыкунов хотел что-то еще ему возразить о басе, но остановил речь: чьи-то рыданья неслись из темного угла «чистой», – нескладные, лающие, громкие… Это плакал Чумелый, отвернувшись от всех в угол.
Василий подошел к нему и тронул за плечо:
– Пойдем, сирота, звонить. Вечерня скоро…
2.
Чумелый недолго пережил Николку. Он и заболел не по-умному: схватил простуду в жаркий июльский день, и умер, не как умные умирают: лег и сказал Василию:
– Что-то бок болит. Покорми воробьев.
Василий пошел кормить, а когда покормил, Чумелый ему сказал:
– Легче боку-то.
Сказал – и умер.
Когда его опустили в землю, Хлебопеков сказал Василию:
– Весь звон теперь тебе придется на себе держать. Не урони городскую достопамятность.
Василий ничего не ответил. В помощники он взял столяра Ивана Федорыча, да кривого мещанина Петрова с Обруба, звáнивавшего и при Николке в подзвонках. Оба они не жили в звонарской: Иван Федорыч был из духовного звания и жил с женою недалеко от собора: в молодости он звонил у Ивана Bоина; а кривой мещанин, Потапий Петров, тоже был при ремесле: полотерничал и подбирал меха. Звонить – было у него третье ремесло: не много было в Темьяне полов, которые нуждались в натирке, да и меха темьянские в подборе не особенно нуждались. Они оба приходили на колокольню в положенные часы, звонили и уходили домой: «отзвонил, и с колокольни долой». Василий остался на колокольне один.
Когда не было звона, он сидел за сапожной работой, и молчал.
Однажды, в воскресенье, Хлебопеков приводил на колокольню какого-то заезжего любителя старины и показывал ему колокола.
Посетитель откланялся, а Хлебопеков остался. Он посидел с Васильем и сказал и сказал:
– Все нюхаю воздух вокруг тебя, и замечаю: нет, бабой не пахнет. И дивлюсь: отвинтил ты себя от бабы, что ли?
– Отвинтил, – сумрачно ответил Василий.
– Вижу, что отвинтил, но невдомек, каким винтом?
– Не винтом, а петелькой.
– Не понимаю.
– Петелькой, говорю, себя отвинтил.
И замолчал.
Хлебопеков пождал, не дождался продолжения, вздохнул и сказал:
– Невразумительно. Ну, Бог с тобой. А я вот со стариной сколько лет вожусь, а все на бабью новизну пáдок.
Василий ничего не ответил. Хлебопеков простился и ушел.
На колокольню по-прежнему изредка заходил Пенкин, совсем состарившийся Щека, Гриша, Потягаев. Василий был с ними приветлив, но молчалив, и, однажды, намолчавшись с ними вдосталь, Пенкин сказал:
– Видно, ты весь голос колоколам отдал. Молчишь.
– Все переговорено, – ответил Василий. – Наш язык не медный: тот болтает: звоном ласкает, а от нашего жéсточь одна.
– Это – верно, – согласился Пенкин. – Злы мы.
И ушел к себе на Понижаеву улицу. В последнее время стал он разводить породистых кур, и особенно радовал его пестрый, разборчивый на еду: Куку де малин, выписанный из Москвы. Пенкин сам его кормил, сыпал ему зерна и вслух любовался:
– Князь во князéх.
Щека углубился в свою Диарий: он, по его словам, «готовил его к посмертному изданию». Диарий разросся до огромных размеров. Сам Щека начинал теряться в его объеме: ему с трудом удавалось найти нужное место, когда он желал прочесть его седолоконному Вуйштофичу. Вуйштофович давно уже мог ехать в свою Польшу, но не ехал, – как он уверял, – для того, «чтобы донести жребий изгнания до конца», – а в действительности потому, что на Запесочной у него уже был серенький домик под зеленой кровлей, – и «пани экономка» из обер-офицерских вдов. Вуйштофович дал Щеке совет: «переплесть Диарий и тем сохранить для потомства». Щека сомнительно покачал головой и сказал:
– Пан забывает, что переплетчик умеет читать.
Но Вуйштофович успокоил его, что знает такого переплетчика, который, хотя, конечно, умеет читать, но которому вполне можно доверить Диарий, – и направил Щеку к Коняеву. Коняев жил на самом конце города у Разбойной горы, в разваливающейся хибарке в три окна, и на ставнях у него была намалевана – на одной: книга в красном переплете, на другой – торговая книга в синем переплете с белой наклейкой: «Конторская».
– Уступка буржуáзии. – говаривал, смеясь глазами, Коняев, указывая приятелям на «торговую книгу» на ставне.
Щека пошел к нему под вечер. Он вяз в грязи, бережно неся Диарий, увязанный в бабий головной платок.
В слободке встретили его мальчишки обычным для всего Темьяна приветствием:
Барин, барин,
Кошку жарил
На тагáне
Вверх ногами!
Коняев жил с матерью, торговавшей на базаре бубликами. У Коняева сидел Уткин; он вежливо раскланялся со Щекой. Щека терпеть не мог пьяных, и потому подозрительно покосился на него. Уткин тотчас же заявил:
– Я – в приготовительном только классе. Заверяю: перехода в первый не будет.
Пили чай, Коняев усадил Щеку за стол.
– Наложи им медку, – указала сыну на гостя мать Коняева, садясь у печки: она месила тесто.
– Меня зовут Семен Семеныч, – хмуро отрекомендовался Щека. Ему неприятно была задержка в деле с Диарием, но при Уткине он не желал начинать разговора.
– А я – Фавст, – весело выкрикнул Коняев.
– Не Фавст, а Фáуст, – сказал Уткин. – Ты тезка доктору Фаусту. Только лампадно-православная трусость заставила переклеить европейско-известного Фáуста на глупого российского Фáвста. Имя твое, переплетчик Коняев, под пером Гёте. Можешь гордиться.
– Фауст без Мефистофеля, – воскликнул Коняев со смехом.
– Мефистофелем, если хочешь, буду я, – предложил Уткин, – или вот они, – он указал на Щеку, – у них фигура подлиннéе.
– Нет уж, вам это амплуа более подобает, – обиделся Щека.
– Мне – так мне, – Уткин встал, – Впрочем, так, пожалуй, оригинальнее, переплетчик Коняев: оставайся Фаустом, но без Мефистофеля. – Решительно, я остаюсь сегодня в приготовительном классе, – и посему иду домой спать. Приготовительные ложатся с петухами.
– И отлично, батюшка, – отозвалась мать Коняева: то-то дома-то будут рады…
– Большое вероятие заключается в ваших словах, Анна Даниловна.
Уткин пожал всем руки и ушел.
– Могу говорить открыто? – осведомился Щека, как только Уткин вышел.
– Можете.
– Сигизмунд Каэтанович говорил вам о моем желании?
– Говорил. Работы у меня мало. Переплету быстро.
– Прошу вас.
Щека развязал узел и выложил на стол Диарий.
Коняев засмеялся глазами – серыми, живыми, ласкающими своей открытостью:
– Записки Мефистофеля?
– Нет-с, сухо ответил Щека. – «Скорбная повесть о глупости человеческой». Так прошу Вас и на переплете оттиснуть.
– Все в один корешок?
– В один-с.
– Толсто выйдет.
– Да-с, не тоща глупость человеческая, и примечаю: толстеет год от году.
Коняев взвесил на руке рукопись – и спросил:
– А переплет какой будет? В коленкоре?
– В кожу-с.
– Да у меня кожи нет.
– Найдите. И черными буквами наискосок, и на верхней, и на нижней крышке: «Повесть о глупости человеческой. Диарий обвинительный».
Коняев внимательно посмотрел на Щеку:
– А долго Вы ее собирали?..
– Всю жизнь-с. Но хватить сбирать и на тысячу жизней-с. Щека скучно и со злостью усмехнулся. – Вот Вы, если верить господину Уткину, – доктор Фауст. Не угодно ли продолжить собирание?
Коняев покачал головой и сказал серьезно:
– Собрано довольно. Надо херить.
– Что херить?
– Вот эту глупость человеческую.
– Попробуйте!
Коняев опять засмеялся глазами – еще открытей и веселей, – и в этом смехе глаз Щеке показалось: «И попробуем!» – и даже: «Уже пробуем!» Щека прервал разговор.
– Переплет должен быть прочен. Хочу, чтобы мыши не скоро изъели. Четвероногие. От двуногих, понимаю, никакой переплет не спасет. И еще условие. Переплетчик не должен быть грамотен.
– Я неýч, – усмехнулся Коняев, – смекаю только по-печатному.
– Хорошо-с. А цену Вы мне скажете, когда будет готово.
– Я и сейчас скажу.
– Не надо-с. Мое почтение.
Щека простился и зашагал, огромный и седой, в махерланке, по слободской липучей, как смола, грязи. Мальчишки его не дразнили: они спали в слободских хибарках, но какой-то пьяный, встретясь с ним на углу, узнал его и, облапив, воскликнул:
– Почем жареные?
Через неделю Коняев сам принес Щеке «Диарий»: он был в угрюмой, как цвет сумасшедшего дома, – коже, с черным тиснением. Когда Щека увидел Диарий в коже, он сказал коротко:
– Переплет вполне соответствует содержанию, – поблагодарил Коняева и хорошо ему заплатил.
Но когда он, в один из вечеров, перелистывал переплетенный Диарий, он приметил в конце книги лист, писанный не его почерком. Он пробежал его. На листе стояло, тщательно выведенное простым, как писарский, почерком:
«Истинный писатель всё видит по опыту: чтó в нем самом, тó и в книге».
Щека завязал Диарий в узел, и пошел с ним к Коняеву, развернул книгу на этом месте и, указав, спросил:
– Что это?
– Мысль, – спокойно отвечал Коняев.
– Не моя.
– Собственности на мысль нет.
– А как она сюда попала?
– Вплетена по оплошности.
Щека ничего не ответил, хлопнул дверью и ушел.
«По оплошности», точно так же, как Щеке, Коняев вплетал в заказы «мысли» и «страницы», не совсем соответствовавшие содержанию тех книг, какие были отданы заказчиками ему в переплет. Эта странная рассеянность Коняева была известна в городе и многие опасались отдавать ему в переплет книги, хотя работал он хорошо, а брал дешево. Многие случаи коняевских «оплошностей» были широко известны в городе. Купцу Дееву, в «Памятник веры» (желтая кожа), вплел он по ошибке лишний листок из какого-то печатного «Свиноводства» с изображением племенной иоркширской свиньи, в которой купец Деев нашел сходство с собою. В «Таблицу 28-летних тарифов Темьяно-Мельгуновской железной дороги» инженера Равича попала «Железная дорога» Некрасова. Протоиерею Страннолюбскому, в «Поучения Родиона Путятина с гравированным портретом» (зеленый коленкор), по недосмотру, досталась лишняя страница из какого-то учебника физиологии: таблица сходства и различия состава крови человека с кровью орангутанга с изображением того и другого. В «Поваренную книгу» чиновницы Капернаумской, в самое аппетитное место, где повествовалось о приготовлении любимого блюда чиновника Капернаумского – гуся с двойным шпигом, – затесался, по злой случайности, рецепт состава для морения клопов и тараканов. Девице Тюляевой Коняев делал альбом: переплетал в розовую шагрень голубую, палевую и розовую бумагу с золотым обрезом; альбом вышел восхитительный: на крышке красовались два алые сердца, пожираемые пламенем, над которым сыпались цветы из рога изобилия, но, восхищенная девица Тюляева нашла еще в альбоме единственный белый листок, на котором было написано:
Вы прекрасны, точно роза,
Но есть разница одна:
Роза вянет от мороза,
Ваша прелесть – никогда,
Оттого, что Ваш румянец
Изготовил иностранец.
Провизор Шустер в Риге. Цена банки один рубль, с пересылкою 1 р. 50 к.
К Дееву Коняев пришел сам и просил извинить за недосмотр: была спешная работа, переплетал для агронома «Свиноводство», экземпляр растрепанный, не доглядел – листок попал в «Памятник веры»: надо изъять. – «Как же это ты, братец, не смотришь? – сказал Деев. – Ведь я обидеться мог». – «На что же? – невинно осведомился Коняев. – Листок ведь из хозяйственной книги». – «Так-то так, а все обидно могло быть». Инженер, когда Коняев опять пришел в Управление за заказом, указал на «Железную дорогу» и спросил: «Это что?» – «Стихотворение Некрасова». – «То-то Некрасова! Вы, я вижу, с идеями, молодой человек! Чтоб в другой раз этого не было!» Протопоп же призывал Коняева к себе и, указав на обезьяну в «Проповедях Родиона Путятина», погрозил пальцем и строго сказал: «Умствуешь!» – «По ошибке, – пожал плечами Коняев, – «из другой книги. – «Знаю: из другой; и не позволительно». – «Я и книгу захватил, – отвечал Коняев и предъявил физиологию. «Вот, – «дозволено цензурой». Отсюда. Ошибочно». – «Вольномыслец!» – воскликнул протоиерей, вырвал листок с обезьяной и изорвал в клочки. Капернаумская пожаловалась мужу на средство от тараканов, но он только пожал плечами: «Что же! вырви! Рецепт пригодится в хозяйстве», а девица Тюляева, пожаловалась папеньке, бакалейщику, и показала альбом, но бакалейщик захохотал и воскликнул: «Ловко он тебя! Меньше будешь штукатуриться!», – но не велел ничего переплетать у Коняева: «еще матерный стих вплетет!»
Щека показал коняевское приложение Вуйштофовичу, тот пожал плечами и сказал:
– Пан переплетчик может быть сатирик, но сатира требует образования. Пан же переплетчик есть хам.
Уткин спрашивал не раз Коняева:
– Зачем ты это делаешь? Вот эти твои вклейки и бесплатные приложения к «Ниве» зачем?
– Это я когда злюсь, делаю, – отвечал обыкновенно Коняев. – Со злости.
– Злость есть капитал, – поучал Уткин, – Его надо не расходовать по мелочам, а копить и класть в банк, чтобы со временем получать с него большие проценты. Тратить по мелочам – это русская черта. Безобразная. Оттого мы нищие. Капитал злости в России должен был бы быть громаден: больше двадцати Ротшильдов. Но этот капитал можно было бы устроить две великие французские революции и несколько маленьких немецких. Но мы тратим его по мелочам, – и злость наша копеечная. Брось.
– Не в морду же давать. – ответил Коняев.
– А хочется иногда дать?
– Хочется.
– А ты погоди. Кулак должен быть также коллективный, как и все прочее. Индивидуализм и тут воспрещается. Впрочем, – заключал Уткин, – понимаю, и изредка разрешаю, но в пределах благоразумия. И даю совет: колокол хорошо выливает злость. Чем по морде, – при крайнем, разумеется, желании, лучше в колокол… Отзвонил – и ладно. Средство это нам с тобой не одним известно. Многим помогает.
И Коняев шел в иные дни, оставив свои вклейки, на колокольню.
Василий всегда был ему рад.
Коняев звонил плохо, и не мог научиться.
– Ухо у меня закупорено, – жаловался он Василию. – Должно быть, оттого, что били меня в детстве много. Отец мой был переплетчик, – и работал больше на староверов. Православные книг не читают: переплетать нечего. А у староверов книги толстые, весовые и все в коже. Вес этих книг я очень хорошо знаю по себе. Еще «Триодью Цветною» по голове ничего, – можно выдержать, – но от Январской Минеи выстоять невозможно: прямо валишься на пол. Я бит был вдоль и поперек. Сложное образование получил. Оттого ухо у меня не в полном порядке. Звон у меня не выходит, но удивительно, слышу я его отлично. Бывало, отец бьет Триодью, а я вслушиваюсь: звонят! И чему я рад – бывало, не знаю. Лежу избитый, – а звонят, и будто меня кто теплой водой моет, и тело, и душу. И так приятно. И никто запретить не может: моет и моет… У вас тут баня, – смеялся Коняев, – и вы над всем городом банщики. Грязь смываете человеческую. Конечно, не смыть со всем. Но приятно. Как под душ, под звон иногда хочется стать… Ловко! Освежает!
Василий улыбался ему своей сумрачной улыбкой и говорил:
– Хочешь, переходи в звонари! Научу звонить. Будешь сам душ лить.
– Нет, – отвечал Коняев. – Люблю, а не пойду. У меня свое. Он замолкал, а Василий никогда не спрашивал, в чем это свое.
Но однажды Коняев позвал Василия к себе. Он и раньше его звал не раз к себе, но Василий упорно не шел: со смертью Николки он сиднем сидел на колокольне: точно прикрепил себя к Николкину месту. Прежде, при Николе, случалось одолевал его запой, – он спускался «наземь» и пропадал – на буднях всегда бывало – дня на два, на три. Теперь, – и реже, и пил он на колокольне; запрется в каморке и пьет один, проспит – и месяца два не берет в рот ни капли. И ни к кому, и никуда. Но тут, почему-то, Василий не отказался и пошел к Коняеву.
Коняев поил его чаем и показывал ему хорошие свои работы: было у него несколько с любовью сделанных переплетов для себя: два-три разрозненных тома Тургенева, дешевый Пушкин, том Горького, какой-то том Добролюбова. Василию понравилось работа. Он подержал книгу в руках и рассматривал со всех сторон.
– А ты бы читал, Василий Дементьевич, – сказал Коняев.
– Что читать? – спросил Василий с некоторым недоумением. – Я звоню.
– Звонишь – хорошо, – и отлично ты звонишь, не хуже Мукосеева, слушать люблю, – а читать тоже тебе хорошо.
Василий разогнул книгу и посмотрел.
– Старею, – сказал он. – Читалки худо глядят. А ты читаешь?
– Читаю, – весело отозвался Коняев.
– И много вас, читающих?
– Много, – засмеялся Коняев. – Будет еще больше. Скоро все будем читать.
– С колокольни-то не видно; все, которые читающие, которые нет, с колокольни все одинаковы. Который год гляжу, и глаза были зорки, а все – одинаковы, на кого ни гляжу. Наблюдаю с высоты. Все малы. Вот, Ходунов, Павел Иванович, какой человек! миллионщик! А погляди-ка на него с высоты – мал! И губернатор – может быть, он где и велик, а с колокольни мал. Ровнехонько, как все: ни больше, ни меньше. Тараканчики. Все – одинаковые тараканчики. Все – ползут, все движутся, все спешат, кто куда. А потом – глядишь – тараканчика другие тараканчики к нам несут. Пригляделся я. Все – одно. Рост у всех людей одинаков. Таракановый.
– А если с колокольни спуститься? – пытливо поглядел на Василия Коняев. – И посмотреть? Тогда как? а?
– Тогда – шумят. Кто на цыпочки становится: росту себе прибавить хочет, кого к земле пригибают, чтоб не приподнялся.
– А! ты это разглядел, что пригибают? – живо отозвался Коняев.
– Давно я разглядел. Да скучно смотреть. Все равно – таракашки. С высоты равны.
– А если и на низинé – вровень всех поставить?
– Невозможно это, – ответил сухо Василий.
– А коли попробовать?
– Пробуй. А не удастся: ко мне, на колокольню. Там все давно, с верху, сравнено. Уравняешь ты на низине, нет ли: а вверху все вровень: козявки.
Василий встал.
– Прощай. Спасибо, – сказал он ласково. – Не удерживай. Шумно тут, у вас, на низине. Отвык я. Когда и тебе нашумит низина, приходи.
– Примешь? – улыбнулся Коняев.
– Приму. Позвоним.








