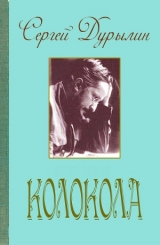
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
4.
Дни пошли за днями, – и звон за звоном: Великопостный перезвон перерывался радостным Благовещенским благовестом.
Еле-еле поднялся на колокольню Серафим Иваныч, но поднялся с клеткой с двумя перезимовавшими чижами. Как всегда, он порадовался на весну, охватившую зеленым кругом поля и леса и, вопреки воле людей, включившую, в этот круг грязный, хмурый Темьян, – как всегда, выпустил дрожащими руками птиц на волю, и пожелал им вслед, как всегда:
– От человечьих рук ёмких летите подале, пернатые!
Но от слабости и старости он не мог уже звонить, – и, присев на трехногую скамейку, молча слушал благовещенский благовест и щебет птиц.
– Летит! – воскликнул он, отирая глаза, когда Василий подошел к нему, кончив благовест. Тогда стал слышен птичий щебет над колоколами и домоседливое гулькание голубей.
– Что летит? – не понял Василий. – Много птицы летит. Журавли – слышу поутру, – заблаговестили в небе.
– Нет, не птица, – промолвил тихо расстрига, – звон летит… И вот что ты мне скажи, Василий Дементьич, – что я слышу: не только, будто летит, но и улетает… Никогда этого со мной не было: слушаю благовест – любимый, благовещенский, – а не слышу в нем, как прежде: «Благовествуй земле радость велию!»: будто весь звон не над землею стелится, не к земле льнет, как всегда в этот день было, а весь в небо белым паром, шапкой белой, поднимается… И земли будто нисколько не зацепляет. К чему это? а? Верно, я скоро умру.
– Все умрем, – сумрачно отозвался Василий – и подсел к распопу. – Скамейка скрипнула и покосилась под ними. – Я под утро встал сегодня, – на перилах мертвого голубя нашел. Сколько лет живу, не бывало это, чтоб в Благовещенье мертвую птицу видеть. В птичью волю – и мертвую!
Но улыбался ему в лицо расстрига, подвигал морщинками под карими, посветлевшими под старость глазами, и сказал твердо:
– Ты, еже сееши, не оживет, аще не умрет!
Поник головою и помолчал, а потом опять посмотрел на Василья с улыбкой, играющей какою-то детскою игрой, и молвил тихо:
– Сеет Господь души, сеет Господь тварь, сеет Господь народы по земле, – и все семена посеянные умирают, так положено: все и оживут, каждое в свое время. Знает Сеятель сеять, знает в землю хоронить, знает и оживлять!
Подошел к перилам, слабый, почти шатающийся на юровом ветру, в ватном стеганом халатике горохового цвета, оглянул долгим взором далекий темьянский весенний окоем, и сказал:
– Покóй сердце свое – на покое земном. Смотри: все в покое, все Сеятелю покорно, – и как прекрасно опять засеял он семя свое. В шестидесятый раз, – как себя помню – озираю его сев – и не налюбуюсь! Хорош хозяин: лукошко ёмко, зерно отборно, рука верна! Сев идет спорой. – Он опять повернулся лицом к окоему и смотрел, не отрываясь. Потом подошел к Василью и сказал:
– И все будто кверху идет, – будто улетает… Это земля, значит, держать меня больше не хочет, душу из тела отпускает, а тело к себе тянет. Пора. По грехам давно пора лежать в домовине. Червячок-землячок заждался меня.
– Подождет, – сказал, усмехнувшись, Василий.
– Нет, видно, ему ждать надоело. Поторапливает.
Распоп запахнул поплотнее свой халатик и протянул руку Василью, но отнял ее тотчас же, пока тот не коснулся ее рукой, и сам же на себя поворчал:
– Рука – бирýка: все гребет, все грабáстает, все деет, а уста, в уста немножко почище… Устами попрощаюсь с тобой.
Он трижды поцеловался с Васильем и поплелся с колокольни.
– Не жилец! – подумал ему вслед Василий.
На Страстной не приходил, как бывало, ладить иллюминацию старый Гриша: он лежал на кладбище. Иллюминацию мастерили звонари, и она вышла тусклая и хмурая. Резкий ветер задувал фонарики. Бенгальские огни отсырели – и горели вяло и блекло, через силу. Гришу помянули добрым словом, – и кто-то из бывших на колокольне домекнулся про него:
– Какую, чай, теперь иллюминацию видит!
– Не видит еще, – сказал Пенкин, – по мытарствам еще не прошел. Мытарствует душа до шести недель.
– Так ужель для Христова Воскресенья ослабы не бывает?
– Бывает, – ответил Хлебопеков. – Уповательно, бывает, ослаба, но светлость небесная незрима: во тьме воздушной ослаба бывает.
На Светлой неделе звонили, как всегда, целые дни, только шумнее, беспорядочней, вольней. Рабочих от Ходунова не было. Звонили подростки.
Весною Василий болел. Звонили прихожие звонари, и звон его не радовал. Звонили коротко, со скукою, и звон не расцветал пышным цветком, а вянул слабым, еле зазеленевшим ростком. В последние месяцы Василий избегал говорить с молодыми: почти от каждого он слышал что-нибудь новое, непонятное и всегда чужое; ни расспрашивать о новом, ни спорить с непонятным и чужим ему не хотелось. Случалось, ему приносили новые газеты, листки, но он их не читал.
Однажды зашел на колокольню Уткин. Он был трезв, в новом рыжем френче, с подстриженным затылком. Василий лежал на постели. Уткин поздоровался, присел к нему на постель и, протянув пук дешевых иллюстрированных журнальчиков, сказал с полуусмешкой:
– Звонишь все, Василий Дементьич, – а посмотри-ка, что жизнь вызванивает.
Он развернул журнальчик и показал Василью картинку, изображавшую многотысячную демонстрацию:
– Смотри: совсем другой звон идет!
– Какой же? – спросил Василий, взглянув на картинку.
– Красный.
Василью не мóжилось. Он закрыл глаза и полежал минуту, молча. Уткин протянул ему другой журнальчик.
– Глянь, какой красный звон по бывшей Империи Российской пошел. Жизнь новéет. Красным звоном звенит.
Василий открыл глаза:
– Жизнь новая, да глаза у меня старые, и новых глазовщикý не закажешь. Пожалуй, старыми глазами глядя, в новом-то одно старое увидишь. Лучше уж не смотреть.
Уткин закрыл журнальчик.
– Жизнь новая, – повторил он Васильевы слова, – помолчал и отбросил журнальчик на стол. – Старое на льдине уплыло, и, говорят, нам с тобой, Василий Дементьич, горевать о нем не следует.
– Я не горюю, – ответил Василий, и сел на постель. – Я свое отгоревал давно. Сам свою льдину поджидаю, на которой мне уплывать.
– Это верно: льдины наши с тобой близко, и никто их нам не подновит.
Уткин сгреб журналы и, вынув часы, сказал:
– Половина второго. Пролетариат мой домашний проголодался. Идти надо. – Опуская часы в карман френча, вдруг засмеялся.
– Чему ты? – спросил Василий.
– Хлопчик, аптекарь, но он же и часы чинит. Высокая приспособляемость пролетариата. Я отдаю ему часы для починки, а он мне: «Любители вы, гражданин Уткин, звон?» – «Я, говорю, вас не понимаю, гражданин Хлопчик. Какой звон?» – «Церковный, – отвечает, – я его очень люблю». – «А это, говорю, удивительно: вы – гражданин iудей, – и звон!» – «Это, говорит, музыка, – и при чем тут iудей? Музыку может любить всякий: вы, я, еврей, русский, негр. Каждый имеет любовь к музыке. И ввиду нового строя, нельзя ли мне позвонить?» – «Как, спрашиваю, позвонить, гражданин Хлопичк?» – «В колокола на колокольне». – «Но, повторяю, гражданин Хлопчик, вы же еврей…» – «И при чем тут еврей? Колокола же – это музыка, я же музыкален. Я играю не скрипке. Но скрипка – это скрипка, и не более, а колокола – это воздушный оркестр. Ах, говорит, господин Уткин, я всю жизнь слушал колокола, и всю жизнь мечтал, что я поиграю на колоколах». – «Но, евреям, говорю, это не допускается». – Теперь же, говорит, свобода, и я всю жизнь об этом мечтал. Колокола же – это музыка». Пустишь, что ли, жидка позвонить?
– Не пущу, – сказал Василий, встав с постели.
Уткин собрал журналы и протянул ему руку.
– Татарина еще приведешь.
– Чудак ты, – обернулся Уткин с порога. – Разве человек будет звучать? Колокол.
Василий отвернулся от него и стал тряпкой протирать оконце с радужным стеклом.
– Ну, как знаешь. Прощай.
Все эти дни, когда Василий лежал больной, он вспоминал Николку, Чумелого и умершую жену. С ними ему было, о чем говорить, но они только вспоминались, даже ни разу никто из них не приснился: «Уплыли, как на льдине. И льдина растаяла», – подумалось ему о них.
Когда он впервые, после болезни – на отдание Пасхи, – зазвонил, ему показалось, что не он звонит, а колокола сами наперебой напоминают ему что-то важное, высокое и нужное. Он по-новому прислушался к их голосам. Голоса эти для него никогда не тонули в звоне: как бы ни лился он сплошным потоком, в простом ли трезвоне, или в хитрых Власовых звонах, Василий и в потоке различал и старые, редкие слезы Плакуна, и легкое серебро Разбойного, и золото Княжина. Говор их голосов, неизменных и твердых, был для Василия ближе и понятней пасмурной или радостной молвы человеческой, всегда смутной и тревожной. После болезни эти голоса казались ему ожившими и родными. Он слушал их с радостью.
Вдруг кто-то тронул его за плечо. Пред ним стоял рабочий Фадеев.
– Кричу, кричу тебе: не слышишь! – кричал он над ухом Василья. – Брось звонить! Мешаешь!
– Кому мешаю? – изумленно ответил Василий криком же из-под колокола.
– Митинг не площади происходит. Говорить не даешь. Ничего не слышно. Прекрати звон! Махали тебе с площади – прекратить!
Василий сурово оглядел рабочего:
– Не дозволено.
– Говорят: прекрати!..
Василий, не отвечая, звонил.
Фадеев стоял в нерешительности. «Не тащить же его за шиворот из-под колокола!» – подумал он и, решив, что к обедне благовестят недолго и звон скоро кончится, пошел с колокольни.
На площади реяли красные флаги.
После обедни соборный протоиерей, Промптов, вызывал Василия к себе: сидел за пирогом и кофеем из гималайского жита, в фиолетовой рясе, прикрыв бархатной скуфейкой пышные, черные с легкой проседью волосы. Василию он сказал внушительно:
– Вот что, друже: довлеет дневи злоба его. Знаешь? Злоба «сего дневи» – ходить с красными тряпками и пустословить на площадях. Пресечь этого мы с тобой, к сожалению, не можем, а прать против рожна не спасительно. Стало быть, нужно сделать применение. Служили же мы на Пасху, и до сей «злобы», в красном. Пусть себе краснеют, авось когда-нибудь и вылиняют: красная краска линючая. А к слововержению на площади применись. Не говорю: не звони: – звони, но применительно к обстоятельствам, – когда нужно, и сократи и ослабь. А то жалуются на тебя… звонишь, ораторствовать им не даешь…
– Значит: не звонить! – глядя исподлобья, спросил Василий.
– Чудак! – отмахнулся от него пухлой рукой протоиерей, и налил себе на блюдечко сероватого кофе, – Кто говорит: не звонить? Звони, но с рассуждением. Все мы теперь должны действовать, так сказать, не прямым действием, а с рассуждением. Понял?
Василий благословился у протоиерея и ушел.
С этих пор он больше любил ранний звон к утрени или к ранней обедне, когда звонить можно было просто, как он званивал долгие годы.
Однажды, перед всенощной, августовским вечером, к нему в каморку пришел молодой человек в куртке из солдатского сукна, с серым, худым лицом и живыми, плоскими, как медные полушки, рыжеватыми глазами.
– Не узнали? – спросил он Василия, стоя на пороге.
– И не знал, – ответил Василий, посмотрев на него.
– Нет, должно быть, знали. Вот что. Я – Павлов, Григорий, рабочий. Послал меня к вам Коняев. Знаете?
– Знаю.
– Надо мне пожить у вас малость. Недели две. Негде мне. Коняев просил. Вот пишет.
Он подал записку.
Коняев писал: «Хромаю, а то бы сам пришел. Приткни, Василий Дементьич, этого типа у себя недельки на две. Нуждающийся. Спасибо скажу».
– Живи, – сказал Павлову Василий.
– Один вопросец только, – сказал Павлов, и обвел глазами каморку Василья. – У вас народу здесь мало бывает? Не обеспокоить бы.
– Никто не бывает.
– Разрешите, тогда я останусь.
– Оставайся.
Павлов поселился у Василия. Василий тачал сапоги и был молчалив. Павлов целыми днями спал на полу, на войлоке, а с колокольни сходил только вечером и объяснял, что идет в баню.
Василий дивился:
– Что это ты бáнный такой? Через три дня ходишь: богат видно.
– Вошеват я, а не богат, – объяснял Павлов. – На мне вшей нету, это-с ручательством, но страх у меня перед вошью. Никого не боюсь, а вши боюсь.
– Где ж ты перед вошью страх узнал?
– На войне.
– Стало быть, с войны ты?
– С войны.
– В отпуске?
Павлов засмеялся и посмотрел в глаза Василью открыто и насмешливо:
– В отпуске, – ответил он и помолчал. Потом сказал серьезно: – Сами себя мы отпустили, дядя Василий. Да и вас всех отпустить хотим.
– Ты – дезертир?
– Нет, говорю: в отпуске.
Василий нагнулся над сапогом и промолвил вполголоса:
– Мне все равно. Я ничего не знаю. Будь, кто хочешь.
Павлов лежал на полу, на шинели, и свертывал папиросу.
– А вот не кури, – заметил Василий. – Это было прошено, чтоб не курить.
– Ладно, не буду, – отвечал Павлов, сунул свернутую папироску в карман, и молвил:
– Скоро, дядя Василий, нельзя будет не знать. Всем придется знать. Всему народу нужно в отпуск… Вшей покормили. Будет.
Василий молчал. Поднял лицо от нового голенища, которое сшивал, суча дратву, и сказал:
– Смотрите, Россию в отпуск не пустите… в чистую отставку.
– Не пустим, дядя Василий. Не военный ты человек: отпуск – не отставка.
– Что-то на отставку похож. Слышал я, будто город Ригу немцам сдали…
– И Ригу сдали, и овин сдадим, если нужно будет, – засмеялся Павлов.
– Без овина, гляди, без хлеба останетесь.
– Нет. На Риги нам нечего смотреть. Новую свáю под Рассею забиваем. На пролетарское утверждение. Целину поднимем. Хлеб лучше на целине родится. Хлеб, как человек, волю любит.
– А война…
– А война вошью изошла. Конец ей. Вошь ее кончила. Вшу никакая пушка не прошибет. Выжигать вошь надо. Я каждое утро просыпаюсь – вошью дрожу: будто она меня точит сызнутри, и по кишкам, будто у меня вша ползет, и в кишках – вшивое гнездо. Ты на меня не дивись, дядя Василий, что я в баню все бегаю. Перекусала нас всех эта вошь – и стали мы все бешеные… Я и не таю, прямо говорю: я – бешеный. Пролетарий Павлов Григорий – бешеный: не тронь меня, а я трону – и ответа с меня нет: я вошью миллион раз укушен… Злые мы все, вшиватые… Вшивый укус нам надо сорвать.
– Что же, кусаться хочешь?
– Нет. В отпуск пролетариат труждающийся пустить хотим, – и чтоб всех сразу! Без промедления.
– Давай Бог.
Павлов ухмыльнулся:
– Что Его трудить! Без давалок возьмем…
– А коль не дадут?
– Дядя Василий, – слышь ты, бабушка у меня была. Прядет, бывало, и разговаривает: «рука руке – рознь: есть рука дающая, а есть рука берущая: и не дают, так берет: самобратка рука, самохватка». Так вот у нас, у вошеватых, у всех руки повыросли одинакие: самобратки…
– И без рук, бывает, что остаются…
– Бывает. Тогда бывает еще рот самохват, а в нем зубы – самоклювы: крепкие. Волчьи. Клюнули – не выпустят. Понял!
Павлов прожил не две недели, а до октября. Он чаще и чаще отлучался по вечерам с колокольни. Василий не спрашивал, куда он ходит. Уходя, Павлов иногда сам объяснял ему, смеясь:
– В баню…
Однажды он добавил к этому:
– Баню топить: помыть хотим кое-кого… Попарить. Веничком еловым. Поершистей!
Осень была гнойно-дождливая. Дров было мало. Василий зяб в каморке. Холодом и сыростью несло от толстых лупившихся стен. Дня два Василий не сходил с колокольни. Отзвонив, просиживал он безвыходно в каморке за работой. Ему нездоровилось. К вечеру перемогся и пошел звонить ко всенощной. Было темно. По привычке, он посмотрел на город. Его удивило: нигде не зажглось ни одного фонаря и ставни у домов были прикрыты. Вся в темноте была и ходуновская фабрика. Ветер пролетывал наискось через колокольню, – и, не задерживаясь, улетал в гнилую октябрьскую мокреть и хлябь.
Вдруг что-то хлестнуло бичом, – деревенским, пастушьим, длинным, длинным, – хлест отозвался далеко за рекою – и ухнул в мокрую темь. Василий не понял звука. Бичом хлестнули еще и еще раз, – хлестче, острей, ловче. Ухнуло дважды за рекой. Василий пождал звонарей. Они оба не пришли. Он был один на колокольне; ударил в колокол, – и в промежуток между вторым и третьим ударами, – он услышал, как большие и маленькие пастушечьи кнуты принялись наперебой хлестать что-то твердое и звонкое, – там и тут, там и тут, по всему Темьяну, точно на выгоне разбаловались подпаски.
– Стреляют! – спохватился вдруг Василий и ударил в четвертый раз.
Хлест бичей смешивался со звоном колоколов, но не тонул в этой гуще медной плави, а рассекал ее острыми, тонкими дорожками. Вдруг что-то жужукнуло у самого лица Василия. Он невольно сделал рукой отмашку, как от шмеля; – залетевший шмелек звякнулся о медный край одного из колоколов, и тотчас же отлетел.
Василий понял шмелька: – Пуля!
Он дозвонил и, став за столп яруса, глянул в темь города. Хлестались бичами, кнутами по всему городу, – и сильней всего около ходуновской фабрики.
Василий спустился с колокольни в собор. Там было пусто, и второй священник, отец Борис, наскоро совершал службу с псаломщиком.
Василий постоял, вошел в алтарь. Улучив минуту, священник сказал ему:
– Ты бы завтра не звонил, Василий. Служить будем, а звонить не будем. Да и опасновато тебе на колокольне, на юру.
Василий сказал, что пуля царапнула Наполеона.
– Ну, Бонапарту пуля – дело привычное, – пошутил священник, – а вот для нас с тобой – лучше с ней не знакомиться.
Василий вышел из алтаря. Тоскливо постоял на клиросе с псаломщиком. Тот пугливо и зябко посмотрел в окно и спросил Василия?
– Чего ж им еще? Свободы получили. Сполнá, кажется, хватит.
Василий усмехнулся в ответ:
– В отпуск отпускают…
– Го-о-споди помилуй!... – пел псаломщик. – В какой отпуск?.. Подай, Господи!.. – Братоубийство… Тебе Господи!
Василий сошел с клироса. Постоял у входа на колокольню.
Хлестались пастухи над тишиной, над осенней зябкой пустотой ночи. Город притаился, присел на корточки, притих под этой хлестьбой. Где-то, недалеко от собора, с тягучей тоской выла собака: казалось, она взбиралась на какую-то высокую-высокую узенькую лестницу, – срывалась с нее, визжала от боли и вновь лезла…
Не было этому конца.
Василий с трудом поднялся по лестнице. На колокольне хлестьба слышалась еще четче и острей. За рекой горел дом: казалось, какое-то красное, каленое бревно лезет в небо и, не долезши, распадается на золото-красную пыль легкого фонтана.
К полночи хлестьба стихла и золото фонтана перестало бить.
Утро подневольно засерело, – и тотчас кто-то кого-то, как пастух скотину на рассвете, хлестнул неподалеку от собора длинным, змеящимся бичом… Ответили другие хлестальщики. Василий ударил раз пять в Княжин колокол и почувствовал слабость. От бичей, от хлестьбы у него разболелась голова, и в сердце отдавалось новою, ломкою болью хлестанья бичей… Из собора не подавали знака звонить к «Верую», как обычно. Василий пригадал время: выходило, что пора звонить к «Достойно». Он вышел к колоколам. Ближе всех к нему был «Разбойный». Он ударил в него трижды, – и перекрестился. Звон тотчас был охвачен хлестьбой.
На другой, на третий, на четвертый день Василий не звонил и не сходил с колокольни. Слабость к нему вернулась и, чувствуя явную, упорную боль в пояснице, он подумал: «Что ж это со мной? Точно я переломился надвое, – и встать не могу». Поел, было, печеного картофеля с солью, но еда не подкрепила, а только сделалось нехорошо в желудке. – «Нет, не от голода слабость, – решил Василий, – а от чего ж?.. Не умираю ж?.».
Первые два дня его никто не навещал; на третий день пришел сторож, принес ему хлеба и капусты от протоиерея и рассказал, что с Соборной площади выйти никуда нельзя: в ближайших улицах заставы из юнкеров, а дальше красногвардейцы, а рабочие с металлического завода, за 15 верст, привезли, будто бы, пушки и что большевики с ходуновской фабрики будут палить по губернаторскому дому и по собору. Сторож побаивался оставаться на колокольне и спешил вниз. Василий остался опять один. Его лихорадило, он лежал под тулупом, и в этот вечер случилось в первый раз то, что повторилось с ним перед смертью: его, будто кто-то позвал: «Пойди!» – «Куда ж я пойду?» – возразил Василий. – Стреляют». «А ты пойди!» – Он проснулся, прислушался. Никто его не звал. И было тихо. Он полежал. И вдруг догадался и усмехнулся своей догадке: «На льдину зовут. Пора. Все тает. Весна» И тут он опять забылся и заснул.
На четвертый день хлестьба прекратилась, и к вечеру первый раз дернули сигнал из собора. Можно было звонить. Василий отзвонил к вечерне и, не глядя на город, спустился в собор.
Вечерню служил сам протоiерей, народу было много.
Еще на паперти подошел к нему Пенкин и промолвил, насмешливо жуя нижней губой:
– Поздравляю с новой властью!
– С какою? – спросил Василий.
– Весною цари ушли, осенью псари пришли. В порядке вещей: осень самое псарское время: они тут как тут из отъезжего поля и явились.
Василий ничего не ответил Пенкину и вошел в самый собор.
Кто молился, кто плакал. Шепотом передавали друг другу какие-то вести, тут же и хоронясь друг от друга, и почему-то озираясь на входные двери.
В алтаре протоиерей подозвал Василия и повторил ему сухим голосом:
– Ты не очень раззванивай-то. Не такое время. Умный сказал: посмотрим. Потише нам надо быть.
Василий ничего не ответил. Постоял у образа Всех святых, у кануна с догоравшими худенькими свечками. Молиться не хотелось. Он опять прошел на паперть.
В толпе кто-то взял его за руку и потянул за собой к выходу: это была Тришачиха.
Она было в старом, выцветшем бурнусе, похудевшая, в черном головном платке. Лицо ее было бледно и спокойно. На стене паперти по обеих сторонам от входа в собор были написаны два ангела, изгоняющие входящих и исходящих из церкви; в руках они держали обнаженный меч и свиток, исписанный именами.
Тришачиха указала на соборную дверь и произнесла тихо:
– Врата его не имут затвориться во дни: нóщи бо не будет ту.
И, посмотрев на Василия, строго, приказала ему:
– А ты рей, раб Божий, рей, звони над градом, как ангел реющ, – и ничего не бойся!.. «Се гряду скоро», – глаголет Святый.








