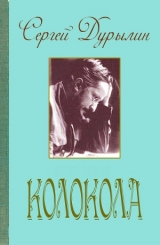
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Примирился с неизбежным и Пимен Иваныч. Однажды архиерей благословил нового звонаря в алтаре и наградил его богородичной просфорой за молитвотворный звон. Иван Филимоныч берег эту богородичную просфору в своей каморке у образа. Пимен Иваныч оценил этот высокий знак архиерейской милости: не протопопу, а звонарю пожалована была.
Пимен Иваныч на досуге обдумал отцовские слова: «давно был я на отходе».
Выходило, что, действительно, давно. Вспомнил Пимен Иваныч, что и в прощеное воскресенье и в Великую среду Иван Филимоныч прощался со всеми домашними по обычаю всегдашнему, да не так, как всегда. Полагалось пред каждым из домочадцев, склонив голову, коснуться пола двумя перстами и промолвить по чину: «Прости меня, Христа ради», – этих двух перстов и было довольно для домохозяина, чтобы получить прóщу у домашних, у молодцов и у прислуги. Вспомнилось теперь Пимену Иванычу: не так прощался Иван Филимоныч: пред каждым повергался он ниц, каждому в особь сказал ласковое слово, а себе – укор.
Домовница Акулина Кузьминична, двоюродная сестра Ивана Филимоныча, вспоминая его низкие метания, гоношилась и охала:
– Ой, заметила я, одна все тогда ж запомнила, батюшка Пимен Иваныч, да запамятовала: тебе не сказала.
Но, так говоря, она правду каблучком тут придержала: все заметили, да никто не понял, что значили эти метанья. Прощался Иван Филимоныч не на простую «прóщу», а уход себе выпрашивал у родных и домóвых.
Еще вспомнили: стал мягок, стал сердоболен Иван Филимоныч перед светлой неделей и что-то грустен и затишлив. Деньги в его руках держались не с прежней крепостью: прежде держал он их всей корявой пятерней, а теперь лишь между мизинцем и безыменным придерживал: там, где прежде нищему копейку подавал, теперь гривенника, полтинника, рубля не жалел. Долги прощал. По векселю простил одному неуплатчику немалую сумму. И вспомнил Пимен Иваныч, что начал он было коситься на это: «слабеет старик. Не денег жаль – жаль, что крепость теряет».
Вспомнили и еще кое-что.
Осталось и невспомянутое. К Красной горке готовились у Холстомеровых две свадьбы: одна – в дом, другая из дому. В дом брал внук Семен Пименыч дочку первого маслобойца темьянского Авдотью Ниловну Липованову, девицу с лицом румяным и белым, а с приданым большим и многосундучным. Из дома старшую внучку Дарью Пименовну выдавали за бакалейщика Андрея Павловича Свистунова (фирма «Братья Свистуновы»). На Страстной неделе, в понедельник, Иван Филимоныч ходил с женихом в баню. Дело было так. Жених, Андрей Павлович, заехал в Великий понедельник только взглянуть на невесту и завезти постного сахара к чаю. Пока передавал он постный сахар, Иван Филимоныч приказал:
– Соберите мне в баню.
Когда жених вышел от невесты, Иван Филимоныч ему молвил с лаской:
– Андрюша, в баньку сопроводи меня. Побалуй старика. Не люблю я, когда спину чужая рука трет. А ты не чужой: не взыщи, потрудись.
Не позволил себе и удивиться Андрей Павлович и ответил почтительно:
– С превеликим удовольствием, дединька. Только белья у меня с собою нет.
– И быть не должно: не в баню ехал. За бельем Гришка из молодцовской слетает и в баню завезет.
Поехали в баню. Банщику велено было обварить мяту, поддать мятного пару и веники распарить. Мыл же Ивана Филимоныча названый внучек Андрей Павлович. Иван Филимоныч полюбовался на внучка: расторопен, ловок; тело крепко, бело: будто весенним березовым соком напоен – так свеж и силен. На телесной белизне отметил Иван Филимоныч у внука названного пятнышко повыше правого соска.
– Что это у тебя? Черненько.
Внук застыдился:
– Пятнышко родимое.
– Мета счастливая, – улыбнулся дед. – Запомню твою мету. Потеряться вздумаешь – найдем.
Вспыхнул жених:
– Не потеряюсь, дединька.
А сам спину деду домывает.
– Будет, – сказал Иван Филимоныч, довольный осмотром: понял он, что и боковая холстомеровская отсáда пойдет крепко. Есть к чему ей привиться: корень и тут крепок.
Веселый и довольный поехал из бани Иван Филимоныч с названым внуком пить чай с постным сахаром.
В тот же понедельник призвал он к себе домовницу Акулину Кузьминичну и наказал ей, чтобы вызнала час, когда внукова невеста Авдотья Ниловна пойдет в баню, и чтоб непременно навязалась с нею и вызнала бы о внуковой невесте то самое, что вызнал о внучкином женихе сам Иван Филимоныч. Была и тут ему удача. Вóвремя зашла к Липовановым домовница Акулина Кузьминична. Она славилась на весь Темьян как мастерица-взбивальщица банного мыла с мятой, с калуфером, с травой чередой: никто лучше нее не пенил мыльную пену: пухом белела, лебяжьим ластилась к телу. Зашла: у Липовановых в баню собирались. Как первую взбивальщицу не позвать, когда она тут как тут? И позвали, и взбивала кружевную пену Акулина Кузьминична для внуковой невесты, а взбив и вымывшись, поведала обо всем Ивану Филимонычу глаз на глаз. Выспросив и выслушав домовницу, Иван Филимоныч порешил с облегченьем, что и тут крепок будет корень холстомеровский: не предвидится шаткости, а добротность ведома – два молодые корня холстомеровские сплетались с чужими добротными и крепкими корнями. Это – на запас, а крепок и главный корень: Пимен Иваныч.
Вот тогда-то и решил Иван Филимоныч, что укрепил и утвердил он холстомеровский корень. Никто не приметил, что с этой понедельничной бани начал он думать о том, как укрепить попрочней свой собственный корень, тот корень раба Божия Iоанна (нет ни Филимоныча, ни Холстомерова в этом корне), которым надлежит ему утвердиться в земле вышней. Случай представился скоро – и пересадил свой корень Иван Филимоныч из обширной холстомеровской усадьбы, «свободной от постоя», на соборную колокольню – ближе, как ему казалось, к почве вышней, в которой всем предстоит укрепиться.
4.
В Светлый день с красным яйцом, на Рождество Христово с поросенком, на второй Спас – с яблоками «белый налив» из собственного сада, на Ивана Постного с именинной кулебякой поднимался на колокольню Пимен Холстомеров с домочадцами мужского пола и поздравлял Ивана Филимоныча, но сам Иван Филимоныч не спускался с колокольни, и о том, что жив он там, на вышке темьянской, узнавали темьянцы по степенному, спокойному звону, призывавшего их настойчиво и неотступно в собор. Слушали они этот звон и говаривали друг другу:
– Зовет Иван Филимоныч в свою лавочку!
– Зовет. Как в его лавочку не пойти: товар у него хорош, нигде другого такого нет: безобнóсный. Веку ему нет.
И шли в лавочку к Ивану Филимонычу.
Изредка поднимались к нему на колокольню старые его други из Гостиного ряда.
Поднялся однажды и сам Липованов, маслянник, посидел в звонарне, осмотрелся и молвил:
– Что, друг Иван Филимоныч, опять в приказчики ты, вижу, нанялся?
– В приказчики, – улыбнулся Холстомеров. – Хозяин у меня не в пример всем хозяевам. Лучше у него служить в молодцах, чем на свой алтын обороты делать.
– Да, Хозяин у тебя большой, торгует без протору. Только строгонек. Не боишься за прилавком-то у Него стоять?
– Где строг, там и милостив.
Липованов вздохнул, грузно поднялся со скрипучего стульца и стал прощаться:
– Ты, друг, к Хозяину, поди, поближе нашего теперь: шепни-ка ему в другой раз и про нас, купчишек запоздалых, чтоб потерпел Он на нас до времени – не подавал бы векселей ко взысканию.
– Не вхож я к Хозяину-то, – сказал Холстомеров.
– А ты толканись, будь друг…
– Шепнуть – шепну, да хорошо, как послушает!
– Богат ведь Он: авось и послушает.
Облобызавшись с Иваном Филимонычем, Липованов, кряхтя, спустился по скрипучему бураву.
Поднимались к Ивану Филимонычу и внук Семен Пименыч, и другие родственники просить совета кто по торговому делу, кто по семейному, но всем неизменно отвечал Иван Филимоныч:
– Я звонарь. Ничего не разумею в коммерции.
В ответ слышал:
– Первый разуметель были!
И отвечал:
– Отразумел, милый. Разумею теперь, как бы звон к утрене не проспать.
Так отрезал себя от жизни Иван Филимоныч.
Сначала пытались, было, домашние приставлять отрезанный ломоть к караваю, но отваливался и не приставал. Когда родился у Семена Пименыча первенец Иван, прадеда звали взглянуть на правнука и обнести его вокруг купели, но остался на колокольне Иван Филимоныч и только поглядел, как несли Ивана Семеныча в пеленках, в атласном пунцовом одеяле в собор к купели и, поглядев, перекрестил из-под колоколов путь правнука.
Не сошел с колокольни Иван Филимоныч и тогда, когда несли двоюродную сестру его, с ним выросшую, домовницу Акулину Кузьминичну к последней обедне в соборе – он встречал ее последний путь печальным перезвоном.
Потом махнули рукой на Ивана Филимоныча: никто уж и не звал его ни для радости, ни для горя сойти с колокольни.
А он сам взял да и сошел в один погожий майский день, перед вечерней, под самого Николу.
Подзвонков Мишу и Чумелого весна согнала с колокольни и погнала к Темьяну ловить рыбу. Холстомеров сел на скамейку под колоколами, возле перил у пролета, и смотрел на город. Весна зазеленила и забелила все сады. Около собора были сады: Дудилова, купца, Аликаева, отставного генерал-маиора; протопотопов сад с знаменитым пузатым крыжовником; Мукосеева, мещанина, медника, – маленький садик, больше всех забеленный весною: в нем буйно цвели вишни. Эти сады были видны в один пролет колокольни. В другой, в противоположный, были видны сады: Алопегова, учителя семинарии, с знаменитой сосной, под которой пил чай персидский посол Хозрев-Мирза, когда приезжал через Темьян; Амосова, купца гуртовщика; Вейзенштурма, лекаря; Живителева, заседателя. Иван Филимоныч любовался садами и переходил то к одному пролету, то к другому; в третий пролет сверкали золотом купола собора, и синела дальняя бечевка Темьяна, перевязавшая зеленую ровную ткань лугов, а в четвертый – серела широкая соборная площадь с белыми, Екатерининской стройки, присутственными местами. В одном пролете зеленее всех было в саду у гуртовщика Амосова: липы и березы еле-еле уделили место затейливой беседке с охромевшим купидоном, намалеванным на двери. В другом белее всего было в саду у медника Мукосеева: весна белой пеной вспенила частый вишенник – будто облако спустилось с синего темьянского неба и застряло, не тая, на тонких стволах. Оба они, Амосов и Мукосеев, на Пасху приходили звонить на колокольню. Амосов, черноглазый, высокий, с серьгой в левом ухе, жил один с матерью в каменном доме, купленном у разорившегося штаб-ротмистра Пылейко. Весь город к нему хаживал за липовым цветом: липы у Амосова славились спорым медовым цветеньем. Из городского училища хаживали в сад к Амосову за березовыми прутьями, а он, по любви к просвещенью, разрешал безвозмездно. Мукосеев жил с молодой женой в своем вишеннике и тоже был высокий и черноглазый. Оба Николаи: один – Мирликийский, другой попроще: российский, Кочанов. У одного зелено, у другого – бело.
– Вишневый цветень буен нынче: дай Бог, чтоб спор на плод был, – подумал Иван Филимоныч, озирая Мукосеево вишенье. Вишнями славился Темьян, а у Мукосеева была самая ядроватая, черная вишня – и на вкус сладкая и сочная.
Вдруг – дальнозорок был старик и от природы, и от старости – видит: в белом вишневом облаке мелькнуло, будто огоньком, алое. «Молодая хозяйка Мукосеева, Грушенька, должно быть, в ряды за покупками собралась», – подумал Иван Филимоныч, проводил ее глазами, как она на улицу вышла, румяная, голубоглазая, грудастая, быстрая и мягкая на ходу: «Молодцы-то не поддели бы в лавках: дрянь всучат без обману».
Захотелось Ивану Филимонычу посмотреть, погадать, как липы будут цвести у Амосова в этом году: так ли густо и буйно, как вишни у Мукосеева. Старые люди говорят: вишне цвет – липе нецвет. Иван Филимоныч подошел к Амосовскому пролету. Зелено в саду у купца Амосова и тихо: ни души. Липы да березы. Все видно с колокольни. Сам Амосов, Николай Степаныч, в саду. «Именинник завтра. Видно, под праздник, под Николу, раньше времени амбар закрыл». У задней калитки стоит Амосов. В нее липовая аллея, самая старая, упирается. Все видно. Амосов, черноглазый, в рубахе пунцовой канаусовой, открыл калитку а в калитку – Мукосеева Грушенька. Впустил ее. Заалело у него в липовой зелени. Запер калитку на ключ. Ключ в карман. Все видно Ивану Филимонычу. Ключ в карман, а Грушеньку – в беседку с охромевшим купидоном. В дверях обнял и поцеловал. Закрыл их охромевший купидон. Никого нет в саду. Липы не дрогнут. Тихо. Березы кудрявятся без шепота.
«Грех какой: мужняя жена! От молодого мужа, от красавца! Стыдно смотреть».
Иван Филимоныч вздохнул и отошел от амосовского пролета, пошел к мукосеевскому: там бело и пусто. Бело-то осталось, а пусто не долго было. Все видно с колокольни. Мукосеев вернулся с площади. Калитка отперта. В дом вошел. Побыл в доме. Вышел. Вступил в белое облако. Опять вошел в дом. Опять вышел. Опять – в облако. Опять – из облака. Выбежал за калитку. Женщина какая-то руками ему кажет. Слушал, прислонившись к забору. Отпихнул ее от себя. Опять в дом вбежал. Выбежал. Блестит что-то в руках у него: медник! Нет, не медное! Бежать пустился. Надо ему обежать собор. Мимо колокольни побежит.
Вот тут и сошел Иван Филимонович с колокольни. Нет, не сошел – сбежал по узкому буравý. Сбежал, выглянул из колокольного лазý, а Мукосеев из-за угла с ножом бежит, без шапки, очумелый, не видит Ивана Филимоныча. Иван Филимоныч собрал силу, схватил Николу за плечи, втолкнул очумелого в колокольнин лаз, а сам рванул на себя тяжкую железную дверцу и захлопнул. Остались в темноте.
– Пусти! – завопил Мукосеев. – Убью!
– Убей. Не выйдешь назад.
Тесно и темно. Ходу нет. Ход весь наверх. Втиснулись в первую ступеньку, с первой на вторую, со второй на третью. Ступеньки узки. Иван Филимоныч подпирал Николку собою. Подпер его, против воли, до колоколов. Валялся в ногах Мукосеев:
– Пусти!
– Заперто. И пустил бы – дверь не вышибешь. Изнутри с укрепой. Оставайся здесь.
– Убью! Пусти!
– Сказал: убей. Смерти не боюсь.
Выл от злости, катался под колоколами Николка, палец себе укусил.
Тут дернули с паперти веревку – зазвенел сигнальный колоколец: пора звон зачинать под Николу. Холстомеров перекрестился. Схватил путлю в левый кулак, а веревку от Княжина колокола сунул Николке:
– Звони!
Мукосеев приподнялся с пола, разжал руку. Нож дребезнул по кирпичному полу. Холстомеров вложил ему в руку веревку:
– Раскачивай. Я один не могу.
Оба взялись за веревки и качнули язык Княжина. Но только что язык ударился о край и выбил из него густой звук, Николка заорал на Ивана Филимоновича:
– Отойди! Зашибу! Один буду!
Холстомеров ни слова не сказал, отошел прочь.
Николка стал наносить удары колоколу один другого страшнее, один другого жесточе. Он бил о его край языком, ранил его медной култышкой, как стальным топором, и все учащал, учащал удары. Гневные, грозные звуки неслись с колокольни. Не Николин звон – милостивый – падал на Темьян – буря бушевала и злобно вскрикивала от боли и мести.
Пот лился с лица Николки, ворот рубахи отстегнулся, грудь напряглась, дыханье прерывалось, – а он все бил, бил и бил колокол языком о край, как ножом в сердце. Давно пора была кончать звон. Несколько раз подавали знак с паперти – остановить звон, окликали звонарей с площади. Николка ударял и ударял, увечил и увечил колокол.
Тогда, прекратив звон в малые колокола, Холстомеров строго и кратко сказал Николке:
– Прекрати!
Николка, мокрый, белый лицом, как вишенье в его саду, глянул из-под колокола и выпустил веревку из рук. Добитым ударом оборвался звон.
Иван Филимоныч охватил руками голову Николки: она вся горела в белом каленье огненного жара, поцеловал в лоб и отвел его в свою каморку. Николка рухнул на постель как подкошенный. Иван Филимоныч вышел и запер каморку на ключ. Николка Мукосеев остался ночевать на колокольне. Всю ночь он бредил, рвался в дверь, падал на постель и опять вскакивал. К утру он затих: он свалился надолго в жесточайшей горячке.
В тот вечер дивились темьянцы, что за звон был под Николу: не степенный, не холстомеровский, а буйный, неуемный, буреломный.
Дверь на колокольню со двора еле отворили: она до того испокон веку не затворялась. Еле взобрались подзвонки на колокольню к полиелейному звону. Да успокоились темьянцы: к полиелею звон поплыл степенный, кроткий, чинный. Никогда еще так благоговенно не звонил звонарь Холстомеров.
Наутро же вызнали все, что Амосов в ночь под Николу уехал к гуртам в степь, и не один, а с Мукосеихой. А Мукосеев остался лежать в горячке на колокольне.
5.
Иван Филимоныч в Николин же день зазвал на колокольню лекаря Вейзенштурма, Кар Карыча (Кар Карыч было темьянское производство из «Оттокара Оттокаровича») и показал ему Николку.
Лекарь пощупал пульс, приложил левое ухо к груди (он был левша) и, подкрепив нос понюшкой табаку («Роза королевы Вюртембергской», сорт высший), сказал:
– Красафиц! Очень сильный мужчина. Очень. Но болен. Больше болен, чем сильный.
На вопрос, чем лечить, он отвечал, что болит у «сильна красафиц» – «тут», – im Herz, и Herz soll haben die Ruhe: «сердце не принимайт порошок» и «душа, die Seele, – не принимайт микстур», но «сердце и душа, das Herz und die Seele, принимайт die Ruhe – покой».
Кар Карыч отер заплатанным фуляром на румяной своей щеке маленькую аккуратную слезу, капнувшую из левого глаза, вздохнул на Николку и вышел, пообещав прислать «микстуру для покой».
С этого визита Иван Филимоныч ходил за Николкой, как нянька, поил его присланным Каром Карычем «успокоительным» и чаем с вишневым вареньем, слушал его бред, ловко и мягко осаживал его на постель, когда Николка вскакивал и срывался с нее в бреду.
Когда нужно было звонить, Холстомеров притворял дверку в каморку. На лежавшего Николку лился веский поток звона и, казалось, своей густотой и силой своего напора, удерживал его на постели. При звоне Николка тишал: его бред прекращался; он молча вытягивался на короткой для его роста постели и лежал, не двигаясь: если бы Кар Карыч знал, как действует звон на Николку, он, верно, вместо сладкого «успокоительного», прописал бы ему лежать под колоколами. Но лицо Николки становилось тогда еще бледнее, глаза раскрывались шире и емче впитывали в себя что-то далекое, далекое, им одним ведомое, – и он изредка поднимал худую руку и поводил пальцами по глазам. Что-то влажное, вязнувшее на ресницах, мешало ему видеть далекое и высокое, открывавшееся ему под звон колоколов.
Иван Филимоныч читывал иногда Николке Четьи-Минеи, и тот слушал, не прерывая ни словом, и ничего не говоря после того, как Иван Филимоныч застегивал медные застежки кожаной книги. Но однажды, когда Иван Филимоныч читал житие какого-то мученика, распиленного железной пилой, по повелению нечестивого царя, Николка, выслушав, положил ему на страницу Минеи худую, белую руку, с которой почти сошла легкая прозелень от медного дела, и сказал:
– Вот и меня пилой распилили надвое. Мученик помер, а я сросся. Живуч.
Он усмехнулся на себя косой усмешкой:
– А хотел других распилить.
Иван Филимоныч свою руку положил на Николкину, будто удерживая ее на закапанной воском странице:
– О грехе несовершенном жалеешь?
Николка не ответил; накрыл левой своей рукой старую, жиловатую, с просинью руку Ивана Филимоныча и улыбнулся:
– Теперь не распилю. Пилы не удержу. Ну, читай дальше. Это я так, к слову.
И снял обе руки с Минеи.
Холстомеров продолжал чтение мерным, старческим голосом.
От слабости Николка лежал, почти не двигаясь, и здоровье к нему возвращалось сном: стал он хорошо спать ночами; сы'пывал крепко, даже под полный звон. Молчаливый и неответливый, раз, проснувшись, он сам поманил к себе Ивана Филимоныча и сказал, застыдившись:
– Хотел давно тебя спросить: не стыдно тебе, именитому звонарю, здесь со мной, медяшкой полýдной, возиться? Поди, домашние-то твои что говорят?
– Домашние? – переспросил Холстомеров. – Вот мои домашние. – Он протянул руку кверху, где висели колокола. Сбоку, над окошком, неспешно и домовито ворковали голуби.
– Одни молчат, другие гýлят.
Николка пытливо поглядел на Холстомерова.
– Когда так, – сказал он, помолчав, – и я с тобой погýлю. Сон я сегодня видел. К чему бы это? Солдаты будто идут, и песик на них в пыли лает, черноморденький. А у самого губы трясутся со страху и ушами подрагивает. Маленький. Кудлатый. И вдруг солдатище с рыжими усами вытаскивает из-за голенища нож – и на песика. Песик взвизгнул и будто ко мне за пазуху. Солдат с ножом на меня. Тут на колокольне зазвонили, песик у меня за пазухой залаял, а у солдата нож выпал из рук, и у самого у него по лицу кровь. Ссадина на щеке. Побежал за солдатами. Пыль. Больше ничего не видно. А песик выпростал морду из-за пазухи и будто в губы меня – не по-песьему, будто христосуется. Ах, ты, думаю, грех какой: со псом целоваться! А уж он в штанину у меня провалился и на воробья лает. И звон прекратился. Тут я проснулся. К чему бы это?
Иван Филимоныч ничего не ответил. Потом, собираясь звонить, кинул только:
– На сны у меня знатья нет. Сон переходчив – без указу, без доказу ходит по людям.
Николка смолчал, но потом сказал бессомненно:
– Про меня это. Я – пес, я и солдат, – отвернулся к стене и сделал вид, что к сну шагнул.
Лето пылало над Темьяном. Облачкá – маленькие, крепкие, быстрые – белыми соколами и коршунами реяли неподвижно в синем-синем небе.
Николка худо поправлялся. Он не выходил еще из каморки: шатался на ногах, когда вставал, порты не держались, очень похудел.
Однажды намаялся за день Иван Филимоныч: спал крепко, хоть душно было в каморке. Кости болели, хоть и распарило их за день на вольном жару. Спит Холстомеров на соломенном тюфячке на полу и слышит будто звон идет, тихий, мягкий, радующий. Сладко спать и слышать звон. Вздрогнул – проснулся. Светло в каморке. Солнце. Ахнул Иван Филимоныч: проспал звон к утрене! Поднял голову: сон ли не отпускает его? Звонят. Тихо, мягко, радостно, но с потаенною, укрытою слезою. Иван Филимоныч наложил на себя крестное знаменье, широкое, ограждающее. Кто ж звонит? Глянул на постель: нет Николки. Тут звон прекратился. Метнулся Иван Филимоныч опять на свой тюфячок и притворился, будто спит. Николка вошел в каморку. Шатается; лицо белое, но будто кто бросил ему в глаза искру чистую; светло в них и чисто. Николка лег на постель и с головой простыней укрылся. А по дыханию слышно: не спит. Тут будто пробудился Иван Филимоныч, попенял на себя вполслуха, что проспал утреню, и пошел умываться.
Днем встал Николка и бродил по каморке. Невелик брод: вся каморка в две сажени. Перед вечерней сказал кратко, мимоходом:
– Дай-ка, я позвоню.
Не глядя на него, ответил Иван Филимоныч:
– А не устанешь? Ходебщик-то ты, вижу, еще плохой.
Усмехнулся Николка:
– Может быть, звонарь получше.
– Звони.
Николка звонил, а Иван Филимоныч слушал, глядя в пролет на отцветшее Николкино вишенье: в саду у него было зелено и тихо. Алое не мелькало. Все видно с колокольни: не мелькало оно и промеж старых амосовских лип. Отцвели липы. В саду зеленая глухомань.
Ни разу не спросил Николка про дом. Дом не остался брошен: стряпуха Терентейка сбежала от страху, но Пимен Иваныч, по отцовской просьбе, велел ночевать у Мукосеева в доме Макару из молодцовской, а на день запирали дом и ворота на замок.
Приучился Николка к звону: у Ивана Филимоныча перенял степенность и истовость вещания, у Мишки обучился «Власовым звонам». По неделям званивал по-степенному или пускал с колокольни Власову светлую реку. Но приходил час, перед этим часом день-два ни с кем не говорил Николка– приходил час, – и прорывался Николка сквозь тоску смутной и тревожной Власовой второй рекой. Но был он не Влас: когда эта река, набушевав, бросалась в темную щель, и молчанье наступало на смену ее плачущей тревоги, Влас отходил от колоколов и тихо плелся в каморку. А Николка тут-то и зачинал, не допустив молчания, такую медную бурю, что Иван Филимоныч выходил из каморки и качал на него головой. Николка бил колокол, как в первый подневольный свой звон, и, злой и бледный, не подпускал к колоколу Холстомерова. Старик оставлял его одного с колоколами. Вопль пресекался. Николка, дрожащий и будто похудевший, появлялся на пороге каморки. Ничего ему не говорил Холстомеров. Николка утыкался лицом в подушку и смешно и страшно давился нескладными, хлещущими слезами, как зарезанный давится кровью в горле.
Однажды не выдержал этих слез Иван Филимоныч и сказал Николке:
– Не смотрел бы ты в пролет: дом у тебя в порядке. В саду пусто. Смотреть нечего.
– Я и не смотрел, – огрызнулся Николка из-под подушки.
– А уж если смотрится, сошел бы лучше вниз. В дом, в сад. Ключ возьми.
Блеснул глазами (черные, под черными дугами) Николка:
– Гонишь, купец?
– Не гоню, – спокойно потушил блеск этот Иван Филимоныч.
– Не гонишь, так здесь останусь. С тобой свекýю.
Но будто не слышал этих слов Холстомеров:
– Не гоню, а исследуй себя. Ты молод. Усидишь ли здесь? Высоко здесь, да тесно. Лучше сейчас сойти, чем когда тоска погонит.
Николка во весь рост встал:
– Ножа ведь назад не дашь? А без него мне отсюда ходу нет.
И вдруг протянул обе руки Ивану Филимонычу – белые, длинные, худые.
– Видишь: какие руки у меня стали? Такими ножа не удержишь. Слабые. И возьмешь – так сам из плетей выпадет.
Он опустил обе руки на широкие, сильно погнутые плечи Холстомерова и с жалкой усмешкой промолвил:
– Нет, уж приучил меня звонарить, дед, так не гони. Внизу мне делать: какой я медник! Я звонарь: не в кастрюли мне там бить!
Иван Филимоныч покачал головой и оглянул его, будто сверяя в нем что-то:
– Лет-то тебе мало…
Николка снял руки с плеч и хрустнул пальцами.
– Ничего, что мало. Бушевать только мне не мешай, когда охота.
Ничего не ответил Иван Филимонович.
Николка бушевал звоном, когда приходил час, и в Темьяне примечали досужие, слушая его медное неуемное бушеванье:
– Жену вспомнил.
Протопоп Гелий, высокий, черный и ученый, призывал не раз Ивана Филимоновича.
– Степенный вы человек, Иван Филимоныч, а допускаете соблазнительное это шуменье. Прекратить надо. Многие смущаются.
Но Холстомеров тихо отвечал:
– Все во славу Божию. Колокол глас издает, а не человек.
– А человек, как разумное существо, повиноваться должен правилам благочиния. «Вся по чину вам да бывает» – учит нас Апостол.
Сокрушенно качал головой Холстомеров:
– То-то и есть, ваше высокоблагословение, что разумом-то мы – дети. Отнесите это к холстомеровскому малоразумию.
Протопоп нéхотя относил Николкино бушевание к холстомеровскому малоразумию.
На звонарне произошла перемена: Мишка обиделся, что его заслуженное первое подзвонково место перешло к непрошеному «ножовому» звонарю. Мишка первый пустил это прозвище: оно утвердилось навсегда за Николкой. Мишка отошел из соборных подзвонков в Заречье, к Спасу-на-Лапотках, во вторые звонари. Там пытался Мишка заливаться «Власовыми звонами», но звоны эти плохо выходили на беднозвучных лапотковских колоколах, и от горя Мишка перешел на обыкновенный пономарский колокольный перегон, а больше всего на чередной штоф. На Мишкино место стал на соборной колокольне Степка Чумелый. С ним Николке веселее было молчать вместе, а в «ножовом звоне» Чумелый поддерживал Николку. И еще строже, после их звона, выговаривал ученый протопоп Холстомерову:
– Не потерплю бесчиния!
Но терпел: Ивана Филимоныча знала вся губерния; узнали скоро и Николку с Чумелым: зимою, когда страшный буран брал в снежный смертный полон все пути и дороги к Темьяну, выстаивали они бессменно всю ночь на колокольне и неотступно били в резкий и сторожкий Плакун, высвобождая обозы и кибитки из буранного полона и направляя их на колокольный звон в Темьян. Не было случая, чтоб прозевали с колокольни самый малый пожарный начáл где-нибудь в дальнем Заречье или на беднейшем Обрубе, где домишки лепились не только бок о бок, но и угол об угол, друг к другу; Плакун резко и зычно предупреждал о беде. Протопоп знал, как ценят в Темьяне Николкин оберег и терпел бесчиние. Лишь однажды протопоп Гелий, несмотря на свою ученость, сам поднялся на колокольню и гневно приказал Холстомерову:
– Согнать бесчинника сию минуту с колокольни!
Но, чинно приняв благословенье сухой десницы, ходящей ходуном от гнева, твердо отвечал Холстомеров:
– Исполню, но и сам уйду вместе со сгоняемым…
– Потворец! – вскричал протопоп, но, махнув рукой, вышел из каморки.
В этот день (а истекал год с тех пор, как Николка впервые ударил к Николиной вечерне) не в белом облаке мукосеевского сада, а в сплошной, вихрящейся амосовской зелени мелькнуло что-то алое, еще цветистей, чем два года назад, еще пышней и ярче, – мелькнуло вместе с черным около охромевшего купидона. Как ни далеко заезжал за гуртами Николай Прохорыч Амосов, а все вернулся в Темьян. Завидев алое вместе с черным, Николка побледнел, бросился вниз по бураву, да бурав крут, извилист, долог, и Николка передохнул на середине: голова у него, что ли, закружилась, или слабость нашла, но взбежал назад, бросился к колоколу и зазвонил.
Еще не время было начинать благовест ко всенощной, и протопоп Гелий отдыхал еще после обеда, укрыв от мух лицо «Епархиальными ведомостями», и сам Иван Филимоныч спал в звонарне, а Степка не приходил еще с ершовой ловли. Всех возбудил Николка. Поневоле облекся протопоп в рясу и, испив кваску, зевая, побрел в собор: а мог бы не спешить: еще долго бушевал Николка. Иван Филимоныч глянул в мукосеевский пролет: одно только вишневое облако сиротливо белело в саду, а в амосовском – алое метнулось в глаза старику, за алым – черное. Холстомеров замкнул дверцу на выход, так что едва достучался запыхавшийся Степка, вернувшись с живыми ершами. К звону поспел, но не посмел присоединиться к звонарю. Один бушевал Николка. Оторвался от колоколов, схватил, ткнулся в него в угол, где свалено были битые плошки от прежних иллюминаций. Наутро, поднявшись, степенно благовестил к обедне.
В домике мукосеевском перестали уж ночевать и приказчики Пимена Иваныча. Забили ставни. Заколотили ворота. Когда приходил конец июля, Степка, по приказу Николки, перелезал через забор в мукосеевский сад и обирал в решето вишню. Николка угощал вишней звонарей, бросал ее пригоршнями голубям, стрижам и воробьям, но сам не отведывал ни ягодки. Он звонил и молчал, а чтоб лучше было молчать и руки не мешали бы упорному постоянному молчанию, он задавал им работу: крутил свечи из воску, плел фитили, пояски и лёски. Когда же ему, по старой памяти, приносили какую-нибудь медную работу, он отказывался:
– Вы к меднику Мукосееву пришли? Такого нет. Переехал в город Пропадинск. Там поищите.
Говаривал ему совсем старый Иван Филимоныч:
– Я молчать здесь научился, а ты и меня перемолчал, Николай.








