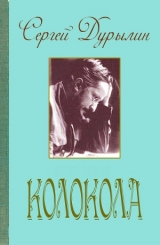
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
7.
Колокола провисели на соборной колокольне до осени. Звонили прихожие. Коростелев спрашивал в Совдепе Усикова:
– Все звоним. Когда же, товарищ Усиков, вы организуете спуск? Представлю вам медицинское свидетельство о болезненном состоянии моей барабанной перепонки. Зазвонили вы меня совсем. Вам хорошо на улице Белинского, вы далеко, а я целый день в Совдепе: сатанею.
– Спустим, товарищ Коростелев, спустим. Дайте срок. Необходимо соответственное оборудование и рабочие руки.
– Рабочих рук у нас сколько угодно.
– Одними руками не снимешь. Изыскиваем технические приспособления. Не все техническое у нас – вы знаете: голод.
Звон на колокольне умирал. После Василья никто не пошел в постоянные звонари. Прихожие звонили коротко, бедно, наспех: «отзвонил – и с колокольни долой». «Власовы звоны» смолкли: ни один из звонарей не умел их вызванивать. Старинщик Хлебопеков прислушивался к корявому, шатающемуся, колеблющемуся в неуверенности звону, качал головой и говорил Ханаанскому, потчуя морковным чаем:
– Вот вы, уповательно, историк. Вы изволили-с прочесть в обществе изучения местного края (глупое-с, в скобках, название: какой же здесь край, коли не местный?) – доклад о разбойнике Ваське Пьянкóве, что разбойничал в темьянских местах в осьмнадцатом столетии, и доказали, что во-1-ых, он – не Васька, а Василий Иванович, что во-2-х, не Пьянкóв, а Панкóв, и в-3-х, главнейшее, что он не разбойник, а субъект социально-протестующий. Прекрасно-с. Вот вам теперь, как историку, следовало бы обратить просвещенное внимание на колокола на соборной колокольне. Поговаривают о снятии.
– Слухи! – сказал Ханаааснкий, шевельнув подстриженными сивыми усами.
– Уповательно. Но запечатлеть бы вам, а по-нынешнему – зафиксировать, их историческое бытие на бумажке-с, с соответствующими печатями, на предмет охранения.
– Несовременно, и вряд ли благовременно. – Подстриженные усы встревожились и успокоились, как у кота, не слишком уверенного в твердости своего существования.
Хлебопеков придвинул к Ханаанскому стакан с морковным чаем, тарелочку с ломтиками пареной свеклы и медлительно обвел его левым глазком, белесоватым, как гривенник. Другой был прикрыт, как у петуха, застывшего насторóже.
– Кушайте. Сахар делают из свекловицы. Вывод: почему бы свекловицу не употреблять вместо сахару? Сахарину не признаю: мнимость!
Они разговаривали за чаем об чем угодно, кроме колоколов.
– Демертша умерла – слышали? – сказал Ханаанский, жуя свекловичную пластинку.
– Слышал-с.
– Говорят, с голоду.
– Голод – не надлежащее слово. Не значится в медицинском перечне. Уповательно, от истощения. Недостаточное питание. Непредусмотрительное неупотребление жиров.
– Книги у ней все пропали. Были библиографические редкости.
Хлебопеков подул на блюдечко с морковным чаем, пощурил один глаз, пощурил другой и вздохнул:
– Уповательно, нынче всякая книга есть библиографическая редкость – и даже библиографическая роскошь. Не исключая и букваря-с.
Он вытянул бумажник из бокового кармана ватной клетчатой кацавейки, порылся в кармане, вытянул листочек и подал Ханаанскому.
– «Профессор черной магии а также Амфитрида, летающая женщина, Индус из Китая Макманус и быстрое предсказание настоящего, прошедшего и будущего. Цены умеренные. По средам только для дам», – прочел Ханаанский.
– Чертовщина какая! Откуда это у вас?
– Из Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов, – отчеканил Хлебопеков.
– Что за чепуха!
– Ошибаетесь. Оберните бумажку.
Ханаанский обернул черную магию – и на обороте прочел:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
К рабочим и крестьянам г. Темьяна и Темьянской губернии. Разбойничьи банды мирового капитализма поняли, что Великая октябрьская революция решительным ударом наносит конец их преступному господству над рабочим классом. Бешеная свора капиталистов, атакуя твердыню…»
Ханаанский подал бумажку Хлебопекову. Он тщательно сложил и, положив в бумажник, хитровато покачал головой.
– На Амфитриде и такие идеи! Уповательно, поняли теперь, почему всякая книга ныне библиографическая роскошь? На чернокнижии печатаем идеи будущего: таково оскудение-с! А подобало бы на чистейшем пергаменте, чтобы оставить в наследие векам.
Ханаанский стал прощаться.
– Умный вы человек, – сказал он, вздохнув, – и живете по-своему.
– Я – в особой графе-с, – засмеялся Хлебопеков. – Там свой счет веду. Между умом и разумом.
Провожая, Хлебопеков шепнул ему на крыльце:
– А все-таки, запечатлеть бы колокола-то? а? Уже не как звучащие, ибо полнейшее отзвучание и забвение колоколов несомненно, но как предметы древности. Зафиксировать бы?
– Трудно, – покачал головой Ханаанский, – но постараюсь, впрочем. Что возможно.
– Уповательно, постарались бы, – помолчал и, запирая замок, пояснил: – В интересах благодарности поколений.
Слухи о том, что колокола снимут, носились по городу. Протоиерей ходил в загородный монастырь к архиерею на покое, преосвященному Сильвестру, доживавшему последние дни. Он лежал на кожаном диване, опухлый и грузный. От него пахло мятой, и мятный холодок казался холодком могилы. Протоиерей благословился у преосвященного, поцеловал мятно-холодную, белую и круглую, как яблоко – белый налив, – руку, подождал, не начнет ли сам архиерей, и, вздохнув, начал сам:
– Слыхали, Владыка, о нашей напасти грядущей…
Архиерей лежал неподвижно.
– Говорят, Совет Собачьих Депутатов постановил снять с соборной колокольни все колокола: мешаем-де им краснобрехствовать в их Совдепе…
Архиерей перевел на протоиерея маленькие, как перламутровые пуговички, слезящиеся глаза – и вздохнул. Рука – «белый налив» – лежала неподвижно на груди, высокая и матовая. Промптов пождал. Архиерей молчал.
– Как благословите, Владыка, – что предпринять?
– «Глагол времен, металла звон»… – вдруг, закрыв глаза, произнес архиерей. Помолчал и спросил, открыв глаза: – Это о колоколах или о часах?
– О часах, Владыка, у Державина.
– Ну, можно и о колоколах…
Повернул лицо к протоирею, – а белый налив остался неподвижно на груди, – и выговорил тихо:
– Часы бытия нашего останавливаются, отец. «Глагол времен» сам собою нынче слышен – оттого и «металла звон» стал не нужен…
Опять повернул лицо кверху и опять закрыл глаза.
Протоиерей недоумевал и думал про себя с убывающей почтительностью: «Нет, ветх, окончательно ветх. А когда-то был столп и утвержденье».
– Что же делать, Владыка? – все же спросил он.
Архиерей не открывал глаз, но шевельнулся через некоторое время «белым наливом» на груди, и еле слышно произнес:
– «Зовет и к гробу приближает…» Так, кажется?
– Так, Владыка.
– И приблизились.
– Верно, Владыка.
Протоиерей оживился; он понадеялся, что сейчас архиерей перейдет к делу, к «товарищам»…:
– Действительно, приблизились, Владыка. Намедни, я слышал, в Совдепе…
Но владыка сдвинул с груди на живот белый налив и с закрытыми глазами прочел тихо и медленно:
Река времен в своем теченье
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей…
«Стихочтец, какой-то стал, а не архиерей», – проворчал про себя с досадой Промптов, для приличия помолчал минуту, решительно встал и нагнулся над архиереем с горстью:
– Благословите, Владыка. «Израилю пешеходящему», к вечерне надо поспевать.
Вышел из монастыря и, идя в город, в подоткнутой за ременный пояс, – повторил несколько раз вслух:
– Нет, устарели владыки наши. В самом деле, не в уровень с тенью вековою. Я ему: про Совдеп, а он мне – Державина. Осьмнадцатое столетье, – а мы тут в 28-е прыгаем!
Прошел несколько сажен, перепрыгнул через лужу и окончательно заключил об архиерее: – Конечно, свят, но разумения мало, – и стал думать о том, не послать ли управляющему делами Совдепа – Уткину – мешочек залежавшейся крупчатки и полпудика меду – еще расстригин. Кажется, этот не такой ерепенистый, как Коростелев. Возьмет или не возьмет?» – и загадал: если первая встречная собака попадется с левой стороны – возьмет, с правой – не возьмет. Собака скоро попалась навстречу, но она бежала ни справа и ни слева, а по середине дороги – рыжебокая, худая, с хвостом, почти волочившимся по мелкой, кольцеватой, сентябрьской грязи…
Промптов посмотрел на собаку: она не захотела обходить его ни справа, ни слева, а своротила в поле, – и решил: «Не стоит давать. Не снимут. Где им! Так, хорохорятся только. Это не яблоко с яблони стрясти – попробую-ка сними «Соборного»: 2500 пудов. Кусается!» Ерунда: красная жила тонка – не снимут».
Повеселев, Промптов пошел быстрее. Даже подумал: «Напрасно я в монастырь грязь месил. Впрочем, ничего. Засиделся я. Отлично прошелся. Воздух-то – «благослови, душа моя, Господа», вот как ядреный. Не снимут. Не колокольчик от дуги оторвать! Руки коротки».
– Не снимут! – это и Фигушка говорила девушкам, идя от всенощной из собора под Рождество Богородицы. Колокола гудели бодро и зовко. Удары падали с неба так крупно и веско, будто отрывались от тяжелых, крупных осенних звезд.
– Не снимут, – повторяла девушкам Фигушка, идя под осенними звездами по пустым улицам, подсушенным ветром. Только кое-где, в вымоинах, в лужах светились шероховатые отпечатки больших звезд.
– Колокола ангелы крепят. Никола винтик завинчивает. Ходит и молоточком пощелкивает по колоколам: нет ли трещинки? Крепко ли висят…
– Говорят: снимут, Фигушка, – тихо промолвила Анюта Лепесткова, тоненькая, зябкая, в клетчатом платке с бахромой. – На войну отправят: пули будут лить.
– А кто говорит – на деньги перельют, – сообщила быстроглазая Параша с Обруба. – Будто, бумажки все пожгут, – а медные, из колоколов пустят.
– Не сдвинут, девушки, – отвергла все предположенья шедшая сзади, степенная ткачиха Акулина.
– Вон звезда-то как скатилась с неба! – вскрикнула Параша. – Как золотая копеечка упала! Только не поднимешь! – забежала вперед и засмеялась девушкам навстречу.
– Не сдвинут колокола. Пустое это. Колокол – несдвигучий: такая ему крепость определена. Вознести его на колокольню человек может, а снять – нет. Только огненное снятие колокола бывает: пожаром, по Божью попущению, либо молоньей. Огонь один спускает колокол, а для человека колокол некасаем.
– Ангелы крепят! – повторила, вздохнув, Фигушка.
– А вон гривенник с неба упал! – опять на ходу, запрокинула Параша голову к небу. – И-и-и! как покатился.
– Это не денежки, Параша, – промолвила Фигушка, – это ангелы смотрят.
– А почему ж катится?
– Не катится, а слезка из глаз у них скатывается.
– Насмотрятся они на нас – и как не заплакать, все видючи, – сказала ткачиха. – Не все видим, а и то слезы, как горох.
Шли долго, молча.
Звезды крупнели над ними. Млечный путь выбелил мост через небо. Ночь удерживала тишину крепнущим, стеклянным холодком.
– Нет, снимут! – вздохнула Анюта Лепесткова.
– Не снимут! – твердо и радостно порешила Фигушка.
– А коли и снимут…
Понизила голос ткачиха, – словно углубила его, прикрыв тишиной, – и девушки почувствовали это, и включили ее в середину: шли, окружая ее.
– Думаешь, Господь оставит храм свой без звона? Колоколов не будет, а звон будет.
– Как это? – вырвалось у Аннушки Лепестковой.
– А так. Бог былинку полевую заставить может благовестить слаще колокола. Птицам прикажет трезвонить. Они щебетать, петь будут – а мы звон будем слышать. Ветры загудят – а нам услышанье: к обедне звон. Матушка Испуганная, – она в постели болезнует, седьмую неделю, – так и говорит: «Будут звоны». – «Как, матушка? – ее дьякон соборный отец Потапий спрашивал. – Колоколов не будет, а звон будет?» – «И колокола, отвечает, будут, и звон будет…» – «Как же будут, коли снять с колокольни постановлено? Может быть, под навесом разрешат? Маловероятно это». А матушка ему: «Не под навесом, не на колокольне, говорит, – а колокола будут, и звоны будут». – «Какие же?» – спрашивает дьякон. – «Сокровенные», – отвечает матушка. «Ну, это, – говорит дьякон, – высоко и мне непонятно. А полагаю, что снимут». А матушка ему вслед: «Не коснеет Господь обетование. Земной звон кончится, небесный возблаговестит».
– Умрем, что ль, все мы? – вздохнула Параша.
– Не умрем, а сокровенность. Не за веревку будет звон, а иной.
– И в колокола?
– В колокола.
Девушки замолчали.
В небе над ними, здесь и там, висели зыбкие, ртутные капли звезд: вот-вот капнут, застынут емкими тускло-блещущими живыми комками на стынущей черни земли.
Лепесткова заговорила:
– Это не тот ли звон, что юродивый Сидорушка слышит? Без веревки звонят. Дождик капает, – а он будто звон слышит:
– Дон-дон! Кап-кап! Богородицыны! Солнце печет. Ляжет на земле. Лицом вверх – и уши подставляет, то одно, то другое. «Что ты, Сидорушка?» – «Кап-кап!» – отвечает. «Да ведь не каплет, дождя нет, небо чисто». А он ухо подставляет, а сам: «Дон! Дон! Дон!» – «Звонят?!» – спросишь. – «Богородицыны», – отвечает. Звонят, ему слышится. Это не про таковой, не про Сидорушкин ли матушка говорила?
Степенно отвечала ткачиха:
– Наше дело незнáнное. А только будут колокола неснимýчие, и звоны будут сладкие, а звонари сокровенные.
На Рождество Богородицы звонили, как обыкновенно, на Воздвиженье был звон и вечером на водвизанье креста, и утро – к обедне. В воскресенье же служили уже без звону. Колокольня замолкла нежданно, просто и сразу. Просто на этот день был объявлен коммунистический воскресник особого назначения: были вызваны рабочие-коммунисты из железнодорожного депо и с бывшей ходуновской фабрики (теперь – имени «Розы Люксембург»), – нежданно была оцеплена красноармейцами Соборная площадь и прекращен доступ на нее с улиц и из домов, выходивших на площадь, и сразу, едва рассвело, приступлено было к спуску колоколов. Когда вскорости дьякона Потапия, видевшего, видевшего все дело украдкой из чердачного окна, спрашивали Хлебопеков и Ханаанский, как же все это случилось так сразу, он со смущением откашлялся и откашливал редкие слова:
– Влезли, сняли, уволокли…
– Пришел, увидел, победил – как у Юлия Цезаря, у вас выходит, отец дьякон. Возможно ли? – сомневался Ханаанский.
– Дьяволу попускающу, – объяснял дьякон быстроту и успешность описанного действия.
– А нам зевающим, – ехидно упер Хлебопеков свой белый петушиный глаз в Ханаанского.
– Я говорил… – пожал плечами Ханаанский. – Что ж я могу? Чего вы хотите? Власть!
И опять принялся расспрашивать дьякона: как же, как же это произошло? И опять дьякон кашлял и выкашливал:
– Влезли, сняли, уволокли…
– Ну, влезли, – приставал Ханаанский, – это понятно, сняли, это хотя труднее, но тоже еще понятно, но поволокли-то как же. Ведь в Соборном 2500!
– А спустили на каткú – и покатили. Очень просто.
Да каткú-то откуда ж? Не из земли же они взяли. Ведь две тысячи пятьсот!
– Из железнодорожного депо, что ли, взяли, от товарных вагонов колесные тележки, – пожимал плечами дьякон. – Я почем знаю. Дьяволу способствующу…
– Куда ж они колокола дели?
– Через площадь перекатили – далеко ль? – и на двор, в Совдеп. Там, в сарае, часовые стерегут.
– И не кокнули?
– У Соборного край отбили.
– Ловко! И людей не повредили?
– Треснулись о землю, человека два, как Соборный спускали, должно быть, здоровые шишки себе набухали, но особого вредительства не было. Не слыхал и не видал.
– Народ не вашего сложенья, – не удержался язвительно уколоть Хлебопеков Ханаанского. – Крепонек. И действует не по-нашему: у него: еже писах, писах; еже рекох – рекох. Оттого, уповательно, и на ногах стоит.
Ханааский хотел что-то еще спросить у дьякона, но дьякону надоели расспросы, и он опять повторял:
– Говорю вам: влезли, сняли, укатили. Очень просто. Триста лет висели колокола, тысячи пудов, – а вышло: вот какая простота! Проще-простого: пришли, сняли, укатили. Чисто. К 9 часам утра все было готово. Отец протоиерей только растерялся: «Как же я без звона буду служить?» – а то бы и обедню можно было служить. И площадь подмели. И красноармейцев убрали. Все чинно. Часов в 10 приходил к отцу протоиерею от Коростелева какой-то высокий, в желтых сапогах. Спрашивает: «Почему обедню не служите?» – «Без звона, – отвечает отец протоиерей, – невозможно». – «Невозможно?» – спрашивает в желтых сапогах. – «Невозможно». – «Председатель Совета Депутатов товарищ Коростелев предлагает вам служить. Ежели службы в соборе не будет, собор будет опечатан и отдан в распоряжение Военкомата. Казармы у нас очень тесны». Повернулся на желтых каблуках и ушел. Конечно, после этого как не возгласить «Благословенно царство!» В воскресенье служили. Дьяволу пособляющу.
– Это – кому же-с? Вам или им-с, отец дьякон? – съехидничал Хлебопеков.
– Им, – печально протянул дьякон. – Я, когда в семинарии учился, газеты читаючи, задумывался не раз; читаю в газетах, обокрали вот того-то, там-то воры, стену проломали. Ловко-то ловко, а вот у кого, думаю, столько ловкости наберется, чтоб Царь-колокол украсть?
– Как Царь-колокол? – спросил Ханаанский.
– А вот что в Москве на постаменте стоит подле Ивана Великого. 12000 пудов. Без всякой охраны. Медь с серебром. Богатство огромное. Бери – и в карман клади. Вот, думаю, если б такой ловкач нашелся, Царь-колокол украл бы, вот это было бы дело! Нет, решил, такого на свете еще не родилось.
– К чему сие? – хмуро посмотрел на дьякона Хлебопеков.
– А к тому, что вот я теперь думаю, что нашлись и такие ловкачи: те, кто колокола укатили, они и Царь-колокол с постамента сперли бы, да еще среди бела дня, – и никто не заметил бы.
– Ерунда, – сказал Ханаанский.
– Не ерунда, а факт. Колокола-то укатили. Нет-с, их верхушка будет по всем статьям. Вот увидите.
Дьякон и говорить больше не стал, простился и ушел.
В соборе служили без звону.
В первое воскресенье без колоколов, перед началом обедни, юродивый Сидорушка, худой, седой, высокий, стоял перед соборной колокольней и, подняв голову, смотрел на пустые пролеты колокольни и, улыбаясь, басом напевал:
– Дон-дон! Дилин-дон!..
Шепчась, проходили богомольцы в собор и, мотнув головой на Сидорушку, объясняли друг другу:
– Звон слышит!
Юродивый покачал головой и подставил ухо к небу. Глаза его померкли, стали серыми из голубых, с гудящего баса он перешел на тонкий тенорок, – и звонко и грустно он стал отсчитывать.
– Кап, кап, кап!..
– Дождик, что ли, будет, – решали прохожие, глядя на него.
– Что ты! Дождик! Плачет это он, а ты – дождик…
– Не поймешь: не то звонит, не то плачет.
Сказали про юродивого протоиерею, служившему обедню. Промптов выслал сторожа к юродивому.
– Шел бы ты, Исидорий, – сказал сторож, – Смотрят из Совдепа-то. Нехорошо будет и тебе, и нам.
Сидорушка закапал чаще, ничего не ответил и, покачав головой, пошел с площади. Он носил теперь порыжелые штаны с генеральскими красными лампасами, и никогда их не снимал. За пазухой у него жил плешивый, ошпаренный котенок без правого уса.
Испуганная лежала в постели. Девушки, бывавшие у нее, не говорили про нее «болела», а «болезновала». Ткачиха первая рассказала ей, что колоколов не стало на соборной колокольне.
– Матушка, словно сатаниным крылом невидимым смело. Вечор звонили, поутру – уж нет!
– Есть, – тихо, через силу, сказала Испуганная. Лицо у нее было бледно, и глаза не хотели ни на кого двигаться. Смотрела она куда-то поверх того, что было перед ней.
– Где ж, матушка, есть? Нет!
– Есть, – повторила Испуганная.
Ткачиха растерянно посмотрела на нее, а стоявшая подле Испуганной Фигушка (она теперь жила у Тришачихи) укоризненно покачала головой на ткачиху. Но та перевела только дух и все же возразила с горестью:
– Нет, матушка болезная. Сняли. Как воры. Где ж есть? Это только Сидорушка – блаженный, стоял перед собором, да капельки свои отсчитывал, будто это ему колокольный звон. А колокольня пустым пуста.
– Есть, – третий раз и еще тверже сказала Испуганная. – Слышит. Открыто. «Яко глас вод многих, и яко глас громов крепких». Звонит. Есть. И услышим.
– Услышим! – залилась слезами Фигушка. – Услышим!
– «Радуемся и веселимся, и дадим славу ему: яко приди брак агнчий».
Испуганная произнесла как молитву, и закрыла глаза. Ткачиха заплакала. В это время вошли три девушки. Они пошептались с Фигушкой, – и несколько раз донеслось из шепота слово:
– Слышно!
Ткачиха прислушалась, а Испуганная лежала с закрытыми глазами.
Фигушка внимательно посмотрела на нее и отступила от постели на цыпочках:
– Започивала.
Все вышли тихонько из комнаты. Присели на кухне, вокруг пахнущего сосной, стола. Анюта Лепесткова рассказывала:
– А который человек верующий и не матерится, тот, проходя мимо Совдепова двора, слышит: – бом! бом! бом! Звонят колокола. В соборе обедню служить зачинают, а колокола на совдеповом дворе благовестят.
– Может, кто балуется, звонит? – сказала Параша.
– Сами! – ответила Анюта. – Сколькие слышали. К обедне идут. Скучно без звону. Тоска. Будто будень. А как только с Дворянской на Соборную повернут – вдруг: звон слышен. Сами!..
Соборные колокола звонили на совдеповом дворе. Об этом говорили на Обрубе, в домах на бывшей Дворянской.
– Мифотворчество! – покачал головой Ханаанский, когда ему передали слух о звоне.
– Подвальные разговоры, – с досадой отозвался на такую же передачу Хлебопеков. – В подвал, в Чеку, за это сажают. Недостаток металлов оправдывает сию меру в глазах благомыслящих граждан. Уповательно, после сего мероприятия, поступят в продажу кастрюли и скобяной товар, в которых немалая нужда. Повторяю: возможно вполне одобрить предпринятое. Молчанье есть знак согласия. Как старожил, могу удостоверить: таково мнение граждан.
В Темьяне было тихо и спокойно. В соборе служили без звону. В других церквах потихоньку, чтобы никому не мозолить ушей звоном.
Осень вызолотила, потом вычернила окоём вокруг города. С полей шла на город многовековая, густая тишина.
Паровозы не жаловались истошными голосами: кричали от боли редко-редко и очень коротко. Фабричные гудки вскрикивали с испугу – и, вскрикнув, точно боялись, что нарушили застоявшуюся тишину, и спешили скорее подчиниться тишине, залепившей весь город.
В городе не было керосина. Улицы не освещались. В домах еле светились лампадки и тусклые коптилки-ночники. Ночная тишина переливалась в утреннюю, утренняя – в дневную.
Однажды, занимаясь делами в угловой комнате бывшего губернаторского дома, Коростелев, похудевший и постаревший, сказал Уткину:
– Ты слышал, Петр Иваныч, какую белиберду попы распустили? Дурьё и бабьё в слободке болтает, будто у нас на дворе к обедне каждое воскресенье благовест слышен. Пролетариат снятие колоколов одобрил. На фабрике имени Розы Люксембург единогласно была принята резолюция. Несколько сот подписей. И даже сказано: «Требуем дальнейшего снятия на нужды производства». Обыватели, в массе, тоже ни гу-гу. А попы мутят…
– Попы ни при чем, – отвечал Уткин, уткнувшись в бумаги. – Где им! Сидят в опасении. Тише воды. Дьякон, тот прямо говорит: «Я по плоти только духовный, а по духу я большевик».
– Не попы – так кто же?
– Сами колокола.
– Лепи горбатого!
– Убери – увидишь, и звонить перестанут.
– Убрать, действительно, пора. Черти его щекочи, этого Усикова. Говорил: утилизация, утилизация. Вот тебе и утилизация металла: сняли – и оставили в сарае. Буржуи и без того заржали: советского транспорту, мол, хватило только на 60 сажен: от колокольни до Совдепа перевезти.
– С большим колоколом придется до зимы выждать. По санному пути. До Смекаловки, до завода, 20 верст. А на малые заявки есть желающих учреждений.
– От кого есть заявки?
Уткин порылся в бумагах и вытянул листок.
– На один колокол, погуще, в пожарное депо, на целый небольшой звон, – колоколов этак с пять, – от театруправления, для театра. Нет у них колоколов. В кастрюли бьют. В некоторых пьесах требуется звон. От губмузея три заявки – на старинные колокола. тут и перечислены: Царский, Плакун, Голодай. Полагал бы…
– Постой, – прервал Коростелев, и прислушался. – Что за чертовщина? Звонят! Слышишь: звонят?
– Как будто бы… Да, это верно, у Симеона Столпника. Доносит ветром. Тут недалеко.
– Да у нас на дворе звонят, говорят тебе. Вот чепуха.
Коростелев встал и прислушался.
Ударяли в небольшой колокол, мягко, неуверенно, пробующе; где-то совсем близко возникал звук и прятался, не желая выходить наружу. Но звук был музыкален и чист.
– Звонят, – развел руками Уткин.
– Это у нас в сарае, Петр Иваныч, сходи посмотри, какой идиот там звонит, и приведи сюда. Вот они, таинственные звоны, которым верит дурьё.
Уткин пошел и вернулся с аптекарем Хлопчиком. Хлопчик, весь дрожа, маленький, черненький, в кожаной, порыжевшей куртчонке, запнулся в дверях – и ни с места. Нижняя губа у него дергалась, – и очень смешно дрыгало на веревочке роговое пенснэ.
Уткин шутовски поклонился, как простаки в оперетке, и представил Хлопчика Коростелеву:
– Вот-с, рекомендую, товарищ Коростелев, артиста на колоколах, провизора фармации, Исаака Абрамовича Хлопчика. Усладитель звоном.
– Какого вы черта, – набросился на него Коростелев, – звоните? Где ваш пропуск на двор Советов? Нет? Как же вы смели туда зайти? Кто вас пустил?
– Я… извиняюсь… но я, под забор…
– Зачем? Что вам понадобилось у нас на дворе?
Хлопчик попробовал насадить пенснэ на переносицу, но оно тотчас спрыгнуло.
– Я… извиняюсь, но я звонил…
– Звонили? Почему? Что у нас, колокольня, что ли? И хорош – вы звонарь! Посмотрели бы на себя! Вы – еврей: что вам до звона: в попы что ль репетируете? Так не примут!
– Я извиняюсь, но я не хочу быть поп… – Хлопчик вскинул на Коростелева испуганные, масляные глаза. – Извиняюсь, но колокола – это же музыка…
– Поповская музыка, а вы еврей, на кой вам она прах?
– Извиняюсь, но это же музыка. Я не мог никогда иметь этот музыкальный инструмент. Я хотел играть, я же имею музыкальные способности, и я хотел играть на колоколах свою музыку. Колокола – это же почти оркестр. Я извиняюсь, мне не давали никогда играть на этом музыкальном инструменте. Я же просил… Товарищ Уткин, не может же не знать.
– Подтверждаю, – кивнул головой Уткин. – Товарищу фармацевту хотелось позвонить на колокольне, я за него просил и получил от ворот поворот.
– Ну?
– И теперь… Я приветствую революцию… И теперь, извиняюсь, когда инструмент не на колокольне, – быстро подхватил уткинские слова Хлопчик, – я сказал себе: «А почему бы тебе, Хлопчик, не поиграть на твоем инструменте? Великий Октябрь тебе позволяет».
– Здесь, товарищ фармацевт, не балаган, – хмуро заметил Коростелев, – и не музыкальная школа, – добавил он. – Чтоб ноги вашей здесь больше не было! Поповских звонарей мы прогнали, и еврейских не нужно. Потрудитесь найти другие музыкальные инструменты.
Хлопчик поклонился и поморгал глазами.
Коростелев нагнулся над бумагами.
– Я могу идти, товарищ председатель? – осведомился Хлопчик.
– Можете. Уткин, напишите ему пропуск…
Хлопчик опять поморгал.
– Я извиняюсь, может быть, вы разрешите мне иногда поиграть на колоколах? Я же могу представить свидетельство из музыкальной школы.
– Я разрешаю вам убираться к черту, пока я не велел вас арестовать.
Хлопчик вздохнул и вышел.
Коростелев прошелся по комнате. Раскурил папиросу. Старые губернаторские стоячие часы в футляре красного дерева медленно двигали маятником, как губернатор – подагрическими ногами. Коростелев ткнул папиросу в бронзовую чернильницу с голой нимфой, служившую пепельницей, и сказал Уткину:
– Мы никогда не доводим дела до конца. Уж когда-нибудь наши белые приятели прищемят нам хвост на этом. Заявки на колокола все удовлетворить. Пора кончить эту канитель с колоколами. Еще другой какой-нибудь дурак найдется, – захочет колокольную музыку разводить. В пожарную команду и в театр отдать – что просят... На кой ляд нам эти колокола!..
– А в музей? – спросил Уткин.
– Не следовало бы… Мы снимаем – они показывать будут. Я бы эти музеи… черт их щекочи! Впрочем, все равно девать некуда. Пусть берут.
– А большие?..
– По первопутку, в Самохвалово, в плавильную печь… Пиши бумагу в Главметалл. И транспорт, чтоб заранее заготовить. Боюсь только, всю медь попы прозвонили насквозь. На кастрюли и тазы перельют в Самохвалове, – а все позванивать будет… От попов продукция плохая.








