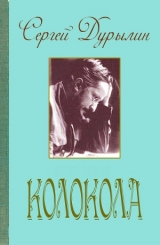
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Уткин сидел в «Парадизе» с седым Гришей (Гришей началось его «кругосветное пьянство» и Гришей же кончáлось) – и утверждал, соля мадеру из солонки поваренной солью:
– Сладкое должно пить теперь с соленым, ибо о слезе забывать невозможно, о слезе всеобщей! У России морда – пьяная, битая, со шрамом, и в грязи от Рюрика, от Гостомысла, даже до сего дня, – но у этой морды, ибо она не лицо! и тем более не лик! – у этой морды есть глаза… Какие? Карие-с глаза у Российской морды, огромные, невинные, полузрячие, с гноем-с на ресницах, – ибо оплеваны многократно и хлыстом хлещены, – и на этих глазах теперь слезы! Они плачут-с, карие, с гноем, с краснотою! Падшая девка воет оттого, что убит человек! – тот, кто ее бил по морде! Этим слезам должен был бы вестись государственный реестр, как национальному достоянию, – ибо они утверждают, слезы эти девкины, бытие человека: «человек он был!» – тот-с, кто гниет теперь в общей яме, в «Незгинéлой-с!» Бытие человека нуждается в подтверждении-с. Утверждаю: сомнение в существовании Божием скоро сменится сомнением в существовании человечьем. Существует ли человек? Недоказуемо! Ходуновы, Уткины, Пенкины, генерал-губернаторы, архиерей, прапорщик Зорин – существуют несомненно, но человек-с? Вопросительно. И посему, все, что служит материалом к доказательству существования человека, все должно быть регистрируемо точнейше! Государственной важности дело: ибо при несуществовании Бога кое-как жить еще можно, но при несуществовании человека… вряд ли! И вот предлагаю девкины слезы, Анюты Лепестковой, – рубль за ночь, – регистрировать немедленно! «Человек он был». Это – слезами – о Космачеве, Терентьи, который бил ее собственноручно, и не менее пяти раз в месяц! и изнурял-с! Оттого пью со слезой-с, с солью, слезу заменяющей.
Седой Гриша придвинул к Уткину мадеру, налил и сказал:
– Пей без всяких яких. Звонят ко всенощной. Идти надо. Архиерей служит. Благодарственная будет.
– Не пойду! – завопил Уткин. – Возблагодарю, если будет заведен реестр, – и колокол утвердит бытие человеческое, как утверждает Божие. Ибо, с одной стороны, предъявлено девкиными слезами доказательство бытия человеческого, а с другой – умаляется оказательство человека…
– Темно говоришь, – недовольно вставил Гриша. – Говори без всяких яких.
– Ясно: девка плачет, но Ходунов, мануфактура, губернатор и даже архиерей радуются. Чему-с?..
– Победе, – подсказал Гриша. Ему не нравился разговор Уткина и он дал знак половому, прислушивавшемуся к разговору, подать счет.
– «Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс!» – пропел Уткин, – но строго заметил себе же: – Но росс не веселится! отнюдь! Росс ложится костьми, но не веселится. Веселится Ходунов, мануфактура и иже с ним! Прекращено даже то веселие, которое усвоено Руси историей: пúти.
– Пойдем, – решительно сказал Гриша, расплатившись. – Пойдем, и чтоб без всяких яких. Нехорошо.
Они вышли на площадь.
Соборный благовест гудел и бурлил над городом. Ходуновский колокол посылал полновесный, неколебимый гуд, – и все колокола вливали в него свои голоса, дрожа серебром и медью. По небу неслись быстро-быстро тучи, скатанные в скипенный поток дрожащими, почти скрывающими зернами.
Седой Гриша простился с Уткиным и пошел в собор. А Уткин остался на тротуаре, у ресторана. Он смотрел на комлистые, лепные облака, на слабо загоравшиеся звезды, слушал гудкий звон – он, казалось, облепливал собою город, не поднимаясь высоко.
Проехал четверней архиерей и вступил в собор, встреченный на паперти духовенством в облачениях. В коляске прискакал губернатор. Уткин перешел на середину площади и стоял и слушал. Подъезжали в экипажах чиновники и купцы и входили в собор. Экипажам приходилось объезжать Уткина, стоявшего посреди площади: он мешал прямому заезду к паперти. Звон гудел и гудел – высоко и полнозвучно, – говором грозным и гордо-свободным, почти гневным. И вдруг Уткин, не сводя глаз с колокольни, весь потянулся к звону, к колоколам, – и, подкинув свою кепку в воздух, закричал им благодарно и ободряюще, как человеку:
– Валяй их, милый! Катай их! Сверли в уши! Бей по сердцам! Валяй их в мозги! Возвышай голос! У тебя свобода слова! Тебе рта не заткнут! Валяй их, родной! Оглушая свободным словом!
И ему казалось, что колокол его слышит, и гневно обличает тех, кто не ведет реестров слез человеческих, но точит, точит слезы неисчислимые из больных глаз страшной, битой-перебитой морды Российской…
Тоненький, хрупкий околоточный подошел к нему и, взяв под руку, сказал вежливо:
– Мешаете съезду начальствующих лиц. Прошу удалиться.
Уткин посмотрел на него, и улыбнулся ему в лицо:
– «Веселися, храбрый Росс!» Руси веселие есть питии.
Околоточный провел шага два его с собою – и повторил тверже:
– Прошу удалиться!
Уткин взошел на деревянные мостки тротуара. Он плакал. Ему казалось, что звон слушался его.
В это время учитель Ханаанский поднимался на соборную колокольню с обернутой в бумагу подзорной трубой. Когда стемнело, он навел ее на небо, посмотрел и указал Василию:
– Комета 1914 года. Смотрите. Редкое явление природы, не любящей редкостей.
Василий глянул в трубу, но ничего не увидел. Он посмотрел на небо, туда, куда показывала труба, и легко увидел на черни осеннего неба яркую голову кометы: «точно, спичкой чиркнул кто и горит головка» – подумалось Василью, – и от головки сыпался золотым песком долгий-долгий след.
Василий молчал и смотрел. Головка горела ярко, а золотой песок сыпался щедрым, блекнущим в темь ночи, севом.
– К чему бы это? – спросил он Ханаанского.
– Явления природы не бывают к чему… – отвечал он. – Ни к чему. Все в природе – ни к чему. Но совпало с войной. Этого отрицать нельзя. Безусловно нельзя, – последнее добавил он кому-то другому, не Василью.
– Совпала? – переспросил Василий. – Старые люди говорят: Божья мета.
– Холодно, – поежился Ханаанский. – Ночи холодеют. Юр тут у вас. До свиданья.
– Прощайте, – ответил Василий. – Победа?
– Победа! – ответил Ханаанский. – Иду на молебствие. Трубу оставляю у вас в комнате.
– Оставляйте.
Василий опять стал смотреть на комету. Хвост у нее побледнел: песок из золотого сделался серебряным. Но головка показалась ему тяжелой, крупной каплей крови, которая вот-вот капнет на землю.
В это время дернули сигнал из собора. Надо было звонить к молебствию.
Глядя на комету, Василий ударил в Княжин. Соборный ответил ему с верхнего яруса – и полился густой, негнущийся звон. Как масло по воде, казалось, он расплывался по воздуху густыми, негнущимися каплями.
Тришачиха также смотрела на комету. Она стояла у себя на дворе, окруженная женщинами, в черном платочке, похудевшая и спокойная, и указывала на золотой хвост, извивавшийся в небе.
– Господень перст золотой сквозь твердь просунут. «Ей Гряду!» – говорит и на град указует. Перстом – прямо в град Темьян!
– Перстом! – повторили женщины. Кто-то заплакал – по-ребячьи, жалостно и привычно, жидким, тонким плачем.
– Перст указующий – меч златой. Вон он!
Все смотрели вверх. Золотой меч рассекал сентябрьскую чернь неба. Долго молчали. Звон тугими, плотными пятнами расплывался над городом. Казалось, он облаками своими – грозными и гулкими, окружал комету и пел ей хвалу, – гневную на человека и славящую небесный гнев золотого меча, занесенного над городом.
Испуганная осенила себя крестным знамением, глядя на комету, как на икону Страшного суда, и тихо и крепко произнесла:
– Быти вскоре!
Часть 5. Конец
1.
В Светлую заутреню ночь хмурилась и поутру солнце не играло: его упрятали громоздкие, развалистые тучи.
– Ангелы-архангелы укрыли солнышко в плáты пепельные. В платах оно играет, – объяснила Испуганная.
– А почему? – спросила Анюта Лепесткова. После смерти Космачева привыкла она дневать и ночевать у Испуганной. Теперь сидели все в чисто прибранной горнице у Тришачихи.
– Неведомо.
– А слыхано, – поперечила Испуганной почтительно Акулина Марковна, старая ткачиха. – От отцов, от прабаб слыхано, что Враг Темный хочет ударить в десницу Солнце Пресветлое, – как Христа Исуса раб архиерейский.
Не согласилась с этим Тришачиха:
– Ад, где твоя победа? – сказано. Темный в теми преисподней лежит, мордой в кало Iудино: где ему солнце высокое заушить!
– При конце дней это будет, – степенно дополнила Акулина Марковна. – Солнце от заушения померкнет, и луна с печали опепелится, и звезды, как яблоки с веток, спадут с неба… Тогда это будет.
Это приняла Испуганная:
– Слово твое верно: при конце заушит Темный солнце пресветлое, и дано ему будет тмить тварь земную и вселенную, пока не прискачет конь бел, а на нем Правосудный и воинственный Христос, Победитель Исус. Ныне же, не к тому хмурота в небе: не заушено солнце, а в плáтах играет.
– А почему? – повторила Анюта, смотря васильковыми глазами в лицо Испуганной.
– Ради скорби земной, – а более – неведомо!
С этого разговора, с красным яичком в руках, Испуганная приняла Акулину-ткачиху в общение твердое и в постоянный совет и даже раскрывала ей Авессаломову книгу, но ткачиха была неграмотная, – и Испуганная совещалась с нею без книг.
Девушки и женщины сидели за столом, накрытым чистой скатертью. На ней стояли кулич, пасха с крестами и «Х.В» из разноцветных цукатиков и яйца крашеные. Девушки и женщины с фабрики, с Обруба, из слобод, приходили к Испуганной и христосовались с нею чинно, медленно, с трехкратным ликованием щека в щеку, – и каждая протягивала ей яичко. Тришачиха опускала руку в большую корзину, стоявшую возле стола, и каждой давала красное яйцо – всем красное.
Анюта решилась спросить то, что всем женщинам хотелось спросить, да не решались:
– Отчего, Глебовна, тебе несут и красные, и палевые, и золотые, и ситцевые яички, и всякие, – а ты – всем красные?
Тришачиха улыбнулась, – и, чтобы оказать почтение Акулине Марковне, ткачихе, качнула головой в ее сторону и отвечала степенно:
– А вот, спроси Акулину Марковну… Небось, лучше меня ведает.
Акулина-ткачиха ведала. Она оживилась, отставила от себя стеклянное блюдечко с пасхой, отерла бантик губ розовым платочком, – и сказала неспешно, облупливая каждое слово, как яичко, от скорлупы:
– Не хитро, девушка, знатьё. Старых людей больше слушали бы, и вы бы все знали. Красное яичко – Исусово христосованье. Вот отчего красное, – никакое, а красное. И Пасха красная. Когда воскрес Христос Исус, жиды не верили: «под печатью он лежит, под каменной, – утешали себя, – и червь его могильный грызет и сверлит ему плоть». А Христос-от, «воскрес из мертвых, смертью смерть поправ», – и идет с горы вертоградной, и солнце, глядючи на него играет, и земля под ним дышит: пар радостный от ее дыханья идет, белыми струйками, – и все деревья, птички, ручейки с ним, с Царем Небесным, христосуются. Идет Исус Спаситель, – а навстречу ему жиденята, малым-меньше, как горох, рассыпались, глаза жмурят: свет идет от Него, как от солнышка. Вынул Он, Пресветлый, красное яичко, – и подает первому жиденку, и говорит ему: – Христос Воскресе! – облобызал его трижды, и всем по яичку, сколько их, жиденят, не было, всем по красному дал, и похристосовался… Они его спрашивают, малыши пархатенькие: «А почему, мол, у нас дома яйца белые, а у тебя красное?» – И Исус Христос: «От крови, – отвечает, – моей оно красное, – а через кровь мою людям веселье и жизнь прекрасная». Прибежали жиденята домой – тычут отцам и матерям красные яички и лопочут радостно: «Христос воскрес!» А те лица свои кроют покрывалами пепельными: не могут на яички красные смотреть, – и отвечают: «Знаем, что воскрес: оттого то и горе наше, что воскрес!» – завернулись в пепельные покрывала, пали ниц и всю Святую неделю ниц пролежали. Не могут на солнце пресветлое смотреть – ослепнуть боятся. И даже до сего дня, лежат иудеи ниц всю Пасху. Так им указано. А мы – в руке красное яичко, – и «Христос Воскресе!» Им Христос Воскрес – ниц лежать, а нам веселье вечное: на солнце смотреть!
Кончила Акулина Марковна, на образ взглянула, а потом к Тришачихе вежливо обернулась:
– Так ли я, Пелагея Глебовна, рассказала? Не бессудь, – поправь, коль не так. У тебя память крепче моей.
– Так, Марковна, кажется, так, – искренно одобрила ткачиху Испуганная и поучительно примолвила девушкам и женщинам: – Вот учитесь, пока старый человек еще вам правду, как одежду теплую, точает. Некому точать будет – наги будете ходить. Озябнете. Зяботá идет в мир.
Любопытная, быстроглазая Параша с Обруба, молодая бабенка, у которой мужа, слесаря, взяли на войну, скромненько спросила:
– Жиды-то ныне волю, что ли взяли, Марковна: не лежат они в Святую-то неделю, на земле не никнут. Видала я: ходят, как обыкновенно. Живет у нас на дворе аптекарь Хлопчик. Глянула я утресь в окно: так из угла в угол ходит, – как обыкновенно. Худой ходит.
– Никнут, – строго возразила Тришачиха. – Как не никнуть: никнут! А ходят – это те, которые ни во что не верующие. И у жидов такие есть, как у нас. Плевелы несеяные.
Окна были открыты. Березы покрывались зеленым, матовым туманом. Зеленые облачка, нежные, пугливые, сквозистые, застряли на кустах в садике. Птицы пробовали все лады, налаживая весеннее переливное пение. Солнце выглянуло, раздвинув тучи лучами, – и не прогнало, а озолотило насквозь зеленый туман деревьев и кустов.
Над городом дрожал весенний, золотой дрожью пасхальный непрерывный звон. Он сделался привычен, как воздух, – так же тепел, светел, золотист, повсюден.
Вдруг Тришачиха прислушалась: в мягкий, веселый разлив звона ворвался неуимчивый, пенливый поток, – и забурлил, и забурлил хмельной, весенней пеной.
– Это Кондрат в соборе звонит, – определила эту пену звона, хлещущую через край, ткачиха: – его рука! Беспременно – он.
– И я слушаю: его звон, – согласилась Тришачиха.
Все помолчали, слушая звон.
– Веселыми ногами ходит, – сказала Тришачиха радостно и тихо.
– Кто?.. – удивленно спросила Анюта.
– Ангел Божий по воздусям.
Помолчали; она добавила:
– Мы думаем: звон слышим, – а это ангельское хождение на воздусях: ангельские стопы облака попирают. Ликованье у них, у ангелов, сегодня. «Сей день, его же сотвори Господь».
Испуганная обернулась к молчаливой молодой женщине в лиловой баске с белым горошком. Лицо ее было задумчиво и серые глаза были в коричневых ободках от усталости и грусти. Тришачиха ласково посмотрела на нее и спросила:
– Пишет твой с войны-то?
– Пишет, Глебовна, – редко.
– О чем?
– Скучно, говорит. Все дом во сне вижу. Говорят, не хорошо это – дом видеть, – тревожно спросила женщина, – будто это домой не вернется? во сне только дом ему будет.
– Не верь, Настя, – улыбнулась женщине Испуганная. – Спочтецы грамоте плохо знают.
Вдруг она спохватилась:
– Да я в сторону зашла. Я вот что тебе сказать хотела: Мишка-то твой кричит по ночам?
– Кричит, – так кричит, будто крикун в него вошел. Я ото груди его отняла, было, – теперь опять кормлю: хоть бы малость крик утишить. Не утихает! Беда с ним! Отойти нельзя. Сейчас на соседку оставила.
– Вот, вот, – поддакнула на это Тришачиха. – Вот-вот, ты и пойди сейчас домой, окна, двери, все раствори, – а его, Мишку-то, положи в зыбку… В зыбке он у тебя?
– В кроватке, – поправила Настя и счастливо улыбнулась.
– …Хорошо. Положи в кроватку, – и пусть он светлый звон слышит. Он у тебя под звон и заснет. Покоит звон-то ангельским покоем… И крик отгонит навсегда. Пойди! Нынче Пажитев звонит. Слышу: его звон. Хорошо он звонит. Поди ты, положи младенца под звон, – под ангельские легкие стопы. Беспокой младенцев и твою тоску все они веселыми ногами потопчут, как виноград. Поди-ка. Да на тебе еще яичко, – для Михаила-младенца.
С двумя красными яйцами в руке, со счастливой улыбкой пошла Настя подкладывать младенца под ангельские веселые стопы.
А угрюмый, седобородый Кондрат Пажитнев, старый рабочий от Ходунова, звонил в это время на соборной колокольне, – и от его сияющего, ликующего звона ангелы расходились веселыми ногами над скучным Темьяном, хмурящимся от запоздалой весны, от надоевшей войны, от дороговизны и недостачи продуктов.
Василий звонил вместе с Кондратом, но уступал ему первое место в звоне. Пажитнев взбирался на колокольню раз в год – в один из дней на Святой, – и в этот же день поднимался на колокольню, – тоже единственный раз в году, – «маленький Ходунов» – Филипп Петрович Недумов: «Ходунов» он был потому, что приходился внуком основателю фабрики, а «маленький» – потому, что занимался в конторе фабрики, и паев «Товаришество Ходунова С-вей» у него было всего только два.
– Я полурабочий, – договаривал он, объясняя себя, – в буржуазии у меня только мизинец от ноги, не более.
Он был так же любитель звона, как и Пажитнев, но Пажитнева он не любил, с тех пор как услышал пажитневское примечание к его «мизинцу»:
– Правильно говорит «маленький Ходунов»: полурабочий он, – только коготком в рабочем увяз, – только одним, да коготок остер! – не отцепится.
У Пажитнева на правой руке не было безымянного пальца: остался в машине, – он показывал на свою пустышку вместо пальца и объяснял: – Я, Кондратий Пажитнев, палец в буржуазии оставил, а он, маленький Ходунов, – в рабочем коготок завязит. Увидите!
«Маленький Ходунов» быстро возвышался: владельцы паев им дорожили: по паям – он был свой, по положению служащего – он был в нижнем этаже: со служащими, с рабочими: хорошо было иметь «своего» в нижнем этаже, где он не мог не быть тоже «своим», хоть и не полностью, а с вычетом.
Пажитнев звонил с Васильем, а «маленький Ходунов» – Недумов – стоял у каменного столба – и слушал звон. У него было широкое лицо, скуластое, бледное, с маленькими глазами сиреневого цвета. Всегда они были внимательные, деловые глаза, не тратящие своей сирени на пустое, и сирень в них не цвела, а серела буднично и экономно; теперь глаза были невидящие, мечтательно-мягкие, раздумчивые. Сирень цвела в них. Недумов слушал звон – ему представлялось почти то же, что женщинам у Тришачихи: в ангелов он не верил, но ему казалось, что кто-то легкий и прозрачный, как стекло, ходит над городом, выходя с колокольни, и от его хождения, от каких-то воздушных встреч, – делается грустно-весело на душе.
«Самое глупое, – думал он, – что никто не ходит, а не более, как звуковая волна известного напряжения… Нет, не самое глупое, – останавливал он сам себя: самое глупое – это что аптекарский помощник Хлопчик сидит сейчас у себя в аптеке, над ступкой с камфарой, – толчет, слушает звон и плачет. Я знаю, что он плачет, ему хочется звонить… Это самое глупое: жиду звонить на Пасху!»
Он закрыл глаза и прогнал все мысли, оборванную фразу он окончил про себя: «не умней– и мне хочется звонить…»
Когда Пажитнев кончил и, отирая вспотевшее лицо платком, отошел к перилам пролета, «маленький Ходунов» подошел к нему и сказал:
– Христос воскресе!
– С праздником, – не очень приветливо ответил Пажитнев.
– Чудесно звонили! – чудесно!... Лучше прошлого года… Какое звучанье! Музыка… Это – наша народная, русская музыка.
– Ваша очередь, – усмехнувшись, произнес Пажитнев, тяжело дыша: похвала ему была приятна – он знал, что она справедлива и точна: он звонил лучше, чем в прошлую Пасху: звон лился с колокольни целым, не расплывающимся натеком, широким и глубоким по звуку. Этого было труднее всего достичь. И это сегодня было: точно он плавил дорогой, тягучий металл, и плавилось легко и податливо.
Пажитневу было неприятно смотреть, как Недумов, уходя от него, снял с себя бежевое, с бархатным воротником, пальто, как Василий принял пальто на руки, как Недумов поправил лиловый галстук, отошел от колокола и неторопливо похристосовался с купцом Пенкиным, стоявшим поодаль, – еще неприятнее было, что лицо «маленького Ходунова» было то же, что в конторе: спокойное, вежливое и недостоверное своей открытостью и чересчур внимательными глазами с ненужным, посеревшим сиреневым цветом. «Глаза, как у барышни, – подумал Пажитнев, смотря на Недумова вкось, – а сам волчонок: хитрый – изо рта зубы вынет – не заметишь!.. Не люблю, хрен тебе в спину!» – и отвернулся: стал смотреть на площадь, где мальчишки, возле колокольни, катали яйца. Хотел даже идти с колокольни, но не отдышался еще от звона – и остался, перегнувшись над перилами.
Недумов зазвонил вместе с Пенкиным и несколькими мальчишками. Василий сидел на ящике и вспоминал Николку. «Христос Воскресе!» – произнес он про себя – и ему казалось, что звон вынес это приветствие куда-то на воздух, и помчал далеко-далеко, где был Николка. «А где он теперь?» – подумалось Василью под звон. – Ответа он не нашел; показалось, что знает, где: там же, где этот звон, – легкий, мягкий, сияющий…
Это был тот же – и не тот звон, который только что рождался из-под рук Василия и Пажитнева. Василий прислушался внимательно, – глянул на Пажитнева и заметил, что и тот прислушивается. Раза два Пажитнев оборачивался с площади на колокола – и снова смотрел на площадь. Так и остался, обернувшись на колокола.
– «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя»… – вспомнилось, почти пропелось Василию из пасхального канона.
– Вот! – обрадовался он. – Вот: «исполнишася света». Звон светит – не водой разливается полой, а светит: оттого легкий такой, и вольный… И теплый, – добавил он себе в поясненье. – И отдался весь теплоте и свету. Они его укачали. Он задремал.
– Старею я! – подумал он, очнувшись от дремоты. – К Николе пора. Задержался здесь.
Встал с ящика и поплелся в каморку.
Мальчишки вместе с Хлебопековым прилаживались звонить.
Пажитнев стоял около «маленького Ходунова» и говорил ему тихо и через силу:
– Душу, как маслом, смазывает такой звон. Не знаю, – по правде скажу, – не знаю: хорошо это или плохо для жизненности, для праздничности, – но никто так звонить не умеет. Хрен в спину, – распрекрасно!
– Спасибо! – Недоумов пожал ему руку. – Вам особенное, Гаврила Тимофеич. – Вы понимаете дело.
– Что я понимаю! – осердился рабочий. – наше дело мотки мотать, – и хмуро проворчал, будто на себя: – Раз в год это позволительно!..
– Ну, с этим и я согласен! – рассыпался Недоумов. – Чаще звонить не следует нашему брату: а то музыкантом, пожалуй, сделаешься. – И, попрощавшись, пошел спускаться по лестнице.
Пажитнев смотрел на спину в бежевом новом пальто, исчезавшую в бураве, и проворчал Василью:
– Хитер: изо рта зубы вынет все до одного – не заметишь
– «Простим вся воскресением», – ответил Василий.
– Есть, брат, и нет прощеное, – заметил Пажитнев, – не просто прощать, – проще, пожалуй, совсем со счетов скинуть. Прощай до будущего года: живы будем, приду опять позвоню, побалуюсь.
Пажитнев, кряхтя, пошел к бураву.
В этот день – он показался Василию долгим-долгим, – народ приходил и уходил с колокольни; звонили целый день, как всегда, как при Николке, в давние годы, но Василий заметил что-то новое в приходивших. Но не все звонили, особенно из рабочих. В новых ярких рубахах, в жилетках, с расчесанными, маслящимися волосами, они приходили на колокольню целыми компаниями, но редко кто из них звонил: дергали за веревку колокола, щелкали по металлу, – большинство же, смесившись над перилами пролетов, смотрели вниз, на площадь, или вдаль, за город, лениво перебрасывались словами, щелкали семечки, пробовали даже напевать что-то. Пенье Василий прекращал. Звонили больше дети и подростки. Приметил Василий, что и разговоры у рабочих были не одинаковы: не все шутили и перебрасывались словами. Некоторые кучки, поглядев на Темьян, присаживались в уголке, где не было солнечно, – и толковали о чем-то между собой под звон колоколов – оживленно и долго. Когда к ним подсаживался кто-нибудь сторонний, они замолкали или начинали выплевывать слова, как шелуху из семечек, так же легко и быстро. На звонящих детей и подростков они посматривали с веселым подсмехом, а на взрослых – с явной насмешкой.
Один рабочий из такой группы подошел к Василью и сказал:
– Коняев тебе кланяться велел.
– Где он? – спросил Василий. – Далеко угнали?
– Ранен в пах. Лежит в госпитале в близком тылу. Может, сюда его на поправку пустят. Скажите, пишет Василью, что у поляков колокола не такие, как у нас: язык неподвижен, а колокол о язык стенками бьется, то одной, то другой… Врет, может быть, – ухмыльнулся парень.
– Зачем? Слыхивал я, что так у них, – заметил Василий. – По-басурманскому.
Парень посмотрел на него не без насмешки и сказал:
– Все равно, так ли, этак ли, – одно выходит:
Дилин-дон, дилин-дон,
Загорелся Кошкин дом!
– Оставь, – остановил Василий.
Парень замолчал.
– Так вот: кланяться велел. Прощай покуда.
Парни ушли.
К Василью заходили в каморку те, кто приходил звонить: степенный Пенкин, Гриша, совсем старый и плешивый, Холстомеров, учитель Ханаанский, – все христосовались, но Василий чувствовал себя одиноким и грустным. Запомнил он слова, которыми перекинулись Ханаанский с Хлебопековым:
– Вот-с, комета-то, – сказал Хлебопеков, похристосовавшись с учителем, – помните, при начале войны? Уповательно, что она – была явление – или знамение?
– Конечно, небесное знамение, – ответил Ханаанский, – но отрицать нельзя же…
– Вот то-то и есть, Евлампий Данилыч, – торжественно и строго сказал Хлебопеков, – отрицать нельзя. Знамение – она, а не явление, – и уж сколько этим знамением ознаменовано – уповательно, и счесть нельзя! Хорошего нет ничего и не будет. Светлый праздник, а говорю это: нет и не будет.
– Спорить нельзя, – согласился Ханаанский.
Василий вспомнил золотой песок, сыпавшийся с горящей спичечной головки в черную сентябрьскую ночь. И тут же почему-то вспомнил укромных парней, деловито разговаривающих под колоколами, и «кошкин дом».
Ханаанский о чем-то шепнул на ухо Хлебопекову.
– Это еще полхýда! – отозвался тот громко. – Вот, когда худо придет, тогда, уповательно…
Они вышли из каморки.
В этот день вечером Василий ходил на могилку к Николке.
Но возвращался он оттуда еще одиноче и грустнее…
Тришачиха похристосовалась с ним у ворот кладбища, дала ему большое красное яйцо и сказала:
– Гусиное.
Нагнулась ему над ухом и спросила:
– А слышал ты, Василий Дементьич, что будто студенты, в озор Воскресению Христову, муравьиными яйцами христосуются?
– Врут, чай, – вздохнул Василий. – На наш век и куриных хватит.
– Хватит-то, хватит, – возразила Тришачиха. – Да век-то короток.
Она опять прильнула к уху Василия.
– Я молчу: не такой день – печалить людей не хочу: солнце в нынешнее утро и выглянуло, да не играло. Птица по-воскресному не щебетала. Жиды, как им положено, ниц не лежали. Умаляется Воскресный день, грех наших ради.
И подняла лицо, и улыбнулась Василию:
– Только ангелы Божии по-прежнему, веселыми ногами на воздусех ходили, – всех верных радовали.
Она поклонилась до пояса Василию и сказала торжественно:
– Ныне день Христов – ниже кланяться запрещено, а то бы ниже тебе поклонилась. Прошу тебя: благовествуй звоном повеселей, порадостней, повоскресней – ноне у всех людей лица к земле опущены, – подними их звоном к небу! Христос тебя за это обрадует! – За ангельское хождение!
И еще в пояс поклонилась.
Василий звонил во всю неделю усердно и с молитвою. Пел в душе его покой, – но не было той радости, которая бывала прежде от семидневного целодневного звона.
Людям же был в радость этот звон. Долго его вспоминали впоследствии, когда конец наступил.
Аптекарь Хлопчик несколько раз в эту неделю плакал от звона, задумавшись над белою ступкой со снадобьями. Настя со Слободской признавалась Тришачихе: «Спит младенец под ангельскими стопами». Старик архиерей, живший на покое в подгородном монастыре, не раз тихо промолвил, слыша соборный звон:
– О, божественного! О, любезного! О, сладчайшего твоего гласа!








