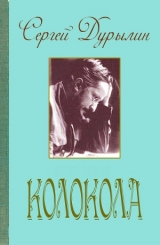
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
6.
Был на Темьянской соборной колокольне колокол «Наполеон». Он был с наполеоновой метой: коронованный «эн» французский с палочкой: N.
Про этот колокол разное говорили в Темьяне. Староверы Заречной слободы, с непорушенными бородами и в непорушенных кафтанах, когда вели прю о вере с православными, всегда прибегали на самый конец крепкое слово:
– Пускай церковь ваша права, да в прáву церковь стáтно ли антихристовым гласом созывать?
– Какой у нас глас антихристов? – возражали православные. – У нас колокольный звон.
– А про Наполеона слыхал? – спрашивал начетчик.
– Слышали. 12-й год.
– Кто он был, по-твоему?
– Француз.
– Антихрист засыльный, вперед выслан, – вот кто он был. Мутить Русь на антихристов сход. Теперь смекай. На колокольне, на соборной, бывал?
– Доводилось.
– Видел его знак на колоколе? «Наш» его, с кочергой внизу? Видел?
– Видел.
– Ну, а видел, так понять можешь: антихристово это клеймо. Колокол им припечатан. Звон у него неверный. Не о Христе Исусе.
Таков был толк у староверов.
Монахини в князевом монастыре иначе объясняли не наш «наш» на колоколе:
– Лит тот колокол, когда Наполеон на Святой Олене в нашу веру обратился. Возсиял ему свет. Поклониться же нашим святыням не может: вокруг него – окиян море, а англичанка корабля не дает. Горько ему стало. «Когда, – тужит, был я у самых святынь Московских, тогда был я нехристь и кощун и святыни не понимал, а ныне хочу поклониться и не могу: заточен на Олене Святой». Написал он письмо Благословенному царю: «Хочу, мол, Ваше Величество, отлить небольшой колокол; так пудов на сто – средства мои на большой не позволяют – и прислать колокол в российскую страну Вашу благословенную: самому мне быть там из-за англичанки невозможно, так пусть хоть он изъясняется, что я в правую веру, одну с Вами, окрещен». Царь Александр Благословенный разрешил. Наполеон отлил колокол, сколько ему средства позволяли, а чтоб знали, от чьего усердия колокол лит, он свой «наш» поставил, какой сам писал: нашего «нáша» он не знает: у него «наш» особый».
Так было дело по сведениям из княжина женского монастыря.
Местный историк-любитель, Ханаанский, Евлампий Данилыч, покопался в архивах и объявил, что наука и в это темное дело внесла свет и одинаково отвергает и антихристов знак, и Наполеоново отлитие на Святой Елене.
Наука говорит, что дело началось с небольшой пушки, отнятой при отступлении Наполеоновой армии в 1812-ом году. Пушку эту привез в свои Вязовки, в подгородную вотчину, безногий генерал-маиор Плаунов 2-ой. Ноги он потерял при отбитии его полком этой пушки.
Пушка долго стояла у него в Вязовках, как трофей. Палили из нее в высокоторжественные дни.
Под конец жизни генерал объявил однажды гостям:
– Хочу пушку в чине повысить! Что ей все на земле стоять – хочу на небеса поднять!
Изумленные гости посматривали на седую голову генерала: нет, в голову не ранен, только ноги одни пострадали.
Генерал же, лежа на диване, громко хохотал:
– В чине повысить. С переменой мундира и титула, разумеется. – (Синие жилы пыжились на его красном лбу.) – С перечислением по другому ведомству.
Гости заключили, что, верно, от ног в голову бросилось, а генерал продолжал:
– Как она бомбой пела, я слыхивал. Вот она, ее музыка. – (Он указал на свои обрубки вместо ног.) – Теперь хочу послушать, как она языком будет болтать.
Тут гости стали один по одному прощаться с генералом: у всех оказался недосуг, помешавший слушать дальше его приятную беседу. Они прощались и уходили один за другим, а генерал им вслед грохотал.
Через некоторое время пушка исчезла из Вязовок, а еще через некоторое время генерал был привезен в карете в Темьян на поднятие нового колокола. Генерал, вынесенный лакеями из кареты на носилках, осмотрел колокол: кусок с инициалами Наполеона был, по его приказу, вырезан из пушки и вплавлен в край колокола. Колокол подняли на соборную колокольню и ударили в него для пробы.
Генерал весело рассмеялся, заслышав его звук.
– Жужжит! – воскликнул он, посматривая на колокольню, будто ожидая, что с нее посыпятся пули, и пояснил, лукаво щурясь: – Перечислен в другое ведомство!
Окружавшие генерала почтительно согласились:
– Перечислен, Ваше Превосходительство.
– С повышением в чине!
– С значительным-с, Ваше Превосходительство.
Генерал весело захохотал и приказал нести себя в свой городской дом, стоявший неподалеку от собора, а всех окружавших пригласил к себе обедать.
Так восшел «Наполеон» на колокольню.
Никто не помнил, как повесили на колокольню «Разгонный».
Это был маленький колоколок, задорный, бойкий, юркий, с голоском забияки-мальчишки. Он зачинал всякий звон. Исстари так повелось. Звонарь, приступая к звону, ударял в «Разгонный» раз и приговаривал:
– Первый звон – чертям разгон!
Ударял два:
– Второй звон – нам.
Ударял три:
– А третий – попам.
Второй и третий звон были еще впереди: в них участвовали все колокола. Первый звон был чертогон. «Разгонный» забияка юрко нырял в каждый незакрещенный уголок на колокольне и бойко учинял чертогон. После чертогона начинался настоящий звон.
Без чертогона ни один настоящий звонарь не начинал звона: известно каждому – где нечистому гибельно, туда он больше всего и сует свою морду. А «Разгонный» по морде: хлест! хлест!
После этого можно начинать соборный благовест: не то нечисть будет тыкаться рылом в колокола и звон глушить, звук поганить.
«Разгонный» всякий раз о крещенье кропили святой водой и ставили на нем мелом крест.
У «Разгонного» на колокольне был дрýжка: «Васин». Он также был отлит для чертогона и освящен особой молитвой. На освящение привозили из дальнего монастыря игумена Филофея: у него была особая молитва на такой колокол; протопопы ставились из людей ученых, но у них такой молитвы не было.
Жил в Темьяне купеческий сын Вася. Он делал только два дела: книги читал и водку пил. Читать книги было тогда в Темьяне дело не обычное: читали только отец протопоп – по духовному своему сану, учителя гимназии и семинарии – по своему ремеслу, и помещик Лоначевский из поляков – по вольнодумству. Фаина Власовна, матушка Васина, со своими домочадцами и родственниками, приложила все усилия отучить Васю от пагубного дела. Книги сжигали и раз, и два, и три – Вася покупал новые. Носили книги, тайком от Васи, к старичку Егору Егорычу, травнику и корéннику, и он накладывал зарок на книгу, чтоб книга сама Васю от себя гнала, но книга не приняла зарок. Видели: Вася три раза перечел книгу с наложенным зароком. Егор Егорыч, хоть и объяснил, что ошибся зароком: не отвратный, а привратный на книгу наложил: оттого ее Вася трижды и прочел, – но и с отвратным зароком дело не поправилось: Вася читал да читал.
Тогда Фаина Власовна возроптала:
– «Пьян, да умен», люди говорят, «два угодья в нем», а «книгой учен – душой помрачен»: хоть бы вином от Васи книгу прогнать – виноградное-то вино в церкви благословляется, а книга где освящается?
По-прежнему осталось у Васи два занятия: прежде было – «читать» и «пить», теперь стало – «пить» и «пить». Году не прошло, – так хорошо утвердилось вино на книжном месте, что стал Вася видеть чёртиков – сначала обыкновенных, черненьких, которых все видят, потом черных с прозеленью, а потом и зеленых. Пока он их простым видкóм видывал и перемигивался с ними, Фаина Власовна терпела, но когда стал он в волосах у себя их искать и на гребень зелененьких вычесывать, тогда Фаине Власовне житья дома не стало. Вместо клопов и тараканов, по всем щелям завелись зелекáны, и под полом не крысы скреблись, а зеленыши с рожками. Тогда знающие люди присоветовали Фаине Власовне учинить большой чертогон, чтоб Васе сплошь не озеленеть. Для сплошного чертогона мало одного голоса человеческого: нужен тут иной голос, который для зелекáни ползучей и для зелененышей подпольных – не голос, а погибель. Научили Фаину Власовну отлить по обету разгонный колокол. А быть тому чертогону о полночь, когда все зелеканы выползают из щелей, а зелененыши вылезают из подполья.
Колокол был отлит. Пришлось просить отца протопопа, чтоб благословил ударить в колокол в неуказанное время, в самую полночь. Протопоп принял дары: малиновый «фай-франсе» на рясу – и благословил звонить, а для избежания соблазну, объявил, что хочет, по духовной некоей потребе, отслужить полунощницу. Ударили в новый колокол, будто к полунощнице, но ударили разгонным ударом, как положено ударять к чертогону: что ни удар, то бесу по морде.
Вася лежал во время звона на постели пьяный и видел во сне, как некий (В Темьяне черное слово не произносилось) переодевался из зеленого в черный мундир, но с теми же эполетами красного золота. Проснувшись по утру, Вася рассказал сон своей матушке. Фаина Власовна сыну ничего не ответила, а на тайном ее совете с понимающими людьми было порешено, что чертогон подействовал: в черном-то некоего и всякий православный человек может увидеть: это от Бога попущено – одним только басурманам некий вовсе не показывается – они и без того у него в кармане сидят. Зеленых же видеть – это уже свыше общего попущения, – а с того подзвонного сна Вася перестал видеть зеленых. С тех пор пошла про Васин колокол слава, что удачлив он на сплошной чертогон. В Темьяне не переводились люди, нуждавшиеся в чертогоне. Все они обращались к протопопу за благословением на чертогон. Протопоп им отвечал:
– Сего не благословляю. Но полунощницу отслужу и, по усердию вашему, будет учинен в ней, по уставу, звон полуночный.
Звон этот и был чертогон. Если в соборе ударяли ó полночь в Васин колокол, все знали: совершается чертогон.
У всех колоколов, кто не лишился языка, как Воеводин, у всех: у Голодая, у Разбойного, у Плакуна, у Княжина, у Наполеона, у Разгонного, у Васина – у каждого был свой голос, но все их голоса покрыл своим гýдом, густым и тяжелым, последний из всех колоколов, взошедших на темьянскую колокольню.
Его звали просто Соборный. На колоколе было обозначено: «2500 пудов 17 фунтов 2 лота». Истово вылиты были на колоколе Спас Нерукотворный, Казанская Богородица, Николай угодник; они сияли точно в золотых ризах: ставь свечу и служи перед ними молебен. По борту шла четкая надпись: «в благополучное царствование благочестивейшаго, самодержавнейшаго государя императора Александра Александровича всея России самодержца, при господине преосвященном Досифее, епископе Темьянском и Полуяровском… иждивением Темьянского I гильдии купца Ивана Ходунова отлит сей колокол на заводе братьев Самгиных в Москве».
Последний темьянский звонарь, Василий Дементьев, не любил эту надпись и когда, в праздничные дни, выпив, шел ударять к вечерне, он недружелюбно посматривал на Соборный:
– Ишь, паспорт какой выправили! И год прописали и звание.
Переведя взор на другие колокола, он весело подмигивал им:
– Эх, вы, беспаспортные!
Это бывало, когда Василий Дементьев был во хмельке, а в иные дни он с гордостью указывал любителям на изрядный вес Соборного: «что твой царь-колокол» – и на то, сколько чистого серебра влито в него братьями Самгиными, и рассказывал его историю.
История была проста.
Темьян был бесфабричный город. Темьянское небо, бледно-голубое и облачное, впервые дохнуло фабричного дыма, когда задымила бумагопрядильня 3-й гильдии купца Ивана Прокопьева Ходунова. Ходунов построил фабрику на пустыре, при въезде в город: пустырь продавался задешево. Фабрика была новое дело для Темьяна. Иван Прокопьевич строился на пустыре, на Разбойной горе, где никто не строится, а боялся не того, что фабрику, как некогда Разбойный двор, стрясет в реку, а того, как бы, растряся на нее свой кошель, не навести бы пустырь на свой карман. Но пустыря не получилось: фабрика бодро задымила, из фабричных ворот стал выезжать воз за возом с миткалем и ситцем – ситец вытеснял славную темьянскую домоткань. Скоро весь пустырь застроился фабричными зданиями. К тому времени, как Иван Прокопьевич переписался в I-ю гильдию, три высоких трубы, как пивные бутылки, подпирали низкое темьянское небо, а пустырь Разбойной горы сделался самым шумным местом в Темьяне. Когда Иван Прокопьевич задумал вывести третью трубу, он вздохнул и молвил: «Без Троицы дом не строится». Он уповал, что его фабрика, хоть не дом, но не без Троицы построена, и, подсчитав барыши за последний год, решил, что пришло время и Троицу поблагодарить. Он съездил в Москву и на заводе братьев Самгиных заказал для собора такой колокол, чтоб самый вес показывал крепость его благодарности за то, что крепко стоят три высоких трубы мануфактуры «Иван Ходунов с сыном».
Когда колокол был поднят на колокольню, на верхний ярус, до того остававшийся пустым, и, как тяжким молотом, ударил по воздуху тугою двухтысячепудовою медью, темьянцы ахнули. Кто снял шапку и перекрестился, кто, не снимая, перекрестился, но все поняли колоколову новую медную речь. Колокол объяснил им «Ивана Ходунова с сыном»: вот откуда взялась сила, пересилившая все другие, царские и не царские колокола на колокольне – от трех этих труб, дымивших на окраине Темьяна. Колокол гудел, а ржавые пивные бутылки подкидывали, не уставая, черные подачки дыма в бледное, нежно-сиреневое весеннее небо.
В этот день сам Иван Прокопьевич, в сюртуке, с большою золотой медалью на неподвижной шее, полученною за колокол, давал архиерею и губернатору обед по случаю поднятия колокола.
Обед затянулся и, когда подали кофе с ликерами, в соборе ударили в новый колокол к вечерне.
Услышав низкий могучий звук, архиерей, в вишневой рясе, поспешно перекрестился матовой худой рукой, а потом промолвил с улыбкой в сторону хозяина:
– Глагол времен, металла звон!
Хозяин почтительно склонил голову:
– Истинно так, Ваше преосвященство.
Предводитель дворянства, высокий худой старик в придворном мундире, известный своей многосемейностью, шепнул губернатору, допивавшему бокал шампанского:
– Насчет «глагола времен» не знаю: я туг на левое ухо, но «металла звон» слышен несомненно, и притом благородного металла, – и еще ближе наклоняясь к губернатору, еще тише прибавил: – которого нам с Вашим превосходительством, признаться, не совсем хватает.
Губернатор засмеялся и опорожнил бокал.
«Соборный» гудел во всю тяжесть своего благородного и неблагородного ходуновского металла.
7.
– У колокола есть душа, – рассуждал любитель старины темьянской Хлебопеков Пафнутий Ильич, и хоть инспектор семинарии, темьянский историк Ханаанский, приходившийся внучатым племянником Чернышевскому, возражал на это, что в последнее время стало сомнительно не только относительно колокола, но даже и относительно человека, есть ли у него душа, – Хлебопеков спокойно отстранял возражение:
– Вольномыслие ваше, Евлампий Данилыч, всем известно еще с той поры, как вы предлагали отцу протоиерею Канардову приделать на колокольне медный шпиц, но речь не о том-с…
– Я предлагал не шпиц, но громоотвод, – прервал Ханаанский, – потому что высота колокольни…
Но сурово остановил его Хлебопеков:
– А отец Канардов полагал, и мы полагаем, уповательно, что крест Христов и звон колокольный отводят громы от колокольни, а громоотводы нужны больше для зданий хоть и высоких (Ханаанский был росту высокого), но с пустым помещением на чердаке.
И, не дав возразить Ханаанскому, продолжал:
– Как у всякого человека есть душа и он тем отличается от животного, так, уповательно, и у колокола есть душа и он тем отличается от всякого другого изделия рук человеческих. Ему одному дано благовествовать. У колокола душа в звоне. Как у каждого человека своя душа, особая, так и у колокола, у каждого, своя душа. Кто понимает, тот слышит.
Ханаанский усиленно ухмылялся в этом месте, и ухмыл его переходил в тонкий язвительный кашель. Но невозмутимо советовал ему Хлебопеков:
– Вам бы полечиться, Евлампий Данилыч. Кашель у вас. Уповательно, вас на чердаке продуло.
Но если б историк Темьяна, Евлампий Данилыч Ханаанский, забыв про душу и про громоотвод, прислушался когда-нибудь к темьянским колоколам, историю которых он знал «по архивным материалам» (впрочем, статья его о темьянских колоколах не была принята редакцией темьянского «Красного грома»), то он, вероятно, согласился бы со стариком Хлебопековым.
Да, у каждого темьянского колокола была своя душа: древняя, погруженная в молчанье, – у Воеводина, скорбно-покорная – у Голодая, покаянно-плачущая у Разбойного. Эти три души были родные, и все три старые, тихнувшие год от году, причастные скорби и молитве, но не суете дней и времен. У Плакуна душа была тревожная и бессонная. Он любил рыдать один на колокольне, когда все другие колокола молчали и в соборе было пусто и темно. Для его звона не было указано часа: он рыдал, когда хотел, днем и ночью, и звал он не в собор, не на молитву, и люди отвечали тревогой и плачем на его плач. Властна и полнозвучна была душа у Княжина. А у Наполеона, его соседа, душа была твердая и жесткая: он никогда не плакал. У «разгонных» были души маленькие, юркие, бойкие: они любили болтать одни, перебивая друг друга. У Соборного на душе было спокойно, как у делового большого человека: он неспешно и просто делал свое дело, зная, что никто лучше и прочнее его не сделает. У других безымянных колоколов были свои особые души: старческие, зрелые, юные, тихие, скорбные, веселые. У каждого был свой «глас звенения», тот самый, который испрашивался каждому колоколу молитвой при его рождении. В одном гласе низко гудела тяжкая могучая медь, в другом сверкало светлое гульливое серебро, в третьем вспыхивали драгоценные звонкие капли золота.
Но, старые и молодые, медные и серебряные, древние и новые, скорбные и веселые, тихие и говорливые, отдельные души колоколов сливались временами в одну великую скорбную душу. Эта душа называлась звон.
Даже та, ушедшая в молчанье, душа, которая отговорила свой век, даже древний Воеводин колокол, молча, звучал молчанием в этой великой общей думе: голос соборного звона колебал его молчащие серебряные стены и они отзывались на него слабым, еле уловимым отзвуком, тихнувшим шепотом седой старины.
В общем великом «гласе звенения» сливались все стальные голоса медных и серебряных душ.
Поток звона широкими гульливыми волнами разливался над Темьяном, переливался за город и, ширясь и слабея, разливался по окрестностям. Мелкими всплесками и беглой серебряной рябью достигая черных молчаливых деревень и лесистых плесов светловодного Темьяна.
В иные дни поток был тих и спокоен в своем стремленье, в другие дни – бурен и стремителен: точно, в иные дни он начинался с тихого лесного водораздела, с невысоких увалов, а в другие – исток его был с вечно-снежных вершин высокого горного кряжа.
Звон окутывал Темьян светлым облаком. Как из недостижимо высокой тучи, лился звон сверкающим дождем над домами и лачугами Темьяна, и играющие на солнце или печальные от вечернего сумрака капли падали на прохожих и оставляли светлый, хоть и мгновенный след свежести и чистоты на их лицах, зачернелых копотью обыденной суеты и повседневной беды.
Да, старик Хлебопеков был прав: громоотвод на соборной колокольне был не нужен:
Туча, поднимавшаяся с колокольни, не палила никого жалящей молнией, она не грозила никому смертью и огнем.
Она стояла над Темьяном белым сияющим облаком небесного звона, и его звуки весенним живительным жданным дождем орошали скудную и горькую ниву темьянского бывания.
Часть 2. Звонари
I.
Первый колокол в Темьяне висел на звоннице, рубленной в лапу из кондовой сосны. На древней иконе преподобного Мартиниана, Темьянского чудотворца – она теперь в Темьянском краевом музее, а была в соборе за правым клиросом, – святой, в иноческом одеянии, изображен в предстоянии перед Спасом в облаке: молит преподобный за Темьян, в лесах коего спасался, а поодаль представлен и сам Темьян: город деревянный, с надолбами, заплотами, башнями и воротами, малый храмец и звонница с одним колоколом.
При Петре I звонницу разобрали и выклали невысокую кирпичную колокольню с огромным шпилем, как у голландских кирок. Воевода Темьянский, один из не оперившихся еще «птенцов гнезда Петрова», приказал на шпице водрузить кораблик, как «эмвелему заморской коммерции, от коей и Российской Империи пользу великую чаять должно», а уж на кораблике, на мачте, прикрепить крест. Преосвященный Темьянский Феофил I отверг этот «прожект», как «с правоверием не согласный». С того дня и пошло недружелюбие между темьянскими городничими и архиереями, продолжавшееся едва ли не до того дня, когда из Темьяна почти одновременно исчезли и архиереи, и губернаторы.
Воевода донес в Санкт-Питербурх, что «архиерей Феофил не любезен учинился к превеликой коммерции российской эмвелеме и оную эмвелему – корабль, Его Величеством одобренную, не в чести показал и отверг с поношением». Однако преосвященный Феофил донос про кораблик обратил себе же в похвалу: он твердо ответствовал, что «эмвелема только некий аспект, подобие дела, являет» и что «самое оное дело аспекту или подобию всегда предпочесть должно, а посему он, отвергнув помещение эмвелического кораблика на шпице колокольни, где положено быть иной эмвелеме – животворящему кресту, самое дело, эмвелемой показуемое, сиречь кораблестроение, отнюдь не отвергает. В доказательство же оного повергает к стопам Его Царского Величества сто червонных на сооружение не эмвелического кораблика, но действительного корабля».
Так Феофил победил воеводу. Крест без кораблика был водружен на высоком шпице темьянской колокольни.
Памятник победы остался на шпице, но самою победою победитель-архиерей не воспользовался. «Птенец гнезда Петрова» его все-таки доклевал, и пришлось Феофилу отправиться на кораблике в отдаленный и бедный монастырек, где и жить «на покое». Покой его был в том, что он пел на клиросе и варил себе уху из окуней, которых сам же и ловил в омутистой Утве.
Колокольня со шпицем дожила до времен «киргиз-кайсацкия царевны». С нее раздался однажды подневольный звон к присяге тому, кто с киргиз-кайсаками шел из степей свести «киргиз-кайсацкую царевну» с всероссийского престола. С этой же колокольни через год раздался новый звон к благодарственному молебну по случаю того, что царевна «киргиз-кайсацкие орды» осталась на всероссийском престоле, а некоторые сторонники того, кто ее пытался с него свести, висели на виселицах на соборной площади.
Пережила колокольня и страшный темьянский пожар, что случился между Пугачом и французом, при городничем Вальберхе и при протопопе Донате. Властный Донат порешил, что старый суровый петровский шпиц уже не подходит к нежно-голубому мягкому небу Александровской России, благодетельствуемой внуком «киргиз-кайсацкие царевны», и с благословения архиерея Никодима решил колокольню разобрать, а построить новую. Городничий Вальберх был этим опечален: голландский шпиц был дорог его старо-немецкому сердцу и напоминал любезные ему шпицы кирок von Lifland und Kurland. Он пытался было представить протопопу тот резон, что все, построенное во времена великого императора, преобразователя и благодетеля России, должно быть неприкосновенно. Но протопоп на это заметил:
– Хотите ли вы сказать сим, глубокочтимый мною Богдан Богданович, что мы живем не при преобразователе и благодетеле? – и внимательно посмотрел на городничего.
– Отнюдь, – торопливо отмахнулся от такого предположения Вальберх.
– А ежели «отнюдь», то отнюдь не следует нам быть неблагодарными к ныне нас благодеющему и преобразующему. Вот в благодарение за сие новые благодеяния и преобразования и предполагается сие новое сооружение.
Вальберху нечего было возразить на столько неожиданно, хотя и изустно, предъявленную ему решительную бумагу, к которой протопоп не замедлил приложить и изустную же печать, сказав:
– Сие и благословено преосвященным владыкою Никодимом.
Донат снял колокола с колокольни, повесил их на временной звоннице, а сам стал разрушать колокольню со шпилем.
Вальберх, дабы развеселить свое сердце, с грустью переносившее крушение голландского шпиля, задумал также стройку: он порешил построить, насупротив собора, новую каланчу.
Каменщиков в Темьяне было мало: в Темьяне строились из дерева, и пошла борьба: то протопоп переманит каменщиков на свою стройку, то Вальберх – на свою. Протопоп Донат грозил переходившим каменщикам: «на церковь работать – дело достоверное: если не в этой, то в будущей жизни награда обеспечена, а у немца трудиться – дело неверное: колокольня – Богу, а каланча не Богу нужна, а…» Протопоп не договаривал, кому нужна каланча, но грозно колебал своим указательным перстом перед каменщиками. Городничий грозил перебежчикам иначе: «Паспортов не дам! Засажу! Выпорю!»
Стройка у городничего шла быстрее, чем у протопопа: каланча была окончена, когда у колокольни еще только первый ярус поднялся. Вальберх озаботился сделать у каланчи шпиль с рогаткой как можно выше. Когда шпиль вонзился в серое темьянское небо и солдат стал кружить по каланче, высматривая пожар, Вальберх был утешен: проколол-таки он темьянское добродушное небо острою голландскою иглой.
Протопоп, ходя по своей стройке, которая еще невысоко поднялась от земли, озирал с презрительным поднятием бровей «шагомерню» часового на высокой каланче. Указывая на бдительного стража своему неизменному собеседнику, дьячку Уару, он неизменно приговаривал:
– Аще не Господь созиждет град, всуе бдит стрегúй, – и еще сожалительнее поглядывал на суетное бденье на каланче зябнущнго на ветру «стрегúя».
Колокольня зиждилась медленно, но основательно. Никто не знал, во сколько ярусов замыслил ее протопоп.
Престарелый Вальберх умер, утешаясь, что он умрет, а голландская игла не затупится.
На смену Вальберху прибыл в Темьян новый городничий. Толстопятов, из аракчеевских ранних слётышей. Он обозрел город, взлез на каланчу, собственноручно заушил на ней задремавшего стрегúя, оглянул вóроновым оком Темьян и заметил сподвижнику, сопровождавшему его на каланчу:
– Порядка не вижу.
Порядка, действительно, не было: птицы летели над городом в беспорядке; дым из труб, несмотря на былые Вальберховы приказы, не признавал никакого порядка: шел и толстый, и тонкий, валил и клубами, и хлопьями, и даже грязной метлой шел по небу; облака вразброд бороздили небо; по улицам возы ехали, прохожие шли все куда попало: один – вправо, другой – влево, а весело выходившие из особых зданий люди шли сразу и вправо, и влево, и прямо, и назад, и на ногах, и ползком. Порядку не было нигде.
Глянул слеток поближе к каланче и опять не увидал порядка: звонили к вечерне с деревянной звонницы, а недостроенная колокольня высилась огромной беспорядочной кучей кирпича и бревен. Угрюмый слез с каланчи аракчеевец и, посетив протопопа Доната, осведомился, указывая на колокольню:
– Когда предвидится окончание оного здания?
Донат, уже ветхий денми, но не разумением и словом, отвечал:
– Оное здание есть колокольня. Конца же ей пока не предвидится.
– Почему? – отрезал городничий.
– Потому, – отвечал протопоп, – что она высоты еще недостаточной.
– Разве достигнутая высота, – городничий указал рукой на высокие ярусы колокольни, – недостаточна еще для цели, для коей предназначено оное здание?
– Недостаточна, – твердо отклонил протопоп. – Ибо для сей цели недостаточна никакая высота, потому что цель сия – славить Высочайшую Высотý Высóт.
Городничий покраснел и, помолчав, сказал:
– А я полагал целью – повесить колокола и звонить.
Протопоп ответил легким наклонением седовласой главы:
– Сие то же, но сказанное языком повседневного речения, с применением смысла к разуму простецов.
Городничий встал и щелкнул шпорами:
– Честь имею кланяться.
Протопоп отвечал:
– Взаимно имею честь благодарить за посещение.
Протопоп Донат продолжал медленно вести постройку. Через полгода он получил письменный вопрос от городничего:
– Когда будет закончена постройка возводимого им здания, ибо вид беспорядка, производимого оною постройкою на главнейшей площади города Темьяна, далее не может быть терпимым начальством сего города?
Протопоп отвечал на листке бумаги:
– Когда высота строимого будет найдена достаточною.
И продолжал строить.
Когда возведен был третий ярус, колокольня сравнялась высотой с каланчою.
Городничий вновь «вопросил протопопа», как сказано в темьянской соборной летописи, «признает ли он достигнутую высоту довольной для завершения всего здания?» Протопоп Донат, уже склонявшийся к концу дней, отвечал городничему со смирением, что завершение строения, как и все на свете, как и самая жизнь городничего и его самого, недостойного протопопа Доната, находится всецело в воле Божией. А кто дерзнет утверждать, что ему ведома воля Божия?
Протопоп говорил это городничему, лежа больной, с горчичниками у поясницы, и повторил, вздохнув:
– Все в воле Божией.
Городничий ничего не ответил, хлопнул дверью и вышел из протопопова дома с красным лицом.
Протопоп, вынув из-под подушки деньги и тщательно их пересчитав, позвал подрядчика и велел завтра же приступать к закладке четвертого яруса. Он помышлял и о пятом с часами. Над пятым должен был воссиять российский купол золотой толстой луковицей, а не испитой тощий голландский шпиль.
Протопоп закрывал глаза и видел уже, как золотой крест, водруженный на слепительно-золотой луковице, как жар, горит над Темьяном.
Но надеждам его не суждено было сбыться. К нему опять явился городничий, но в горницу не вошел, а остановился на пороге и, погрозив огромным пальцем, произнес «гласом неподобным» (см. «Соборную летопись»):
– Прекрати, протопоп!
– Не прекращу! – возвысил слабеющий голос протопоп, приподнимаясь с постели. – Пою Богу моему, дóндеже есмь.
– Пой, а строить прекрати! – рыкнул городничий на протопопа. – Не колокольню строишь, а свою гордыню вавилонскую. Хочешь возвыситься над законною властью.
(Себя ли разумел городничий под этой властью или каланчу, поруганную возрастающею в своей высоте колокольнею, – это осталось неизвестным: «Соборная летопись», мой главный источник для данной главы, об этом умалчивает.)
– Строю Господу Высот и Царю Царей, – воскликнул протопоп, подняв руку и указуя ею на угол с образами. – Не тебе судить, квартальный.
Городничий показал протопопу кулак в белой замшевой перчатке и удалился.
Больше он не являлся к протопопу. Он только призвал к себе подрядчика и сказал, что скрутит его не в один, а в два бараньих рога, а бычьим перекрутит, если он сейчас же не снимет всех рабочих с протопоповой стройки.
Наутро протопопу донесли, что каменщики все до одного исчезли со стройки. Сколько протопоп ни звал к себе подрядчика, он всегда оказывался в нéтях. На треть выведенный четвертый ярус сиротливо протягивал к небу свои недовершенные столпы.








