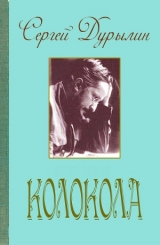
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
2.
Коняева привезли в Темьян с партией раненых в молчаливый бурый сентябрьский день. На вокзале раненых встретило только лазаретное начальство. Коняев попал в лазарет к Демертше. Он просился домой, ему обещали, но было сказано, что сделать это сразу нельзя. Военное начальство боялось расползания раненых по частным домам; бывали случаи, что раненые, поправившись, расползались оттуда дальше – и уползали совсем с воинского учета.
Постаревшая Демертша, через час после приезда раненых, пришла к Коняеву, присела около его постели и, после расспросов о здоровье, о ране, сказала с хмурой улыбкой:
– Сколько книг вас дожидается, Коняев!
– А как я их дожидался, Анна Осиповна! – ответил он весело.
– Ну, вот и отлично! Счастье, что рука у вас не ранена. Вы можете работать...
Она принесла ему несколько книг, и он с жадностью принялся читать.
Усикова, проходившая по палате, протянула руку и вытянула одну из стопочки книг, лежавшей на столике Коняева.
– «Владимир Соловьев. Три разговора» – прочла она вслух, – и сунула книгу обратно в стопочку.
– Об Антихристе читаешь, – сказала она усмешливо. – Ты будешь номер 2-й в Темьяне. 1-ый нумер – Испуганная: она на весь город об Антихристе читает.
– Я всё читаю, – промолвил Коняев.
– Всё – не нужно, – ответила Усикова, остановившись около его постели. Она откинула верблюжье одеяло с его ног, – и нагнулась над его повязкой. Он ранен был в пах. – Все – не нужно, – повторила она, большими, мужскими руками ловко и быстро сматывая бинт с тела, – нужно только то, чтоб не смели делать вот это, – она провела пальцем над раной.
Коняев закрыл на минуту глаза от боли. Не открывая, он сказал тихо, – с трудом отрывая слова, как листья от какого-то прочного стебля, ушедшего крепко в землю:
– Чтобы это не делали люди, нужно им знать всё... И о них – всё.
– Делают это не люди, – ответила Усикова, возясь с бинтами и ксероформом, – а... ну, что там говорить? Ты же знаешь, кто... – оборвала она с досадой. – Тебе еще придется полежать. Домой тебя пустить так нельзя...
Вечером того же, первого, дня к Коняеву пришли мать с Уткиным, который известил ее о приезде раненых.
Коняев, увидев в дверях мать, поспешил предупредить ее, – голос у него срывался от радости и волнения:
– Нога цела... Плакать не надо. Я буду скоро здоров.
Но тогда-то она и заплакала. «Цела!» – воскликнуло внутри нее – и это был мгновенный ужас радости: «цела... значит, могло-то бы быть, могло бы быть... не цела... без ноги» – и она заплакала тихими, накопленными задолго слезами. Отерла лицо фартуком, бросилась к сыну, целовала ему лоб и щеки долго и неотрывно.
– Будет, мама! – сказал Коняев, покоряясь ее ласке.
Он отвел ее лицо руками, поглядел на нее пристально.
– Постарела! – и перевел глаза на себя. – Ну, да и я теперь старичок... Полеживаю вот...
Тут подошел к нему Уткин. Он принес в газетном пакетике винограду.
Коняев протянул руку из-за одеяла, потончавшую, побелевшую, ставшую за болезнь не рабочей, – нежной и как будто уменьшившейся.
– Как живешь? – спросил он Уткина, улыбаясь.
– Фавст, Фауст жив, а Мефистофелю и умирать не положено... – усмехнулся Уткин, но нерадостно. Наклонился над Коняевым, хотел поцеловать его, – но вместо этого пожал ему еще раз руку... И задержал ее в своей, дрожащей. – А живу, – нет, не хорошо живу. Тоскую я, как попадья, к которой нигилист пошел в зятья...
– Кто ж пошел к тебе в зятья? – тихо пошутил Коняев.
Вступила и мать Коняева:
– В зятья – слышу... Дочку выдаете, Сергей Никифорыч?
– На выданье, на выданье, Мария Ивановна.
Он придвинул табуретку к самой постели и указал на нее матери Коняева:
– Говорите. Я номер 2-ой. Да и наговоримся еще.
Смеркалось. Раненые соседи Коняева дремали. Марья Ивановна передавала сыну несложную повесть о своей тесноте и трудноте. Вдруг она остановилась, оглянулась внимательно вокруг себя и шепнула сыну:
– Коростелева-то, слышал ли? – угнали... В Сибирь, говорят.
– Слышал, – ответил Коняев... погладил ее руку: – Про себя говори...
В палате сгустилась в углах темь. Уткин стоял у окна и барабанил тихонько пальцами по стеклу. За стеной тяжело прошагал кто-то и свалил дрова к печке, на пол. Опять стало тихо. Мать рассказывала что-то Коняеву мерным, неторопливым голосом.
Вдруг гýдкий, полнозвучный удар колокола прорезал широко сентябрьскую хмурь и сонь. Кто-то из раненых проснулся – и прошептал со вздохом:
– Праздник завтра... Покров – что ли...
Второй, третий, четвертый удары еще шире прорезали темь, проведя в нее какую-то светлую, крепкую, прямую, непроезженную, поднимавшуюся ввысь...
Мать Коняева перекрестилась и продолжала свой будничный сказ... Коняев провел рукой по ее лбу и сказал:
– Погоди, мать.
Он слушал звон.
Уткин отошел от окна и присел к Коняеву на кровать.
Дорога, пролагаемая звоном, все ширилась, ширилась – и, светлея, выводила на какой-то простор... Когда открылся этот простор, дорога была уже не нужна, и звон смолк. Молчали в темноте. Было жутко оттого, что было неизвестно, сколько человек молчит: трое – или и те, кто спали и кто проснулся от звона. Тихая хмурь заполняла комнату и залепила окно серым пластырем осеннего вечера.
Коняев тронул рукой мать:
– Мятно у вас живут, мать. С холодком. Не люблю мяты. Ну, прощай, мать. Уж поздно. Пора тебе. Приходи. Ну, пока.
Он пригнул к себе наклонившееся лицо и поцеловал.
Коняева отошла от кровати. Уткин сказал:
– Прощай, Фауст.
– Прощай. Ты приходи. Что ж ты мне не ответил на телеграмму из Минска?
– Не признаю телеграмм. Телеграмму я пришлю только с полустанка «Геенна Огненная», и телеграмма будет всего в одно слово: «тепленько»
Он отошел на шаг и вернулся:
– Между прочим, у меня опять умножение рядов пролетариата.
И пошел догонять мать Коняева.
Усикова вошла в палату.
Демертша заходила к Коняеву обменять ему книги. О войне, о ране, о его личной жизни она избегала говорить. Но однажды она спросила его:
– Вы – воскресший Лазарь. Что же вы, мой друг, думаете делать, когда выздоровеете?
– Работать, – отвечал Коняев.
– Работают те, кто не спускались в преисподняя, друг мой, – а кто был там и воскрес, – те... – Она не договорила и улыбнулась. – Впрочем, у вас есть кое-что, избежавшее Гуттенбергова изобретения... С ним будете возиться?
Она пошевелила губами, как будто пережевывала что-то твердое и невкусное.
– Да, с ним, – твердо ответил Коняев.
– А знаете, Коняев, – она говорила тихо, – что есть и другие тетрадки, которые избегают Гуттенберга? – О, совсем другие!..
Она протянула ему маленькую тетрадку из синеватой грубой бумаги, исписанную полууставом, с красными киноварными заглавиями и начальными буквами.
– Посмотрите, мой друг... Это тоже не Гуттенберг.
Коняев развернул тетрадку, – и прочел:
«Аще который человек поверует сему, приложатся ему лета живота. Аще, который человек не поверует и возглумится, оный аду всесмехливому предан будет..».
– Чему поверует? – спросил Коняев.
– А вот, посмотрите... Страница 5-ая.
Демертша раскрыла ему тетрадь.
– «Ангел Божий» пешеходствует, Антихрист же окаянный в безконных колесницах ристает. Ангел Божий нищ, оный же противник изобилует. Ангел Божий Богом вразумлен и научен, оный же обезумен книгами многими и писаньями неисчетными. Ангел Божий – Божиими словесы глаголет, оный же пес – многими наречьями человеческими, Ангел Божий – тайн Божиих ведатель, оный же прегордый – книгочтец дерзновенный. Ангел Божий и нищету приемлет, как богатство, оный – завистник – небесное богатство расточив, земному обилию ревнует и на обладающих злобною завистью пылает»…
– От кого это у вас? – спросил Коняев, отдавая тетрадку.
– Не интересно, от кого, а важно, чтó. Подумайте. Все, чего добиваются в ваших не-гуттенберговских тетрадках, все здесь отметается, как Антихристово…
– Кем отметается, Анна Осиповна? – сказал Коняев. – Попами!
– Тише говорите, – наклонилась она над ним. – Я с попами не имею никакого дела. Я же лютеранка. Нет, отметается теми, кто могли бы позавидовать… теми, – поправила она себя, – для кого предназначены ваши тетради. Я получила это через одну женщину, ее зовут Тришачиха… Она достала это у одной девушки с фабрики. Ее зовут так же чудно, как вас… Вы – Фауст, а она…
– Фигушка?
– Вот-вот… Отвратительная привычка русских давать глупые прозвища.
– Она ненормальная, – сказал Коняев.
– Человеческая норма – икс, под которой подставляют все, что угодно… Это, – Демертша щелкнула пальцем по тетрадке, – это читают девушки на фабрике…
– Несознательные.
– Одна из них у меня была. Она отлично умеет шить. Я говорила все, что есть в ваших тетрадях. Я уверена: вы бы меня похвалили – я стала на ваше место. И знаете, что она мне ответила на это: «Что уж тут делать, барыня, когда меч и над правыми, и над виноватыми занесен?» – «Какой меч?» – я спросила. «Архангелов, – отвечает, – из Божьей руки». Вот как они воспринимают войну, нищету и все прочее, о чем есть в ваших тетрадках.
Коняев хотел ей что-то ответить, но она, забыв о нем, начала думать вслух:
– Я выросла в России, но русских я не понимаю. Где в другом месте и у кого могли бы еще столкнуться два не-Гуттенберга, несоединимые, как лед и огонь? А тут в одном месте, у одних и тех же людей…
Демертша нагнулась опять к Коняеву:
– Они ведь и ваши тетрадки читали. Они все знают, что там есть. Они не сознательные? Нет, тут что-то другое… Тут русский удел. Вы тянете в одну сторону, они – в другую, те… – Она нахмурилась: лицо ее стало обиженным, с брезгливой усмешкой, – те, кто шлют вас туда, – она указала рукой в окно, а потом на кровать, – а оттуда – сюда, те тянут в третью сторону… И узел только затягивается туже. Несчастная страна!
Она сунула Коняеву тонкую, вялую руку – и вышла.
Через три недели было разрешено перевезти Коняева домой.
Он мог уже, опираясь на палку, немного двигаться по комнате. Рабочие с фабрики приходили его навещать и рассказывали ему свои новости. Фабрика работала во весь мах, но есть недохватки в хлопке, в топливе, в продуктах. Коростелев в Сибири; от Павлова нет известий. Туськин жив и пишет с войны письма, в которых сообщает: «Приеду и налажу производство». Уткин пьет, и назначен к увольнению при первом подходящем случае. Пажитнев бил тайно «маленького Ходунова» за то, что переносит из нижнего этажа в верхний, но тот не жаловался, и дело сошло.
Коняев слушал, задавал вопросы и, когда выслушал про «маленького Ходунова», спросил:
– Небось, лягавых у вас не мало развелось?
– Есть. Бегают, хвост поджав, из нижнего этажа в верхний: лают там на нашего брата потихоньку…
– А вы поосторожней бы, ребята…
– Осторожны и так. Разговаривать, что поважней, в другое место ходим, – объяснял ему Фадеев, крепкий парень в кожаной куртке.
– Куда же в другое?
– На колокольню! – засмеялся Фадеев. – Под звон колоколов.
– Хоть в сто ушей слушай, ничего не услышишь…
Коняев засмеялся.
– А Василий-звонарь не гонит?
– Чего ему гнать? Пришли звонить. Мало ли там народу бывает? Ну, и мы… Мы не долго ведь. Заседаний не открываем. Мы без председателя.
– Отзвонил – и с колокольни долой, – поддержал Фадеева другой парень, с маленькой медной серьгой в левом ухе.
Коняев полюбовался на него: румяный, свежий, точно тес сосновый.
– Ты бы серьгу-то снял, Костя, – заметил ему Коняев. – Ну, что ты с серьгой?
– А это я ее с тех пор, когда в Темьяне топ, повесил, чтобы не забыть. Пьяный был. Не пить чтобы.
– Что ж, не пьешь?
– Пью! – виновато улыбнулся розовый тесовый парень. Все расхохотались.
– Ну, носи на здоровье! – сказал Коняев и обернулся к рабочим. – Так вот, товарищи, поосторожнее. Спешить нам пока некуда. Дело наше не медведь, в лес не уйдет, а и захочет уйти, так поймаем. Коростелеву посылает кто?
– Анка его, Мутовка, посылает, – сказал Фадеев.
– Анка, а вы?
– Нет.
– Надо посылать.
– Туг народ.
Коняев улыбнулся.
– Туг, – растрясти нужно.
Пошлем.
Навещали Коняева и из города.
Пришла Тришачиха, принесла пирог с капустой и спросила с порога:
– Ну, молодец, цела твоя голова на плечах?
– Цела, – весело ответил Коняев.
– А руками владáешь?
– Владаю.
– Ну, три четверти человека в тебе есть: без остального и обойтись можно.
– Все есть.
Засмеялся Коняев.
– А все-таки Бога благодари. Значит, полную цену за тебя можно взять, а я уж хотела было в дешевые товары тебя пустить.
– Он у меня не продажный, – вступилась мать Коняева, Мария Ивановна.
– Продажных-то покупатели делают, – отозвалась Тришачиха.
– Много ль их у тебя?
– Да есть-таки, – лукаво усмехнулся Коняев.
– Мать, помолчи, – сказал Коняев и обернулся к Тришачихе:
– Ты писанные книги даешь читать Демертше?
– Даю. А что? Разве нельзя?
– Чепуха, а не книги. Помолчи-ка ты, весь! Не твоего ума это дело.
– Чьего ж?
– Ум умов есть, милый.
– Где ж он?
– А вот, где! Слушай!..
Давно доносился вечерний звон в комнату.
Коняеву не захотелось спорить. Он спросил про Василия.
– Стареет ведь, стареет. К тебе собирался. Редко он с колокольни сходит. Да вот ты что скажи: батюшковы сапоги шить перестал! Ведь все духовенство ему отдавало шить сапоги, а теперь не берет. «Шил я, говорит, на обутых всю жизнь, теперь, говорит, хочу на разутых пошить!»
– Ловко!
– Не ловко: архиерею отказал. Просил протопоп-то: «Ну, говорит, нам не шей: Бог с тобой, но святителю отказать не можешь!» А тот, Василий-то: «Святитель, говорит, меня понять должен: на босых шить – и в Евангелии указуется». – «Нет, – говорит протопоп, – там этого»… А он стоит на своем: «Есть!» – «Коли есть, покажи, говорит, в каком месте». – «Не в месте, отвечает, – а во всей совокупности!» Махнул рукой на него протопоп: «Ты, говорит, супротивник».
– Ловко!
– Шьет-то он, верно, ловко: вот какие боты мне сшил…
Тришачиха протянула ногу в новых башмаках.
– Так ты, Глебовна, разве в босых? – пошутил Коняев.
– А как же. Я босая. Ничего у меня нет на мне. Все людское, не мое. Босая.
Она пила у Коняевых чай и ушла, шепнув Фавсту на ухо:
– Молилась я за тебя, за безбожника. Ты, как там себя не чéркай, ты в Божий счет вписан.
– Вычеркнула бы ты меня, – шепнул ей Фавст.
– Я не счетовод. Не мое дело! – отшепнула в ответ Тришачиха – и ушла.
На другой день заходил проведать Коняева Василий.
Он расспрашивал Фавста о здоровье, о войне, – и спросил о чужедальном звоне.
– Нет, не хорошо там, отвечал Коняев. – Зазвонят: не пчела золотая вольным рóем гудит, а будто – шмель жужжит, – в комнату залетел и об стенки бьется – ударится и жужжит со злости, жужмя жужжит. Приехал на родину. Слышу – наши другое, совсем другое…
Василий улыбнулся невеселою улыбкою.
– А говорят: в Бога ты не веришь…
– Не верю, – серьезно и твердо ответил Коняев.
– Так как же в Бога не веришь, – а звон христианский любишь? Чудно что-то!
– Люблю. Я радость люблю. Я слышу звон – и радуюсь. Звон – это к облакам, к ветру, к солнцу, к звездам прибавление. Они сверху, с неба, человека радуют, а человек прибавил к ним радость: зазвонил в колокол. Я лежал больной – и слушал. А! – слышу! – звонят, – и радуюсь. Думаю: живой буду, должен быть, – колокола меня еще радуют… Мертвому ничто не радостно. Замечал я: и птица колокольный звон понимает: зазвонят – она щебечет радостней, поет – ликует, точно в звон влететь песней хочет…
– Чудной ты! – повторил Василий. – Приходи, как встанешь: позвони…
– Нога у меня, – покосился на одеяло Коняев, и, улучив минуту, чтоб мать не слыхала, шепнул Василью. – Охромею я немного! Звонить не долезу. Высоко. А вот слушаю отсюда – и радуюсь…
– Чему ж ты радуешься? – спросил Василий, берясь за шапку – ведь звон к Богу зовет. А у тебя – поверить тебе – Бога нет.
– Чему? Радости радуюсь.
Коняев улыбнулся широкой, светлой улыбкой. Глаза его сделались нежны и чисты, как у задумавшегося отрока. Василий посмотрел на него зорко и, словно порешив что-то про себя, произнес тихо:
– Ну, и радуйся, чему радуешься. Кто вас разберет? Бог с тобой! Прощай.
3.
В декабре ударили сильные морозы. В городе стояли у лавок длинные очереди за хлебом, мясом, сахаром. Жгли костры, прыгали вокруг них, а перезябшие мальчишки скакали через огонь, как в Иванову ночь.
Стоя в очереди с плетеной сумкой, старинщик Хлебопеков говорит учителю Ханаанскому:
– Это языческое сигáнье через огонь не внушает доброго.
Ежась от холода в ватном пальто, Ханаанский отзывался зябнущим голосом:
– Вот увидите, когда мы подойдем к прилавку, хлеб весь разберут…
Хлебопеков молча кивал головой и продолжал:
– В старое время, еще на моей памяти, все было лучше: мука была так дешева, что свиньям можно было печь пироги с капустой. Уповательно, варенье варивали пудами, и, благодаря дешевизне сахара и меда, хозяйки делали опыты: изобретали новые сорта. Помню, Анна Климовна Петухова, варила огурцы на меду, а однажды попробовала лук на меду, но получилось отвратительно: скормили свиньям. Все было в старину лучше, уповательно, одни нужники были хуже: в отдельных кибитчóнках, на юру, на морозе, но люди были здоровее, и пользовались без последствий. Морозы же тогда были сильнее нынешних: домашняя птица на лету мерзла.
– Черт бы побрал эти морозы! – отзывался из-под воротника Ханаанский. – Вы увидите: фигу мы получим!
– Фига – плод съедобный, Евлампий Данилыч, – отвечал Хлебопеков, – ни вы, ни я, уповательно, мы не отказались бы попить чай с фигами. Что фига, что маслина – плод евангельский: давно замечено, кто не ест маслин, тот не православный. Маслина – благочестивая еда: из нее масло деревянное делают и апостолы ее вкушали. Но, уповательно, нам ни маслин, ни фиг в кооперативе не дадут…
– Бросьте вы про маслины! – с досадой крикнул Ханаанский и выставил нос из воротника: – Черт ли в ваших маслинах!
– Его в них столько же, Евлампий Данилыч, сколько в ваших фигах, – обидчиво заметил Хлебопеков. – А хлеба-с, уповательно, вам не дадут-с!
– И вам, я думаю…
– И мне-с, но я, по очереди стою впереди вас…
– Ну, и стойте…. А я озяб, и идиотство это – стояние это Марие-египетское – продолжать не намерен.
Ханаанский выбрался из очереди и побрел домой.
На Святках морозы сменились метелями.
Точно белое чудовище опоясало Темьян крепким кольцом и, воя от злобы, не пропускало в город поезда с хлебом. Метели вопили день и ночь, в течение трех недель.
Хлебопеков, в огромных, крашеных валенках, выходил на крыльцо, прислушивался к вою и воплю, несущемуся из белой смуты и мути, обступившей Темьян со всех сторон, и замечал про себя:
– Таких не запомню!
Он открывал огромный «Памятник веры», где на вкладных листах записывал происшествия, листовал, – и сомнительно качал головой:
– Не запомню!
Несмотря на нелюбовь свою к ветхому расстриге Геликонскому, он велел заложить сани и съездил к нему узнать, «бывалое ли дело такие метели в Темьяне?» Расстрига мастерил железную печку и, не отрываясь от работы, сообщил ему, что не запомнит таких метелей, и от отца про такие не слыхивал. Что была, по дедову преданью, в двенадцатом году такая метель, но она была как бы специальная метель, «на француза», и русских не морозила, а только французов.
Это успокоило Хлебопекова: память, значит, не изменила ему. Он успокоился, но ненадолго. По дороге от расстриги – он не остался у него ни чаю попить, не перекусить: «расстригин хлеб аппетит отстригает» и идет во вред душе и телу, – по дороге, сидючи в санях, Хлебопеков внезапно вопросил себя:
– Та метель – на француза была, а эта на кого же?
Он долго, до самого дома, раздумывал, и порешил, наконец, – «на немца!»
Но тут же и усомнился:
– Немцев у нас в Темьяне нет: что и были, уповательно, их из города выселили. Хлеба нет в городе, и подвозу из-за метели нет. Не на российских ли? – ужаснулся Хлебопеков.
Но, сидя за чаем, успокоил себя теплом, свежей булкой, малиновым вареньем, предохраняющим от озноба, и порешил безотменно:
– На немца!
За тем же, за чем приезжал к расстриге Хлебопеков, приплелась к нему и Тришачиха Испуганная, не одна, а с Фигушкой: боялась одна идти – ветер бы не сшиб: «Сшибет – я со снегу не встану: я не вставучая; снегом занесет – оледенею!»
Они принесли распопу кусок пирожка с капустой; пирожок оказался мерзлый. Очень не хотелось Испушанной идти к расстриге: «от благодати, хоть волосок, да отстрижет», – да он был всем ведомый старожил в городе, а надо было ей точно узнать: «в быль или в небыль такое мéлево снежное?» Так прямо и спросила Испуганная расстригу:
– «Скажи, Серафим Иваныч, в быт или небыт такая заваруха снежастая и бывало-ль, чтоб весь январь был сплошь снежмяный?»
Расстрига ей ответил, как Хлебопекову:
– Я не помню, отцы не запомнили, а деды передали, будто на француза была зима такая же снежáчиха.
– Так то на француза! – протянул Тришачиха. – Где же теперь француз? Эта-то снежень на кого же?
Развел руками расстрига:
– Бог знает!
– Он-то знает, – согласилась Испуганная, – знает… – повторила она и вздохнула; приняла мысль: узнать, на кого поднята страшная снежмянь?
Она поклонилась распопу, поблагодарила и побрела с Фигушкой домой по улицам, дымившимся от метели. Дома велела девушке ставить самовар, а сама, затворившись, положила поклон пред иконами, стоя на коленях, раскрыла Авессаломову книгу:
«…И видех, и се конь бел, и седяй на нем имеяше лук; и дан бысть ему венец, и изыде побеждаяй, и да победит…» – открылось ей.
Она глянула в окно – и в вихре шипящей метели, снежастый, буйный, быстрый, пронесся Конь белый, и белые, блестящие стрелы сыпались направо и налево, прямо и сзади с тетивы его лука. Пронесся – и все завыло, застонало ему вслед от боли, нанесенной его белыми стрелами.
– Победит! Победит! – закричала ему вслед Испуганная и пала на пол.
Фигушка прибежала на ее крик. Долго брызгала на нее водой, прежде чем она пришла в чувство.
На расспросы девушки, плакавшей от испуга и жалости, Испуганная ничего не отвечала. Она не смотрела на окно, в которое увидела Белого всадника, закрыла тихо и спокойно Авессаломову книгу, накрыла ее полотняным покровом, села за самовар, угощала перепуганную девушку, но на расспросы ее ответила только:
– Голова закружилась. Старею я, дура грешная.
– Матушка, благая твоя дурь-то! – не поверила ей девушка, но строго остановила ее Испуганная:
– А ты молчи. Это вы меня все умнúте-то, а я дурей вас всех. Кушай-ко ты лучше чай с рябиновым вареньем. Любимое мое оно.
По уходе девушки, Тришачиха заперла дверь, зажгла крещенскую свечу перед иконами и стала молиться. Она молилась долго и неотрывно. Белый всадник опять промчался за окном, на белом коне, мечá белые стрелы, – и опять все завыло на его пути, – но Тришачиха не пала на землю, как в первый раз. Смотря на темный, облупившийся лик Спаса, она шептала:
– Побеждая, не победит!
– Не победит! – подтвердил ей удар Плакуна с колокольни, и другой, и третий, подтверждали тоже твердыми, исповедническими, прекрасными голосами:
– Не победит! не победит!..
Это Василий бил во вьюжный колокол. А ей уже не слышно стало страдального воя и покорного стона на белом Всадниковом пути.
Но она узнала, на кого идет снежмянь, не виданная с француза: она идет – на весь город, на всю русскую землю, и скоро, скоро всадник пересядет на другого коня, огненного, и лук заменит мечом…
Она прислушивалась к звону, – твердому, непрестанному, узывному, – и прошептала:
– «Помяни, Господи, раба Василия во здравие!»
Ей казалось, что звон гонит белого всадника из города, – в белую муть полей.
Город стыл в белой мути.
В эти дни паровозные свистки с тоскливой удалью не перекликались с колокольным звоном; но пришел день, когда не отозвался на звон и ходуновский фабричный гудок. Около лавок были плотные запруды из людей.
К Коняеву каждый день ходили рабочие с фабрики. В лазаретах за обычным вопросом раненых к каждому посетителю: «Что слышно о войне?!» – даже не скрывался, а проступал с неотвязностью другой вопрос: «Когда же конец?» Демертша пришла навестить Коняева, и сказала ему, подавая два гектографированных листка:
– Это принесла моей Акулине девушка с фабрики. Просила объяснить, что тут… Вы бы осторожней, мой друг. Это ваш почерк.
Коняев взял бумажки, сунул в карман, и сказал:
– Почерки бывают схожи.
Пришла весна. Таял снег. Птицы летели с юга.
Великопостный звон стелил тонкую ткань печали над городом, а весенняя капель прорывала эту ткань каплями радости.
На третьей недели схоронили Гришу. Он давно уже выписал из Москвы новые фонарики для иллюминации на Пасху, разбирал их у себя дома, протирая тряпкой. В это время подошла к нему жена и спросила:
– Гриша, масло принесли к Пасхе хорошее. Хоть дорого, я взяла. Мелочи мне надо. Есть у тебя?
– Зачем мелочь? У нас и крупность найдется, – ответил Гриша, полез в карман, – и зашатался: закружилась голова. Так, не вынимая руки из кармана, прилег на кровать, – и умер, не произнеся больше ни слова.
Схоронили и помянули.
– Умер наш иллюминатор!
– Что ни говорите, талант!
Похвалили проповедь протоиерея: указал уместно, что раб Божий Григорий, душою следуя свету Христову, в Светлый День ревновал всегда явить и свет вещественный во славу Воскресшего.
В конце третьей недели Василий звонил к обедне. Он кончил звон, когда на колокольню ввалилась толпа парней с фабрики. Тут были и Фадеев, и Костя с серьгой. Василий знал некоторых в лицо. Они часто бывали на колокольне, но никогда не звонили.
Они были веселы, оживлены, кто-то даже без шапки.
Парень с серьгой подошел к Василию, хлопнул по плечу и сказал:
– Ну, дядя Василий, то ты звонил, а теперь мы позвоним!.. Да как позвоним!
– Отзвонено, – мрачно ответил Василий. – Опоздали. В другой раз приходите…
Фадеев подошел к колоколу и ударил.
– Оставь, – сказал Василий недовольно. – Что балуешься? Сказано: отзвонено.
– Кому отзвонено, кому – нет, – отозвался Фадеев.
Парни подняли бестолковый, безудержный звон. Кто-то взобрался на верхний ярус и ударил в Соборный колокол. Звон выходил какой-то кривой, безалаберный, но буйный и громкий.
– Да, что вы, очумели! – крикнул Василий. – Да я сторожа склúчу! С лестницы спустит!
Парень с серьгой перестал звонить, подошел к Василью и, улыбаясь во все свое свеже-тесовое, розовое лицо, сказал?
– Да что ты, дядя Василий, разве ничего не знаешь?
– А что мне знать?
– А то, что царя сверзили…
– Да ты…
– Капут, дядя! С всероссийской лестницы спустили: с верхнего яруса в нижний! Оттого и звоним! С радости! Эх! – отбежал парень от Василья к колоколу: – Валяй! Держись! Дили-дон! Царям разгон!
И зазвонил изо всей мочи в Разбойный.
Колокола, – как толпа на площади, – шумели и гомонили безудержным, буйным перебоем.








