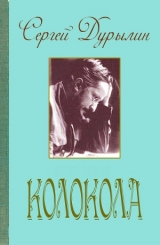
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Николка отвечал:
– Нам и надобно молчать, – Он указывал на колокола: вот ктó у нас речуны, мы – молчуны.
Молчал и Чумелый. У него отродясь мало было слов; их ему и не надо было: рыбу ловить – чем меньше слов, тем лучше.
Все трое молчали. Все трое и говорили – только по-разному и о разном – в колокольном звоне.
Молчал Мукосеев и тогда, когда на Светлой неделе, передали ему досужие люди:
– Гостя жди, Николка. Амосов, Николай Прохорыч, обещал на Пасхе прийти к тебе звонить. «Приду, – говорит, – к ножовому звонарю позвонить. Поучу его малость. А то он звонить не умеет: надо красный звон, а у него ножовый».
Повел плечами Николка, помолчал-помолчал и точно поперхнулся словами:
– Что ж! Пусть приходит.
Ждали, что еще скажет. А он нáкрепко замолчал и ушел в каморку.
Передали Амосову Николкино приглашенье. Только не исполнил Николай Прохорыч своего обещанья: не пришел звонить к ножовому звонарю.
6.
Никогда не жилось так хорошо и привольно голубям, стрижам и воробьям на соборной колокольне, как при Холстомерове, Николке и Чумелом. Люди молчали, а птицы ворковали, щебетали, чирикали. Голубиный ворк несся из среднего яруса; пониже, в щелях карнизов, в завитках колонн гомонились воробьи; а с верхних ярусов чиркал воздух острый, мелодичный вскрик стрижей.
Иван Филимоныч любил больше голубей. Он скармливал им не только моченый горох и пшено, а не боялся отдать в прокорм и крошки честны́х просфор, смешавшиеся, по недогляду, с хлебными крохами: голубь – птица чистая – сам Дух Святый над водами реял «в виде голубúне». И не даром у голубей не пенье, не посвист, не клекот, как у других птиц, а ворк мирный и ровный. Утешался Иван Филимоныч, прислушиваясь к тихому ворку. Он доносился откуда-то высоко, из-под сводов, от колоколов, и думалось ему в молчанье: «Что речь человеческая? Мятеж и суечéние суетное! А ворк голубиный кроток и сладок», – и молчал Иван Филимоныч под ровное его журчанье.
А Николка не любил голубей. Они казались ему говорливы, как люди, и бабье что-то поцелуйное и лживое, чудилось ему в их нежностях. Он поднимал голову, свесившись над перилами в пролете, под угрюмым Голодаем, и юрким Разгонным, – и над ним чертили воздух легкими и быстрыми чертежами стремительные, взмывчивые стрижи. «Не гудят, не лают, как люди, – думал Николка, вслушиваясь в их жемчужный щебет, в тонкий, как золотая проволока, вскрик. – У нас, у людей, слова – словно камни: кидаемся ими друг в друга: кто в кого верней попадет, больней ушибет, тому и слава, а у них…» Он задумался. «Не слова у них, а звоночками золотыми в воздухе звенят». И то, что гнезда их высоко от людей, не в щели жилья человеческого, а где-то там, под куполом с золотым крестом, – радовало Николу: видел он сизых легких стрижей только в небе, на воле, а не в семейственных, похожих на людские, заботах над гнездом. В вешние дни он слушал подолгу золотые их голоски вокруг колокольни.
Чумелый сыпал зерна крикливым, без перебою чивикающим воробьям. Чумелый был молчалив и глуп: полагал он, что «воробей» значит «ворá бей», но бить сереньких воров не хотел, а хотел, чтоб они не воровали, и подкармливал их, чем мог. Когда Чумелый оставался один на колокольне, голуби презрительно ворковали над ним и не садились к нему на плечи, как к Ивану Филимонычу, а сидели, нахохлившись, в гнездах, под сводами: они знали, что Чумелый назовет простецких воробьев, которые в другое время не смели залетать в голубиный ярус. Чумелый наклонялся над перилами и кликал глупым шершавым голосом:
– Вóры, вóры, вóры, вóры!
Воробьи знали, что они у Чумелого – «воры», и слетались на угощенье грешневой крупой. Клевали деловито и спешно, а Чумелый, стоя над ними, поучал всего «воробья» вместе, сколько их не слеталось:
– Ты вот и знай: «вóра бей!» – вóра и бьют, а коли не вор ты, не бьют тебя, а кормят.
Он подсыпáл им зерен, гречихой отучал от воровства. Набив им зобы до округлости, Чумелый громко фыркал на них, воробьи с притворным испугом разлетались (они были уже сыты), а Чумелый кричал им вослед:
– Вóра бей! Держи их, воров! Вóра бей!
Вспугнув, он опять принимался молчать, прикрывая свое молчанье доброю, простоватою улыбкой и расправляя плечи: тяготил его их широтá и ни на что ненужная крепость.
Так три звонаря дружили с колоколенными птицами.
Чужие птицы редко попадали на колокольню. Однажды оказался на завитке колонны, поддерживающей карниз, полуголый писклявый ястребенок. Чумелый изловчился и, до пояса свесившись из пролета, загреб его левой рукой с завитка. Ястребенок ущипнул ему мизинец. Чумелый хотел было его прикормить, да Николка увидел ястребенка и выкинул его на мостовую, молвив:
– Ястребиной наседкой стал!
Степка ухмыльнулся безответно.
В августе отпал от осеннего перелетного клинушка журавль с подшибленной ногой и опустился на соборную кровлю. Мальчишки метали в него камнями. Николка слазил на крышу и выволок щипавшегося журавля на колокольню. Журавль жил несколько недель, расхаживал, хромой, под колоколами, охая и с грустью заводя от боли умный черный глазок. Журавль не долго протянул, и Чумелый хотел сделать из него чучело, но Николка не позволил, а зарыл его на зеленом монастырькé у собора.
Показалось однажды Чумелому, что летает около колокола какая-то пестрая птица, в желтых штанишках, в голубых нарукавничках, с красным хохлом, да показалось, должно быть, спросонья: повернулся он на другой бок и заснул без птицы. На другой день слышно было, что у отставного генерала Аликаева пропал любимый попугай Монплезир, и генерал даже слег с печали, что некого ему стало поить с китайского блюдечка кофеем со сливками.
Каждому по-своему молчалось на колокольне. Иван Филимоныч первый надумал замолчать так, как все на свете замолчит когда-нибудь.
Он давно уж не подходил к Княжину: не под силу стал для него княжинский тяжелый язык. Иван Филимоныч поднимал перезвон меньших колоколов, но и тут ноги его уставали нажимать доску, а руки дергать веревки. В будние дни он не звонил. Только в праздники помогал он Николке с Чумелым. Молчал теперь Иван Филимоныч больше всех: его тяготило, что молчит он и звоном. Иногда, в буднее утро, он подходил к колоколам и, перекрестившись, читая девяностый псалом, зачинал нехитрый будничный звон к утрене. Руки скоро немели, веревки от легких колоколов казались пудовыми, звон выходил вялый и никлый, не радовал душу – и Иван Филимоныч подзывал Чумелого и передавал ему веревку, а сам, сидя в каморке, слушал, как выправлялся звон, легчали колокола и звуки выпархивали из-под них легкими стремительными стрижами, а не тяжелыми сонными совами. Иван Филимоныч закрывал глаза и грустил. Однажды он поймал себя на том, что, благовестя к ранней обедне, он ударяет в надломленный, грустный и старый Голодай. Но уже не переходить было на другой колокол. Николка подошел к нему и сказал, жалеючи:
– Дай сменю, – и прибавил: – Не звонишь – душу тянешь.
Иван Филимонович покорно передал Николке веревку, молча отошел к перилам и вздохнул, когда услышал бойкий, звóнистый звон «Наполеона». «Отзвонил звонарь Холстомеров, – подумал Иван Филимоныч. – Колокола путать стал: в Голодай к обедне ударял! Срам!»
Иван Филимоныч не хворал. Навестившему его сыну на вопрос о здоровье он пошутил:
– Старый дубок – не молодой ноготок: нелóмок.
Пимен Иваныч докладывал о делах, но не слушал и, как всегда, отклонял такие доклады Иван Филимоныч.
– Глух я, Пименушка, на то ухо: плохо слышу, а в другое ухо ворк голубиный воркует: ты не трудись. Корнем ты крепок, знаю. Ну и распростирайся.
Холстомеров проводил сына, пожевал принесенных им, любимых своих мятных пряников с тмином и прилег на постель: почувствовал легкость какую-то в ногах – будто они истончали и не держат уже тела. Полежал. Прочел про себя: «Живый в помощи вышняго». Пришел Николка: позвал перед звоном, перед всенощной, перекусить хлеба, для крепости. Перекусил. Солью заинтересовался: «Ишь, блестит ломтиками, как ледышки» – и удивился, что никогда раньше в голову это не приходило. Ноги были легки, но не подламливались, и захотелось позвонить.
Звонил вместе со всеми ко всенощной; и опять заинтересовался: показалось ему впервой, что Княжин, Васин и Наполеон вместе ропщут на Голодая: мешает он им звучать звонко, плавно, охвáтисто и стараются они заглушить его, – но Иван Филимоныч пожалел Голодая и придержал языки у Васина и у Наполеона, и Голодай стал слышнее их надрывистой скорбью своей.
Когда кончился звон ко всенощной, Николка отрезал недовольно:
– Опять у тебя, Иван Филимоныч, Голодай весь звон мутит.
Иван Филимоныч не нашелся, что сказать. От Голодаевой мути у него на душе было слезно и тихо.
Он заглянул в каморку. Не держала она его у себя сегодня. Полежал: лег – ноги опять сделались тонки и слабы; встал; сказал Николке, глядевшему через купола собора на зеленоватую темьянскую даль с голубой бечевой реи:
– Николушка, я звонить сегодня больше не буду.
– Не можется? – заботливо и скупо, как всегда, отозвался Николка.
– Нет, а так, не буду.
Николка зорко посмотрел на него:
– Не здоровится тебе?
– Здоров я. Хлебца, пойду, съем еще.
– Пойди, подкрепись.
Поел хлеба; крупинки соли подержал на ладони – «точно иней», подумал: растаяли. Лег на постель и сразу заснул.
Видел во сне покойницу жену, Анну Герасимовну. В платье фай-франсе, дикого цвета, ест грецкие орехи. А орехи все разгрызены и скорлупы нет. «Кто же орехов тебе нагрыз?» – спросил Иван Филимоныч жену. – «А Кот-Колоток!» – «Колобок?» – переспросил Иван Филимоныч. – «Колотóк, а не Колобок! Он мне разгрыз, а мышь на хвост наступила». Хочет Иван Филимоныч взять орех, а не может: Анна Герасимовна фай-франсе платьем шуршит, и не дает орехов: «Ты не грек грецкие орехи кушать!» – «Не грех!» – переврал кто-то в углу – в комнате по углам-то темно – и сморкнулся и чихнул. – «Вот правда», – Анна Герасимовна отвечает на чих: «Не грек!»
Тут Иван Филимоныч проснулся.
Полная, словно налитая молоком, луна смотрела в окно каморки. Николка от жары спал под колоколами. Чумелый ушел на всю ночь на рыбную ловлю. Иван Филимоныч вышел из каморки, поднялся к колоколам и, осторожно минуя Николку, остановился под большим колоколом. Луна обливала его серебристый бок липучим липовым медом, а под колоколом было черно. Иван Филимоныч щелкнул пальцем по краю колокола и прислушался: не раздалось ни четверть-звука. Холстомерова охватило липкой, как лунный свет, тоскою. Он глянул за перила: всюду был разлит липовый мед лунного света. Сердце у него забилось от сладимой тугой тоски. Он посмотрел на Николку: босой, он спал на шершавом тулупе и на мягкой лунной белизне его лица чернью прочернены были дуги над опущенными во сне ресницами. Иван Филимоныч внимательно поглядел на четкие дуги, на тонкие оборки ресниц, на руку, отброшенную с тулупа на пол, на босые стройные ступни, маленькие не по росту, – точно он хотел запомнить все это и, вздохнув, обошел Николку. От тоски у него вело все внутри. Он нагнул голову и поставил ногу на первую ступеньку бурава. Опираясь руками о кирпичную толщу стен, Иван Филимоныч спустился по бураву и остановился только на предпоследней ступеньке. «А грецкие орехи есть не грех!» – глупо подумалось ему.
Он вышел на площадь. Она была пуста и вся в липовом меду. Лаяла где-то близко собака тоскливым медленным лаем, тянувшимся к луне. Вдруг, к изумлению для себя, Иван Филимоныч ходко пошел по разлившемуся во всю площадь меду. Тоска поджáлась куда-то под тихую, зовкую грусть, а грусть была от медали лунного, от старости, от тишины ли или еще от кого-то, кого Иван Филимоныч не знал, но кто звал его через это разливанное лунное море. Дышалось легче.
Иван Филимоныч перешел площадь, свернул в переулок и вышел на Медвежью улицу. Никого он нигде не встретил. Медная дощечка: «Свободен от постоя» зóвко блеснула ему над воротами. Он постучал негромко в калитку. Залаяли собаки. Отперли не сразу. Дворник спросил, не отпирая: «Кто там?»
Иван Филимоныч хотел ответить: «Хозяин», – но сказал просто: «Отопри». Старик дворник не сразу узнал голос Ивана Филимоныча. Отпер и оглянул Холстомерова; оглянул и тихо сказал:
– Все спят-с.
– Не буди, – сказал Иван Филимоныч. – Я пройдусь.
Он прошел в сад, за домом. В саду было еще медúстей, чем на площади. Мед капал с цветущих вишен, с яблонь и груш, где – белый в голубизну, где – слегка розоватый. Иван Филимоныч пересек сад по средней дорожке, зашел на минуту в беседку. Там, на столе, вянула брошенная кем-то веточка яблонного цвету. Иван Филимоныч взял, поднес к лицу и удивился ее кисловато-сладкому стынущему аромату.
Заколотили на Медвежьей ночные сторожа в колотушку. Иван Филимоныч вышел из беседки и опять глупо говорнýлось в нем: «Греки едят грецкие орехи. А мы, русские, – яблоки. Белый налив». Он бросил веточку на песок, хрустко и вкусно скрипевший под ногами, и пошел к калитке. Ноги были слабы, но легко повиновались ему. За калиткой стоял Веденей, дворник. Иван Филимоныч улыбнулся ему и посмотрел на дом. Ему приметилось, что в доме был огонь в двух-трех окнах. Он отворил калитку, но она показалась ему очень тяжелой, пудовой, и он сразу устал и прислонился к столбу решетки. Тут Веденей, низкий и коренастый старик, подошел к нему и спросил:
– Плохо вам, батюшка Иван Филимоныч?
– Нет, хорошо, – отвечал он, – и тут же почувствовал, что ноги не идут. – Только я устал. Доведи меня.
– Куда же-с? в дом-с?
– Нет, поближе. Я не дойду.
Веденей охватил его и довел, почти донес, до ближайшей двери. Это была войлочная дверь в дворницкую.
Там было душно и пахло валяными сапогами. Иван Филимоныч прилег на постель и закрыл глаза.
Он знал теперь, что умирает.
Надо было, во что бы то ни стало, открыть глаза, но глаза не открывались, и он так, не открывая, прошептал:
– Сына позови.
Веденей бросился из дворницкой.
Тоска опять полыхнулась в сердце Ивана Филимоныча. На полу дворницкой лежал медовый квадрат – мягкий, белый, липкий. Квадрат был перечеркнут черным крестом оконной рамы. На этот крест смотрел Иван Филимоныч сквозь полуоткрытые веки. Крест был неподвижен. У Ивана Филимоныча заслезилось в глазах от его черной неподвижности на белом-белом плате лунного света.
Взвизгнул блок двери, и на носках вошел Пимен Иваныч, в белом балахоне. Он нагнулся над отцом, но веки у того были опущены, и Пимен Иваныч не решился его окликнуть. Он кашлянул в кулак от волнения.
Иван Филимоныч, не открывая глаз (веки опять не слушались) коснулся его холодеющей рукой и тихо вымолвил:
– Вот, пришел звонарь умирать.
Рука его потянулась к седеющей крепкой голове Пимена Иваныча, но не нашла ее и упала на постель. Пимен Иваныч нагнулся и поцеловал ее и, глотнув слезы, сказал:
– Вернулись, батюшка, в родной дом.
Не поднимая век (они были тяжелы, как язык колокола), Иван Филимоныч поправил сына:
– Зашел.
И прибавил:
– Ухожу.
Пимен Иваныч опустился на колени и заплакал.
Но ни утешать, ни говорить не мог больше Иван Филимоныч: словно его принимал кто-то на руки, большой и суровый, и руки эти были крепки и надежны, но между ними и Иваном Филимонычем было большое расстояние; надобно было непременно попасть на эти руки, минуя провал между ними и Иваном Филимонычем, и, если попадешь, то все будет хорошо, и навсегда хорошо. Иван Филимоныч не думал: думы у него никакой не было, а весь тянулся к тому, чтобы попасть на эти поставленные, ждущие его, емкие руки.
А все, кто собрались в дворницкой: Пимен Иваныч, внук Семен Пименыч, старший приказчик, старик Алексей Федулыч, дворник Веденей – все думали, что Иван Филимоныч лежит в забытье, без сознания, и шептались о докторе и о священнике.
Так подошло утро. Белый липкий плат кем-то убран с полу. Золотился рассвет. Прозвучал первый удар соборного колокола к утрене.
Тяжесть спала с век Ивана Филимоныча, он открыл глаза и явственно произнес:
– Зовет Никола-то…
Приказчик, Алексей Федулыч, человек благочестивый, рассказывая впоследствии о смерти старого своего хозяина, передавал, что, отходя, хозяин «Николу угодника видел: зовет меня, – сказал, – Никола». Но Иван Филимоныч разумел не мирликийского угодника – он разумел Николу-звонаря. Он открыл глаза на этот зов: привычно будил его Николка к утрене, но поленился на этот раз встать Иван Филимоныч – улыбнулся Николе и не пошел: закрыл опять глаза. Ему казалось, что Николкины руки – огромные и крепкие – прочно и ласково держат его, и он, как маленький, сладко заснул на этих руках.
И никто уж не мог разбудить Ивана Филимоныча.
7.
Со смертью Ивана Филимоныча еще тише стало на колокольне. Мукосеев остался главным звонарем, но от второго подзвонка он отказался и хмуро ответил протопопу Гелию:
– Справимся.
Так молчаливо и хмуро стало на колокольне без Ивана Филимоныча, что даже Чумелый не выдержал.
Однажды вернулся он с рыбной ловли и не один к утреннему звону: за ним шел человек в синей скуфейке, в длинной холщовой рубахе с молитвотканым пояском. Николка благовестил. Человечек в скуфейке поклонился Николке, а, к трезвону, протянул руку к зазвóнной путле, как бывалый звонарь. Николка ничего не сказал. Трезвонили вместе. Когда кончили звон, пили чай все трое. Николка молчал, а скуфейник рассказывал. Чумелый слушал, улыбался, но не без опаски посматривал на Николку.
– Два дела есть апостольских на земле, – сказывал скуфейник, – рыбку удить да в кампаны благовествовать. От красного звона на сердце взыграние, а от постного – печальное умиление.
Обмакивал баранку в чай и умилялся в речах скуфейник.
– Я – как птица небесная: тá – здесь клюнет, там клюнет, и дале летит. А я – здесь позвоню недельку, там – три денька, и дальше лечу. Где я только не званивал? В Соловецком, над морем, благовестил. В Одигитриевой, у отца Пафнутия, званивал пустынным звоном. В Ростове Великом к достославным Iониным звонам призванивался – угодил в стать. На Иване Великом, в самой Москве, званивал…
– А в Царь-колокол звонил?
Скуфейник закачал головой на Николкин спрос:
– Безгласен он, безъязычен.
– То-то безгласен, – сказал Николка, – за то ты больно гласен: с языком.
Подсек Николка рассказ и аппетит скуфейнику. Встал гость из-за стола, поблагодарил за хлеб зá соль и выспросил дорогу в женский монастырь, что на Княжьем месте. Дорогу ему сказал Николка, а Чумелому, спуская ногу на бурав, шепнул гость отгостивший вмале:
– Строгонек твой большак-то: не позвонишь у него.
– Не позвонишь! – с удовольствием усмехнулся Степка.
Николка во весь день слова не сказал Чумелому, но, отзвонив к вечерне, молвил:
– Сюда никого не водú. С бурава спущу.
И тут усмехнулся Чумелый: Николку он почитал и Николкой гордился.
Со смертью Ивана Филимоныча тосковал Николка. Он изредка спускался с колокольни и хаживал на могилу к Ивану Филимонычу, и упрямым мукосеевским лбом подпирал еще рыхлый и свежий холмик. Он ходил туда перед утренним звоном, еще зáтемно.
Однажды, не в постное время, подошел к протопопу Гелию и долго молчал пред аналоем; и, когда уже протопоп ждать перестал и хотел накрыть его черную кудлатую голову розовою епитрахилью, сказал на все горькое его молчанье: «Бог простит. Аз, недостойный iерей, властию, мне данною…», – произнес Николка кратко:
– Томлюсь.
– Чем? – спросил протопоп.
– Пустотой.
– Какая пустота? – недоумевал ученый протопоп.
– Будто всё впýсте: обманом все держится.
– Что «всё»-то, глупый?
– Всё: и деревья, и небо, и дома, и люди. А непрочно: подножку дать – и упадет.
– Небу-то подножку? – отстранился протопоп. – Дурак! Ступай. Другому бы я сказал: ум за разум зашел, а у тебя ни того, ни другого нет: так и уходить нечему и не на что. Наложу епитимью. Мясного не вкушай.
Николка усмехнулся.
– О том и прошу: епитимью. Да это легкое: чтó мясное!
– Трудного захотел? Ну, и рыбы не вкушай.
– А поверх рыбы?
– А «поверх рыбы» я тратить слов с тобой больше не намерен. Ступай. Звони себе.
Николка поцеловал руку и пошел.
Рыбы он не ел, но тоска его не покидала. Он часами просиживал у перил пролетов и, поверх ближних садов, озирал далекий вместительный окоем. Небо опускалось на него матовой голубой чашей, и края необъемлемой чаши скрывалось за окоёмом. Этих голубых краев Николка искал постоянно – и не находил: взор упирался в скупую чернеть полей, в мутную празелень лесов, в яркую ярь лугов, в серебряную бечеву извилистого Темьяна: все это было перед глазами и казалось Николке скудным и непрочным, а прочное, богатое, голубое – края неисчерпаемой чаши исчезали неуловимо. Пока не вызнать этих краев, нельзя опереться ни на что: все непрочно, подо всем – пустота. Когда Николка прислушивался к первому удару в колокол или к целому плавкому звону, он думал: «Куда уходит этот звук? – В небо. Ведь крáя нет: в пустоту. И звон весь – в пустоту. И огонь, и дым, и ветер – в пустоту. Все в пустоту. И человек, стало быть, туда же. Что ж остается? и где может остаться, если все – в пустоте?
Николка упирался, тоскуя, в высокий беспрорывный свод голубой необъемлемой чаши, таившей пустоту.
Однажды в жаркий гнётливый полдень он не выдержал этого упора неисчерпаемой голуботы и, усталый и томимый, перевел взор с высокой чаши на то, что было ближе: на сады вокруг собора.
Все заворожено в гнетливой истоме полудня: был час, когда бес полуденный знóит желтым зноем бедное тело земли. Люди неотделимы от земли: зноил и их. Зелено и пусто было в садах – во всех: и о просвещенного Алопегова, и у темного Дудилова, и у заседателя Живителева, и у лекаря Вейзенштурма, и у Амосова, Николая Прохоровича, и у бывшего медняка Мукосеева. Все спали в этот час, кто на перине, кто на сеновале. У бывшего медника Мукосеева некому было спать – зато там, крепче других спал буйно заросший, непреходимо-зеленый сад с дичающими вишнями и зазелененными травою дорожками.
Колокола в этот час были до раскáла нагреты солнцем. У Николки болели глаза от голубизны и зноя. Он рад был задержать их на спокойной, густой матовой зелени близких садов. Зелень покоила взор после непереносимой огненной голубизны, душу заносившей, как песками, тоской.
В амосовском саду было пусто и зелено, как во всех других. Чуть желтели дорожки между старыми липами и березами. Вьющаяся сеть дикого винограда оплетала пустую террасу.
С тоскою смотрел Николка на покрасневшую кое-где зелень винограда, на придвинутую к лесенке остывшую жаровню, на которой недавно еще варили варенье.
От беса полуденного томит сердце человеческое. Этому учил еще покойник Иван Филимонович. «Нет бесов». – бурчал тогда Холстомерову Николка. Но строго отверг это покойник: «Бес – пустотéл. Тело у него невесомо. Впýсте он телом – от того он всюду пронырщик».
Пустота и в зное. Томит, томит. Глазам больно. И зелень не покоит, и зелень в зное.
И вдруг Николка увидал полуденного красненького бесенка: маленьким золотым язычком выскочил он из-под нижней ступеньки террасы, около которой торчали тонкие ножки жаровни; пробежал; его нагнал другой – поярче, поторопливей; за ним выскочил третий, и еще, и еще. Бесенята-язычки пустились плясать на ступеньке – и вся она засверкала в живых, золотых и алых иззубринах пляски. Николка смотрел как зачарованный. Бесенятам-язычкам стало тесно на нижней ступеньке; они перепрыгнули на следующую, повыше; двое, самые высокие и золотые, облапили столбик перилец, полезли по столбику; к ним скакнули еще бесенята-язычки – и вдруг все переменилось: бесенята кувыркались через головы, становились друг другу на плечи, перепрыгивали друг через дружку, и все, в общей золотой и красной пляске, скакали все выше по ступенькам, по столбикам, по перилам, прыгали и кружились, подскакивая вверх все вихристей, золотей и безумней.
– Пожар! – прервал себя Николка. – От жаровни уголек выпал в труху под террасой.
Вот тут-то «Пустотéл» приблизился к Николке и наложил ему на сердце свою лапу. Николке надо бы бежать к Плакуну бить в набат, а он лениво и вяло побрел в каморку и лег на постель. Там Пустотéл отпустил ему сердце и пересел на ноги: сердце забилось, а ноги стали тяжелы и неподвижны, как упавший колокол. Николка уткнулся головой в подушку, и не Пустотéл, а огромный и тяжкий бес полуденный жал ему сердце полыхающим зноем и душил ему горло тонкой веревкой, сплетенной не слабей тех веревок, коими гуртовщик Амосов перевязывал быков в гуртах. Веревку бес свил не из пеньки, а из бесплодно осыпашегося белого цвету Николкина сада, из тонких, хлестких прутиков амосовских лип, и вплел в веревку какие-то алые, алые нити вперемежку с черными. Эти нити в бесовой веревке жестче всего душили Николку и не пускали его встать с постели. А Пустотéл давил на ноги, и они были пустыми и неподвижными.
Вдруг Николка рванулся с болью, до крови закусив себе губу, сбросил сразу с себя и легкого липкого Пустотéла, и тяжкого бечевника и бросился к Плакуну. Зажмурив глаза, он долбанул языком о край колокола, и Плакун закричал от боли резким набатным воем. Николка, не открывая глаз, бил колокол горячим от зноя и ударов языком, задыхался, хватал воздух открытым ртом, рвал себе сердце ударами, но бил, бил, бил. Перестал он бить только тогда, когда чужой мужик без шапки дернул его за плечо:
– Будет. Потушили. Не дали дому заняться. Тó-то ты, чай, замаялся, звонивши.
Николка. Оторвался от колокола. Он вскрикнул в последний раз, устав от обиды и боли.
Мужика послали с площади: пожалели Николку за его ревностный набат. Амосов, Николай Прохорович, присылал молодца из лавки – вручить звонарям целковый, что хорошо били в набат. Не приняли звонари целковый.
Но с той поры Николка., словно пожарный, дневалил на колокольне, зорко высматривая, не затаились ли где, в укромном деревянном темьянском углу, золотые и алые бесенята? Не принялись ли за свою огненную чехарду? Уставал и сам от дневных и ночных дозоров Николка, уморил и Чумелого: совсем не приходилось ему ходить за ершами. Николка до того прославился своим неусыпным дозором, что вольнодумцы поговаривать стали в городе:
– К чему нам пожарная каланча? Николка на колокольне лучше, чем хожалый на каланче, дозирает над городом. Пожарному деньги плати, да он, соня, три пожара подряд проспит, а Николка за ломаный грош звонит, а дозирает на тысячи.
Однако Николка сам доказал, что рано еще было каланчу ломать и полагаться на Николкин дозорный оберег.
Доказал это Николка тем, что всех оберегал от пожара, а своего домика не мог оберечь.
Домик Мукосеева, забитый ставнями, давным-давно стоял пустым-пуст, и никто в нем не жил, то есть никто Николке за жилье денег не платил. А жили-то в нем многие: все, кому негде было ночевать. До Николки не раз доводили, что в пустом доме, случается, горит огонек то час, то два, а то и больше. Погорит так неделю, другую – погаснет. Стоит недели две-три мукосеевский дом темен, а потом опять, сперва робко, потом посмелее, вспыхнет огонек.
Однажды, в сентябрьский вечер, и не очень поздно: так, часов в семь, вспыхнул этот огонек слишком ярко, так ярко, что через несколько минут занялся весь мукосеевский дом, и вспылал, как костер. Ни одного удара в набат не раздалось с колокольни, пока весь домишка не полыхал купиной непогасимой: все прозевал Николка – и огонек, и огоньки, и огонь, и огнище. Ударили, правда, с колокольни в набат, но тогда уж, когда одни головешки догорали от мукосеевского дома, да и ударил-то Чумелый, прибежавший на пожар с реки, а Николка лежал себе в каморке и ничего не слышал.
Несколько человек не поленилось, влезли на колокольню. Стыдили Николку:
– Набатчик! Собственный домок не устерег!
Николка покорно соглашался:
– Проспал.
Сам Чумелый, готовый каждому горло перегрызть за Николку, молчал и не без укоризны посматривал на своего старшóго.
С тех пор прекратились вредные умствования о ненужности каланчи. Кто пытался, было, скуки ради, поднять их, тому легко затыкали рот:
– Что вы! Какой Николка сторож? Собственного дома устеречь не мог.
Вольнодумцы смолкали, назначение каланчи и сонного пожарного на ней утвердилось неколебимо, хоть старинщик Хлебопеков и утверждал упрямо, что один только раз Николка «набат проспал, а один раз невзачёт».








