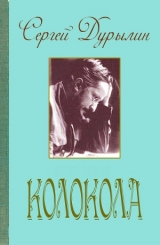
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
– Вы уперлись в одно слово: ум да ум. Черт меня дернул глупость эту написать! Нужно уничтожить боль. Боль причиняющих нужно вырвать с корнем. Нужно жизнь повалить на другой бок, на здоровый, а больной лечить. Оперировать. И вы к этому шли, да не собрано у вас в одно…
– А вы у меня читали-с? – ехидно спросил Щека. – Было условлено, что переплетчик неграмотен, – во всяком случае, в отношении текста писанного, а не печатного.
– Не читал, – покраснел Коняев, – а из слов вывожу…
– Напрасно-с: утрудили себя выводом. А «собрать», как изволили выразиться, я не мог опять по отсутствию лука – по неимению ума-с. Ухом одним, впрочем, осчастливлен был я слышать, что умными людьми уже «собрание» предначертано, предполагается всю глупость, действительно, собрать и взорвать-с, и затем, по точным чертежам, построить все заново – под фиговыми пальмами возвести палатки-с, но с электрическим освещением и усовершенствованными ватерклозетами, – и все бесплатно-с: и фиги, и свет, и ватерклозет, и без ограничения размеров пользования… С приблизительною точностью излагаю.
– Точность, действительно, приблизительная, – сказал, усмехнувшись, Коняев. – Продолжайте.
– Причина неточности: осчастливлен был всего лишь на одно, да и то не на полное ухо: поворот уха к слушанью в три четверти, не анфас, – и оттого ложный резонанс вполне возможен. Предваряю и предварял. Но хотел бы знать, входят ли в чертеж ватерклозеты?
– Входят, – буркнул Коняев.
– А будет ли, – преглупейший задаю вопрос, и даже в бесчинии некоем, – разрешено не желающим ими не пользоваться? – и чтобы, – пример, – простите, – выйти за город и на травке, а не в закрытом помещении?
– Глупость!
– Вот именно-с. Точнейше. Определеннейше: глупость. Но ведь ум не предъявлен, и обещана только полнейшая сохранность черепной коробки. И при том-с, – Щека злобно поглядел на Коняева, – и притом-с… – он нарочно замедлял и повторял слова, – притом есть просчёт небольшой: самый ум не определен-с. Пограничная черта не проведена, кущи обещаны, и, говорят, предприняты уже тайные шаги к их скорейшему возведению, и ватерклозеты уже спланированы, – но, повторяю и утруждаю: пограничная черта между умом и глупостью еще не проведена, и не охраняется никем и потому возможна контрабанда – оттуда – туда-с: от ума к глупости – и обратно. Ибо что есть ум?
В это время мать Коняева поставила самовар на стол, и хотела заварить чай, но Коняев махнул ей рукой, чтобы ушла, и сам засыпал в чайник.
– Ибо что есть ум? – повторил Щека с видимым наслаждением. – Ум есть не более, как общепринятая глупость. И обратно: глупость есть обще-не-принятый ум! – и не более, никак не более!
Привстал, сказал, – и присел на краешек стула.
– И посему – трудна таможенная политика, – и чревата ошибками. Ландкарт – нет-с. Границы плохо охраняются: пограничной стражи не хватает. – Да и где ее взять? – вдруг спросил Щека, уставившись холодными, презрительными глазами на Коняева, придвинувшего к нему стакан с крепким чаем. – Где-с? и кому охота охранять? Еще контрабандисты пулю всадят в задницу. – Щека встал, кутаясь, в воротник своей размахайки и сказал: – А неприкосновенность пустых черепных коробок, молодой человек, есть глупость – и недостижимо по финансовым соображениям: потребует миллионов-с! и – триллион на ватерклозеты-с! Испанский лук дорогонек-с! Человеколюбно, но не по карману-с! Жрите простой!
Он отодвинул от себя стакан, встал и, не простившись, пошел к двери, и с порога произнес, не обертываясь:
– Чая на ночь не пью!
И вышел от Коняева.
В соборе шел звон. Щека дрожал от ветряной стыди, нападавшей на него из боковых переулков, выводивших на реку. Он прислушивался к звону, – иногда поднимал голову, точно ловил в пепельном небе тонкое, летучее облако звона. Оно унеслось за реку. Щека быстрей зашагал к собору. Улицы были безлюдны. Привязанный на цепь щенок выл за городом молодо и заливисто. Щека поднял булыжник и бросил за забор: щенок перестал выть, – словно обрадовался случаю, и залаял деловито, срывающимся молодым голосом.
На колокольню Щека еле поднялся. У него останавливалось дыхание.
Василий сидел в каморке, и что-то ел.
– Всенощная сейчас отойдет, – сказал Василий.
Щека сел и тяжело дышал.
– Звонить пришел? – спросил Василий, – но не ответил Щека, а странно посмотрел на него, – и спросил, привалившись грудью к краю стола:
– Ты в Бога веришь?
– Верю, ответил Василий.
– В звон ты веришь, а не в Бога, – сказал Щека.
Василий посмотрел на него.
– Ты чудной какой-то сегодня. Зачем пришел?
– Вот спросить, что спросил. В звон.
– Про Бога оставь, – сказал строго Василий. – Дышишь ты плохо.
– Плоховато. Карачун мне готовится.
– Кто?
Василий смотрел на него, разгадывая.
– К боярину одному я собираюсь:
Близко к городу Славянску
На верху крутой горы
Знаменитый жил боярин
По прозванью Карачун.
Вот к нему. Ну, вот пока и хожу, – и разрешил себе перед отъездом обращаться к людям с вопросиками. Одному сегодня весь вечер предлагал на разрешенье вопросик – всего один-с. И «ничего, ничего, молчанье». Вот и тебе задал. И сразу – ответ! Но… не верю!
Щека пытался улыбнуться. Гримасою обернулась улыбка, горькою, и дрожащею, – и исчезла мгновенно, и строго стало лицо.
– В звон твой верю, – а в веру твою не верю.
– Слышал: оставь, – сказал Василий.
– Чтобы поверить в человеческую веру, – не останавливаясь продолжал Щека, – нужно допустить невозможность: нужно детство сердца человеческого допустить, а это есть небылица: сердце в человеке стареет, прежде ума, прежде волос, – о, прежде всего стареет сердце! – и знавал я отроков с сердцем постаревшим, – юношей с сердцем дряхлым! И веры, – поистине, – Бог не может требовать от человека, ибо не дал ему нестареющего сердца. Для веры надобно сердце непрестанно молодеющее. Некий мудрец мудрствовал, – и как все мудрецы: всуе, – что ангелы с летами юнеют, – и близятся к пределу недосягаемому крайнего младенчества. Этак подобало бы и человеку, но всуе сказано это и об ангелах, – так сказать, по ангелолюбию лишь одному, – а о человеке, даже и по человеколюбию, этого сказать невозможно!
Василий встал, накинул на плечи полушубок, – и сказал:
– Звонить иду. – Что с тобой? Чуднеешь ты! Ты бы поговел, что ли. Или так себя проверил. Что-то есть у тебя.
– Все проверено, Василий Дементьич, – чтимый много, – в собственной палатке мер и весов. Есть еще, впрочем, и пробирная палатка: там пробу налагают. И это уж исполнено-с, и проба наложена, ибо, в некоторой своей части, металл души моей, все-таки, принадлежит к числу благородных. Но… проба низка-с! Расценочная цена равна нолю! Ни малейшего спросу! Впрочем, и предложение отсутствует: не предлагаю! никому не предлагаю!
Щека встал во весь свой высокий рост и поклонился Василию.
– Впрочем, я вопросиков больше никаких не имею. Не заготовил – или все вышли. И, собственно, я хотел просить разрешения, – единственного в своем роде, – и уж совершенно не в счет абонемента, – которого и не имею, – позвонить сегодня. Родильницам, как известно, приходит прихоть то кислого, то пáреного, – и отказывать им не принято: ибо предстоит им мука. Прошу на правах родильницы, подобно сему, пареного, – и не чаю отказа: – и на тех же основаниях-с.
– Звони, – сказал Василий, – и пропустил его впереди себя.
Они не долго прождали сигнала из собора. Всенощная кончилась. Василий ударил в колокол, – и прислушался к ответному удару Щеки: удар был строгий, верный и звучный. Василий ударил еще – и опять был такой же ответ. Трезвон гудел истово и звучно. Когда они кончили и с верхнего яруса сошел кривой подзвонок, простился и ушел, Щека сказал Василию:
– Кислого хотелось, прошу извинить каприз родильницы, – впрочем, весьма обыкновенный – и принять благодарность… Искреннейшую и полнейшую.
Он протянул Василию руку.
Тот выпустил ее не сразу и предложил:
– А то оставайся; переночуй. Поесть дам. Озяб ты. Водка есть. Идти тебе далеко. Вязко. Темь.
– Благодарствую чувствительнейшее, – но принужден отказаться.
Он поклонился и пошел к лестнице: – но вернулся и окрикнул в темноте Василья:
– Как это-с? «Звон – чертям разгон»?
– Так, – ответил Василий из каморки.
– Не всегда, – молвил Щека, и, постояв еще в темноте, молча, потом подошел к каморке и, не входя, сказал:
– Благодарствую, – и быстро скрылся в темноте.
Шел дождь, и на улице Щеку никто не встретил. Дождь полосовал город.
Утро наступило на редкость чистое, сквозящее осенней ясностью и глубиной. Ударяли к ранней обедне, когда экономка Щеки пошла в чулан проведать продукты. Всю ночь шуршали мыши и будили ее, – и она боялась, что проели дыру в мешке с гороховой мукой. В чулане – еще с порога она увидела – стоял Щека в размахайке, нагнувшись над гороховой мукой.
– Семен Семеныч, и вас мыши никак не разбудили? – окликнула его. – Кота надо завести. – Но он не ответил, по-прежнему наклонившись над мешком.
– Разве мешок прогрызли? – Подошла к мешку. Он стоял в углу. Щека висел над ним на веревке, загораживая его своим огромным телом.
Экономка закричала, не помня себя и бросилась, в чем была, к Вуйштофовичу.
Вуйштофович устроил Щеке подобающие похороны. Со стороны полиции не встретилось препятствий. Вуйштофович посетил соборного протоиерея и убедил его, что – смерть Семен Семеныча есть следствие болезни, а не безверия, как полагал сам протоиерей, – и в доказательство привел разговор, происходивший в присутствии Усикова, – и протоиерей разрешил хоронить Щеку по православному – «как покусившегося на себя в помешательстве».
Щека был похоронен на кладбище, недалеко от Авессаломова. Но решение протоиерея вызвало у многих решительное осуждение. Когда опустили Щеку в могилу, старик Залетов, нищий, бывший холстомеровский приказчик, сказал злобно Вуйштофовичу:
– Ну, теперь: осину сажай.
– Почему? – спросил Вуйштофович.
– Iуду с православными схоронил, – доделывай дело: Iудино древо над ним сажай, чтоб все знали, где Iуда лежит. Над православными, смотри, над кем березка, над кем – ивушка, а над Iудой – осину надо.
Залетовские слова передавались по Темьяну: до тех пор самоубийц хоронили особо, – между православным и татарским кладбищами, о бок со скотьим. И было порешено бабьим приговором, скрепленным Тришачихой-Испуганной:
– Не к добру это. Iудино тело под колокол Христов подносили. Iудин гроб землю сквернит. Не крепка будет земля под градом Темьяном. Быть колебанию.
И многие вспомнили впоследствии это предсказание о некрепости земли Темьянской.
5.
Через два дня после смерти Щеки была свадьба Усикова.
Невеста, акушерка Рязанова, приехала в церковь в ярко-розовом платье с красным кушаком, и в волосах у ней был пышный красный бант наподобие пунцовой розы. Жених же, Усиков, был во фраке и в белых перчатках. По окончании венчания, протоиерей Промптов, дав крест, сказал молодому с укоризною:
– Я вас, Ардальон Павлович, почитал за человека религиозно настроенного, и не постигаю, как вы допустили избранницу вашу нарушить трогательный обычай – и венчаться в пунцовом. Невесте приличествует одеяние белое: голубица она.
Усиков покраснел.
Говорили, что невеста услышала это и отвечала отцу Промптову:
– Уж ежели, батюшка, понадобились пернатые, то я не голубица, а голубиха, да и голуби к тому же бывают сизые. «Стонет сизый голубок».
Иные, впрочем, уверяли, что из всех этих речей невестою произнесено было только – и то в четверть голоса:
«Стонет сизый голубок».
Иные же утверждали, что и ничего произнесено не было, а было только со стороны невесты – «презрительное подергивание губ». Все сходились, однако, на том, что «нечто» все-таки было после венчания в розовом и красном, и что отец Промптов пожал плечами и промолвил:
– Впрочем, желаю вам счастья.
Вспоминая впоследствии «события предварительные», предшествовавшие «концу», старинщик Хлебопеков указывал на венчание Усикова и заключал:
– Вот оно, когда, уповательно, появилось в Темьяне красное: на Усиковском венчании. Старожилы не запомнят, чтоб венчались в красном. В голубом, в светлом-палевом, уповательно, бывали случаи, вéнчивались, но в красном не бывало. Первое проникновение красного. И куда же? В храм-с. Правда, хаживал некогда в Темьяне, в красной рубахе, Полетаев, Алексей Васильевич, неслужащий дворянин, – но ведь был за то и вызываем к губернатору и спрашиваем о красном, и ответил, указуя на красный околыш своей дворянской фуражки.
– Рубашка в тон околышу; запретите и на околыше, ваше превосходительство, коли предосудительно на рубашке. Однако носить стал кубовые, но, уповательно, при сохранении красного околыша.
Тришачиха в то время еще не далеко ушла в чтении Авессаломовой книги – и по поводу красного подвенечного платья заметила кратко:
– Одно к одному: Iуду в православном месте похоронили. Красную голубицу в церковь ввели – в адовом цвете венчалась. «Быти вскоре».
На свадебном пире у Усикова возникло сомнение: подавать ли испанский лук, ввиду неподобной смерти его насадителя? Но невеста, бывшая Рязанова (у ней красного на пиру прибавилось: кроме банта на голове, краснели пунцовыми маками щеки) решила:
– Не подавать – предрассудки. Непременно подавать.
Но ела одна, – и только один жених, благочестивый Усиков, из любви к ней и по ее настоянию, отведал одно колечко: все прочие, не попробовав, благодарили.
И это было замечено: известно, что испанский лук на кольчики режут, на тоненькие, – и кушают кольчиками. И разошлось по Темьяну:
– На Усиковой свадьбе удавниковыми петельками угощали: Iуду поминали.
И на это также ответствовала Тришачиха кратко и твердо:
– «Быти вскоре».
Через год у Усиковых были крестины, и было примечено, что венчался Усиков во фраке, а на крестинах он был уже в расстегнутой тужурке, из-под которой выглядывала красная рубашка, – и на вопрос отца Промптова, какое имя желают наречь новорожденному, Усиков отвечал твердо:
– Арий.
Отец Промптов возразил:
– Имя таковое в святцах, действительно, имеется, но – по созвучию своему с Богоотступным еретиком, избегаемо.
– Таково желание моей жены. Извлечено из святцев.
– Точно. Но избегаемо.
– Воля родительницы!
Отец Промптов вздохнул и сказал:
– Ваше дело, – но тут же промолвил: – Знавал я вас за человека благомыслящего, и в течение года…
– Таким и остаюсь, – прервал Промптова Усиков. – Но в течение года пройден путь любви и мысли.
Промптов, как при венчании, пожал плечами, – и впервые в Темьяне появился человек, носящий имя Арий.
Уткин, слегка выпив и начав говорить на тему о прогрессе с появлением Ария и красной рубашки на Усикове, непременно возвращался к «пути любви и мысли», пройденному Усиковым в год.
– Прогресс есть вещь оказуемая, – утверждал однажды Уткин, сидя у Коняева, – не показуемая, а оказуемая. Усиков – вот вам оказание прогресса. Что такое был Усиков? Антипрогрессивный злец и, кажется, единственно человеческое была в нем любовь к колокольному звону. Прошел год – и «блажен муж» породил Ария. И хоть крещен был Арий, но – заметьте – крещен в гигиенической воде: определенной температуры и с прибавлением некий спéций. Специи, разумеется, тайно от попа. – А почему? Потому, что идеи на штыки не улавливаются, но на идеи улавливаются даже Усиковы. В условие свадебное, продиктованное акушеркой Рязановой, человеком передовым и прогрессивным, входил не один лук, – и я даже сомневаюсь, входил ли он, – но было сказано: «физиологическое влечение не может подавить умственного отвращения». И вследствие этого, в течение года прочтен был Добролюбов, и популярное сказание о человеке и обезьяне, и иное многое, и даже переплетено, – и будто бы с надписью: «незабвенное».
– Надписи не было, – смеясь, сказал Коняев, – но переплетено.
– Умственное отвращение было преодолено прогрессирующим развитием. Конечно, надо учитывать толчки любви на путь саморазвития. Без этих толчков ничего бы и не было. Физиологический фактор бесспорен: любовь, – но в сумме – оказательство прогресса: вера в Троеручицу сменена непоколебимейшей верой в обезьяну и во все дальнейшее, выводимое из обезьяны. И это уж навсегда! Вера подобна волосам: у кого волосы выпали, тому их не вырастить вновь, сколько б он не кричал: не хочу быть лысым!» – и тут никакие снадобья не помогут. Уважаемый Усиков облысел в один год. Отмечаю, как оказание прогресса в Темьяне, будто бы не прогрессирующем.
– Черт с ним, – сказал Коняев.
– Черт, милушка, не только с ним, но и со всеми нами. Не стоит об этом и говорить. Черт – в природе вещей, Усиков же – человечёнок маленький, ничтожный и плохо пахнущий, но – человечёнок, не забывай этого. Когда человеки подпадают под прогресс, – это еще четверть дела: много ли их, человеков-то? Когда же подпадают под прогресс человечики – тогда уже полдела; а когда человечёнки подпадать начинают, тогда, поверь, это уже близко к самому делу! Я в красную рубаху не верил, – но когда Арий публично был объявлен, – а между тем, председатель казенной палаты публично ставит Троеручице свечки в рубль, – «э? думаю себе: это уже оказательство! Это уже человечёнок смелости набрался».
– Сохранив всю свою глупость, – вставил рабочий Коростелев, присутствовавший при разговоре. Он молча слушал Уткина, оперев на руки большую волосатую голову.
– Пусть и сохранив: ежели она природная, то где ее потеряешь? А ежели благоприобретенная, то… смелость и ее может, как нашатырем, вывести из человечёнка. Повторяю: «Это уже смелость!: – сказал я себе, проведав про Ария, – «в особенности, при казначейском существовании», и приказал себе: «Уткин, примирись с человечёнком. Кто его знает, может быть, если не человеком, то человечиком будет: следующая ступень после человечёнка!» И примирился.
– Усиковы – ненадежный элемент, – сказал Коростелев.
– Все, друже, у кого выпали волосы, надежны, – усмехнулся Уткин, – не вырастут.
– Он еще на колокольню лазит – дúлин-дóны разводит.
– И я бы полез, да одышка: не могу – голова кружится. И Коняев звон любит.
– Очень жаль.
– Ну, пожалей, да и прости, – мягко сказал Уткин. – Бывает, что у человека все волосы выпали; помада, которою он их помадил, ему уж не нужна, а он все ее держит в баночке. Не может человек жить без помады. Ты уж на нас не сердись за помаду, Михалыч: волосы все равно не вырастут. Это я тебе не пьяный говорю, пьяный я бы сделал добавление.
– Какое? – спросил Коростелев.
– В трезвом виде я его не излагаю. А сегодня, к удивлению моему, я опять, кажется, останусь трезв.
– Почему? – спросил, улыбаясь, Коняев.
– По уважительной причине. Скоро буду сам сём. Нужно создавать запасной фонд на первоначальное воспитание.
– А ты сократил бы, – сказал Коростелев.
– Не могу. Принципиально не могу. В этом выражается мое деятельное участие в борьбе пролетариата против буржуазии: посильно умножаю ряды пролетариата.
– А сам в них не стоишь? – спросил Коростелев с усмешкой.
– Куда уж нам! Ноги трясутся. Это вы: «Ряды вздвой!» Дождусь ли, когда скомандуете: «Налево кругом, марш!»
Уткин простился и ушел. А Коростелев сказал Коняеву:
– Усикова велела бы своему снять красную-то рубаху: к чему это? Баба умная, а не поймет. Еще со службы его сгонят. Нужно, чтобы он служил. Хорошее место – стол в казначействе: никому в голову не придет там искать. Ты бы ей сказал. У меня сегодня кружок. Черт! Брошюр не хватает. Треплют очень. Переплел бы ты.
– Давай, – сказал Коняев.
– Принесу. Прощай.
– Я с тобой до угла. Мне к Демерше книги нести. Заказ. Они вышли вместе. Коростелев пошел на фабрику, а Коняев на Мироносицкую, к бывшей артистке Демерт, с ворохом книг под мышкой.
Демерша жила в особняке, с всегда опущенными шторами. У нее было два занятия: кошки и чтение.
Кошки, переехав от Тришачихи, чувствовали себя превосходно. Они заняли угольную комнату. Демерша навешала по стенкам старые свои ридикюли и сумки, – и устроила из стеганых ватных одеялец и ковриков «котовые гнезда». Каждый кот получил свое собственное обиталище. Утром коты сходили к завтраку: Демерша собственноручно разливала по фарфоровым блюдечкам молоко и расставляла блюдечки на полу в виде круга: коты спускались из своих гнездовий – и, рассевшись вокруг блюдечек, завтракали. Таким же образом совершался котовый обед: на блюдечках подавалась печенка. Коты, с переездом от Тришачихи, были переименованы: вместо Васек, Машек, Барсиков и Мурок появились Премьер, Пьеро, Пушкин, Горький, Тенор. Коты плохо откликались на новые имена, – и только один рыжий голубоглазый кот, носивший прежде кличку Пушок, рьяно откликался на новую кличку: Пушкин.
Когда Анну Осиповну Демерт спрашивали, почему она заполонила себя котами, она отвечала, хрипя (от ее, когда-то знаменитого, сопрано остался только тонкий, тягучий хрип):
– Ах, мой друг! Я положительно в восторге от них. У них есть огромное преимущество перед людьми: я живу с ними уже полтора года – и еще не слышала от них ни одной глупости, ни одной сплетни! Ушам своим не верю: никогда и ни одной! Я вполне довольна их обществом.
Другое занятие Анны Осиповны было чтение. Она была самый читающий человек в городе, – но никогда не брала книг из общественной библиотеки, ни из дворянского собрания.
– Книга из библиотеки – это публичная женщина, – говаривала она, – которую может иметь всякий и на которой всякий оставляет свою грязь. Какая гадость!
Она жила на пенсию – и тратила деньги на котов и книги. Она выписывала горы книг на трех языках и получала несколько журналов. Сидя с ногами в качалке, устланной мягоньким беличьим ковриком, она брала с вертящегося книжного столика книгу и, поднеся ее к близоруким глазам (ни очков, ни пенснэ она не признавала), брезгливо всматривалась в ее заглавие и внешность – иногда она, не разрезав, просто бросала книгу под стол, иногда же принималась разрезать ее ножиком из слоновой кости с головой Отелло на рукоятке, нюхала страницы, – почитав там и тут, также забрасывала книгу под диван. Из-под дивана книги шли прямо в печку. Это было ненарушимое правило.
Но та книга, которая ни сразу, ни при первом разрезывании не летела под диван, – та читалась ею внимательно, тонким карандашиком наносились на поля отметы. Так прочитанная книга ставилась в особый шкаф. Если через некоторое время, взяв вновь эту книгу, Демертша находила интересным перечесть несколько страниц или даже отмеченный текст, – книга оставалась навсегда, ее отдавали в переплет; в противном случае, книга сжигалась. Таких, оставшихся жить, книг, было немного, – и когда к Демертше, при «конце времен», явилась «кулькомиссия» реквизировать «огромную ее библиотеку» для нужд общегражданских, то библиотеки, к удивлению членов «кулькомиссии», не оказалось, а был обнаружен небольшой шкаф с книгами, по содержанию своему не представлявшими особого интереса для «кулькомиссии».
– Старье! – воскликнул председатель комиссии, рабочий Павлов, – и половина не по-русски. А где же остальные книги? Спрятали?
– В печке! – спокойно ответила Демертша.
– Позвольте, гражданка, вам не поверить, – отвечал Павлов построже, – и предложить указать место, где, того, они спрятаны. В противном случае…
– Ах, мой друг, – отвечала со скукою Демертша. – Говорю вам: в печке. Не держать же всякий хлам!
«Кулькомиссия» не поверила, обошла весь дом Демертши, влезала на чердак, спускалась в погреб – но книг не нашла.
Спросили горничную Демертши, ахавшую от страха Аксинью, и она «повинилась»: «Жгла книги, по барынину приказу – жгла!»
– Дура ты, и барыня твоя, – решил Павлов. – Книги жгли! Обеих бы вас в сумасшедший дом, впрочем, и так надеяться надо, скоро с голоду подохнете!
Предсказание Павлова не замедлило исполниться: и Демертша, и Аксинья, действительно «подохли»-таки с голоду, а книги ее попали в кооператив на обвертку воблы и селедок.
Коняев введен был в дом Демертши Тришачихой после того, как обновил он Авессаломову книгу, и Демертша сделалась его главной давалицей. Демертша платила отлично, но одна в целом городе – требовала работы изящной, любовной, тонкой, и это нравилось в ней Коняеву. Ее выбора книг, даваемых в переплет, он не одобрял или не понимал, но для него было наслаждением слушать ее объяснения, чего ей нужно от переплета, ее замечания, – он побаивался ее требовательного глаза, но доверял ему, и радовался, если этот глаз с удовольствием смотрел на его работу. На этот раз он принес ей «Мысли Паскаля» (черная кожа с серебром), «Манон Леско» по-французски – розовый батист с корешом из белой шагрени, старенький альманах 20-х годов «Северную Лиру» с первыми стихами Тютчева (корешок: оливковый сафьян) и томик Верлэна (светло-зеленый шелк, корешок: белый сафьян). Коростелев, посмотрев на книжки, – когда Коняев обвертывал их в бумагу, – сказал:
– Белендрясы. С жиру.
Коняев засмеялся и, завязав, сказал:
– Какой жир: она – как палка, худа.
– Ничего не значит. Ум в жиру.
Демертша встретила Коняева, как всегда, в передней, подала руку – и, кутаясь в черную шелковую мантилию, провела в кабинетик, где стоял шкаф с книгами. Она села в качалку, с беличьим ковриком, а ему указала на стул. Она была очень худа, лицо было в особых, вялых морщинках от грима, – бледное, мялое, осунувшееся, – но у нее оставались бодрые, черные брови над большими, умными, карими глазами, – и в выражении глаз еще было что-то детски удивленное.
– Вы принесли, милый друг, сегодня чудесные книги, – сказала она своим неизменным хрипом, еще когда Коняев не развернул книг. – У вас (она заглянула в записную книжку) сегодня Паскаль, Manon Lescaut, молодой Тютчев и Верлэн – самый правдивый из философов, самый пленительный из романов, и два поэта – самый мудрый и самый грешный.
Она рассматривала переплеты, поднося их к близоруким глазам:
– Паскаль у вас вышел хорошо, мой друг, просто и строго: он и сам был простой и строгий… Вы не читали?
– Не читал, – ответил Коняев.
– Напрасно. Есть по-русски. Вы глупости читаете, как вся молодежь… А вот Тютчев, – «Северную Лиру», – я ошиблась: сафьян тяжел для маленького формата, а вы мне не сказали, мой друг. – Вы знаете, какие книги надо читать? – Верлэн так себе, вы не очень тонко его сработали.
Коняева заинтересовал вопрос, и он, не ответив о работе, спросил:
– А какие надо читать книги?
– Только те, которые вы переписали бы сами от руки, если б не было глупого Гуттенбергова изобретения, мой друг.
Коняев улыбнулся. Он в последнее время читал почти только те книги, которые переписывал собственными руками: но вряд ли их пожелала бы сохранить Демертша.
Демертша встала, достала из ридикюля деньги, и подала Коняеву. Потом подвела его к треугольному столику, на котором лежала стопочка книг.
– Вот я вам приготовила, мой друг. Это не очень к спеху. И не очень интересно, как переплеты: все в бумагу, темно-зеленую, корешки – черные. Бывают книги – праздники, бывают книги – будни. Эти – будни. Но нельзя без будней.
Она улыбнулась, но Коняев не поддержал этой улыбки, и она соскользнула с ее лица.
– Когда строили Темьян, Некто, – кто хотите: Бог или черт, – Некто сказал: «да будут в нем всегда будни» – и будни застыли навсегда. Я получаю пенсион, на который я не могла бы жить в столице и покупать книги. Здесь я живу и читаю. У меня нет буден. И еще в городе их нет только у четырех человек.
– У кого же? – из любопытства спросил Коняев.
– Я вам скажу, милый друг. Вы, наверное, удивитесь: у юродивого Сидорушки, у расстриги Геликонского, у Испуганной и, возможно, у звонаря Василия в соборе. У меня нет буден потому, что у меня книги, у Сидорушки, потому что он ищет слезки: занят, не видит буден, у Геликонского – душа закрылась от буден одиночеством и добротой, у Испуганной есть ее Испуг от Спаса, и она читает свою книгу: у нее не может быть буден, у Василия будни истребляет звон. Любите вы, милый друг, звон?
– Люблю, – отвечал Коняев.
– Это чудесно, что есть звон, – сказала Демертша. – Я даже не верю, что это выдумал человек. История звона очень темна. Я читала, я искала. Ничего нет. Ничего неизвестно. И зачем звон? Бесполезное человек не мог бы создать. В Темьяне нет музыки.
Коняев подумал, что, когда идешь летом по улице, всюду играют на гитаре, на балалайке и даже на фортепиано, и всюду ревут граммофоны.
Демерт открыла портсигар и предложила Коняеву. Он не курил. Она закурила сама.
– Музыки в Темьяне не может быть: музыка уничтожает будни. А Темьяну будни нужны, как воздух. Праздника он бы не выдержал, и растаял бы от праздника, как грязный снег от солнца. И вдруг – эта музыка с неба. Милый друг, вы понимаете, что звон – это музыка… И ваш Василий… вы его знаете?
– Знаю, – отвечал Коняев.
– И ваш Василий – музыкант. Художник. Он – артист. Никогда не надо говорить человеку, что он – артист. Он не должен себя называть так. Тогда будут будни. Тогда исчезнет праздник. Нужно, чтобы в небе совершалось чудо, – каждый раз чудо, одно и то же, новое – и старое, вечно старое чудо! Чудо – это как соловей.
Далекий всплеск вечернего звона докатился до окна, – и переплеснулся через открытую форточку в комнату. За ним другой, третий всплеск, – и звон лился, а люди замолчали, и не мешали ему литься вольно и нежно в грустное и тесное жилище человеческое.
Так прошло минуты две, три.
– Это – чудо! – произнесла Демертша с грустью и радостью. – Это – музыка!
Она как бы очнулась и протянула руку Коняеву:
– Простите. Задержала вас. Впрочем… вы и сами слушали.
Коняев вышел на улицу и, повернув голову в сторону звона, слушал долго. Потом пошел к себе, но не раз обертывался в сторону – и, остановившись, подставлял ему лицо, и дышал этим дыханьем…
Всякий раз после этих остановок Коняев обертывался вокруг себя: не видел ли кто?
Но никто не видел. Улица была пуста. Ветер взмывал пыль. Звон несся вольно и высоко.








