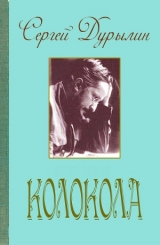
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
5.
Когда распоп Геликонский слег в постель – был небольшой жар и кружилась голова, – он прямо сказал домашним:
– Ну вот, умирать я буду.
Жена – высокая, с вплотную, туго причесанными седыми волосами, худая, тихая – подошла к постели, взяла расстригину длинную и легкую руку, пощупала пульс и, не возражая, спросила тихо и покорно:
– А может быть, ошибаетесь, Серафим Иванович? (Она говорила ему всегда «вы», а с другими про него – «они»).
Он улыбнулся ей приветливо:
– Кажется, не будет ошибки…
Она внимательно посмотрела ему в лицо. Вспомнила давние материны слова: «кому умереть, у того поллица тенью от ангелова крыла покроется». Показалось ей, будто нет на его лице этой тени: оно было светло и ясно. Но ничего не сказала, помолчала – и спросила:
– Может, вы мне сказать что-нибудь хотите, Серафим Иванович? – сказала – и потупилась.
– Все сказано, Машенька.
И добавил, помолчав:
– А вот хочу еще звон Власов слышать. Позвонил бы Василий. Попросить бы.
– Теперь великий пост начался, Серафим Иванович. Не отказал бы он.
– Попросить бы. Под воскресенье. Хочу в последний раз послушать. Будто с неба он.
– Там услышите, – сказала Марья Ивановна и заплакала.
Она приткнулась лбом к стенке крашеного стула.
– А как не услышу? – с тихою строгостью спросил расстрига.
– Услышите! – отозвалась, рыдая, Марья Ивановна.
– Верил и верю: Бог милосерд! – твердо произнес расстрига и крупным, медлительным крестом перекрестился на образ. – Не плачь. Полно. А здешнего-то, колокольного-то… еще услыхать хочется. Я ведь в звон и родился, в самую обедню, – и умереть бы привел Бог под звон… Послушать бы.
– Попрошу, – сказала Марья Ивановна и утерла лицо платком.
Февраль был снежен и метельлив. Патрули днем и ночью ходили по городу. Все углы улиц пестрели постановлениями Темьянского Совета Рабочих Депутатов за подписью председателя Коростелева. Голодные козы, становясь на задние ноги, лизали клейстер из картофельной муки, которым были приклеены объявления, – слизывали и жевали и то постановление Совета, за подписью Коростелева, которым, под страхом штрафа, запрещалось владельцам коз выпускать их на улицу ввиду того, что означенные животные портят и срывают расклеенные постановления Совета Рабочих Депутатов. Метели опять, как год назад, охватывали Темьян крепким, воющим, белым кольцом. За этим кольцом было другое, еще более крепкое и зажимистое синее кольцо голода: оно охватывало Темьян мертвой петлей. В городе не было керосину, муки, крупы, соли. На станции разгрузили три случайно забредших вагона подсолнухов – и подсолнухи выдавали по продовольственным карточкам. Купец Пенкин, в оборванном ватном пальто, ходил по главной улице и лущил подсолнухи.
– Что это вы? – спросил его на ходу встретившийся Ханаанский.
– А вот-с, семячки щелкаю, – по распоряжению начальства. Дощелкаем, тогда и зубы на полку положим.
Ханаанский, озираясь по сторонам, шепнул ему, – как из полы в полу передал:
– Скоро к черту эти семячки! Слышали? С Мусатихи-то? Говорят, белые степью идут. Белые продовольственные поезда на разъезде № 31 уже заготовлены…
– Улита едет, когда-то будет, – огрызнулся Пенкин, и щелкнул семячком. – Подохнем до тех пор.
– Ну, нет. Это верно. Прощайте. Бегу в Наробраз – воду в пролетарской ступе толочь.
Ханаанский убежал, а Пенкин продолжал шествие с семячками. Ему встречались знакомые и незнакомые – и все замечали: Пенкин семячки лущит по-пролетарски.
Усиков с портфелем нагнал Пенкина, – он служил теперь в Финотделе, – и бросил на ходу насмешливо:
– Моционируете?
– Да-с, моционом занимаюсь… Для успокоения желудка.
– Хорошее дело. Налог платить будете, 35000?
– Нечем-с, разве семячками, вот.
– Придется реквизировать обстановку и все прочее.
– Милости просим-с.
Усиков пожал плечами и обогнал Пенкина.
Какой-то красноармеец остановил его и сказал, добродушно улыбаясь:
– Папаша, ты что это семячками-то защелкал? Али вкусны показались?
– У вас научился. Всю Россию заплевали
Красноармеец удивленно на него посмотрел.
Н углу Дворянской стоял Коростелев, председатель Совета. И разговаривал с хромавшим Коняевым. Оба были в солдатских шинелях. Коростелев посматривал на шествие Пенкина; он видел издали, как с Пенкиным останавливались Ханаанский, Усиков, красноармеец. Когда Пенкин поравнялся с ним, Коростелев повернул к нему худое, бритое лицо, со шрамом, перечеркнувшим, словно синим карандашом, левую щеку, – и сказал:
– Вы эти демонстрации ваши оставьте, гражданин Пеникн.
– Помилуйте-с! – залепетал Пенкин. – Какие-с демонстрации? Прогуливаться – врачом мне приказано из Здравотдела-с, а ежели семячки, то строжайше получены по карточкам. 4-ая категория. Номер пятьдесят тысяч восемьсот…
– Проходите, – прервал его Коростелев, – не попадайтесь мне на глаза…
Пенкин свернул на Дворянскую – и выбросил горсть семячек в сугроб.
Марья Ивановна видела, как Пенкин щелкает семячки. Тришачиха встретилась ей около собора и указала на Пенкина:
– Вот, милая моя, гляди, какое у нас веселье. Именитые купцы щелкают семячки по будням. А волки на нас, чай, округ города зубами щелкают: скоро, скоро им Егорий нас на зубы даст.
Нагнулась над ухом Марьи Ивановны и прошептала:
– Переменил Господь закон – и человека порешил зверям в снедь дать. «Хиникс пшеницы за динарий», сказано: а и пшеницы-то уж и не стало: семячки вместо нее. Апокалипсис превысили мы грехами своими: тó нами деется, чегó и тем не открыто.
И, не попрощавшись, она прошла, спокойная и худая. Девушка шла за нею в черном платке, и несла пук восковых свечей в бумажке.
У собора Марья Ивановна встретила Василия. Он нес к себе на колокольню узел с кусочками кожи и старой резины от калош: никто в городе не шил обуви из нового, выискивали старье и шили из него обувь странного покроя: полусапоги, полугалоши. Старожил Хлебопеков говаривал, обуваясь поутру:
– Уповательно, возвращаемся к временам, предшествовавшим царю Гороху. Донников, Степан Степанович, бывший статский советник, обучается плести лапти. Аборигенов, Авдей Алексеевич, магистр канонического права, приобрел мастерство – щипать лучину в целях осветительных. Читаю книжонку: «От лучины к электричеству». Имеет ныне цену уже только историческую. Библиографическая редкость, ибо ныне кругооборот времен: «От электричества к лучине».
Марья Ивановна поклонилась Василью и проговорила:
– Я к вам от Серафима Ивановича…
– Болен, я слышал, – поклонился ей Василий.
Марья Ивановна не удержала слез:
– Скоро долго жить прикажет…
Но совладала с собой и передала просьбу расстриги.
– Хорошо. Под воскресенье позвоню, как просит, – ответил Василий.
Марья Ивановна поблагодарила, простившись, было с ним, пошла, но он вернул ее и, улыбнувшись ей глазами (губы были у него неподвижны), произнес:
– Скажите: позвоню. Сам долго жить, должно быть, скоро прикажу.
Ближе подошел к Марье Ивановне, пристально глядя на нее, – она даже отступила на шаг в притоптанный снег, – и сказал, глядя на моложавое еще, худое, с румянцем лицо ее:
– Покойница жена моя тоже, когда умирала, к звону прислушивалась. Давно это было, а вот вижу, как она слушает. «Меня, говорила, будто моет звон…» – «Что ты, говорю, Маша, разве звон – вода?» – «Не вода, отвечает, Вася, а чище воды…» И голову опустила, и молчит. Уж подумал я: не обидел ли чем? не так что сказал? – А она подняла голову, и губы у нее от слабости белые, и шепчет:
– Не понял ты. Не тело – звон душу моет. А часа через два и скончалась. Вот вспомнил теперь…
Василий отвернулся от Марьи Ивановны и повел рукою по бровям – потом повернулся опять к ней, подправил узел с сапожным товаром, который держал под мышкой, и сказал:
– Что-то жена-покойница стала в последнее время часто вспоминаться. То – несколько лет и во сне не видал, а то и во сне вижу, и так вот, как сейчас, вспоминаю. Видно, указано ей – звать меня к себе в прочный домок.
И поплелся на колокольню.
В ближайшую субботу Василий звонил обоими Власовыми звонами. Протоиерей призвал его к себе после всенощной и сказал недовольно:
– Не ко времени раскошествуешь. Смотри, запретят звон за твое многозвоние. Радости пока никакой ни в чем не вижу, чтобы звонами разливаться. И так, как куры, моченый горох клюем.
А расстрига Геликонский, лежа на постели, слушал и плакал, и не пытался скрыть своих слез от домашних.
«Омывает душу», – вспомнила Марья Ивановна Васильевы слова, смотря на Серафима Иваныча от притолоки двери.
Расстрига знал, что она тут и смотрит на него, но молчал, пока был звон, а потом, когда звон погас, как закат за окном, он подозвал Марью Ивановну и сказал ей:
– Не летит, а улетает, – и, помолчав, ждал, поймет она или нет, и, поняв, что поняла, докончил: – и улетел…
Он умер дня через два, в угрюмую, старушечью по вою вьюгу. Она трепала седые, тонкие косма об окна, рвала их пряди об оконницы, когда он озабоченно отмахнулся рукой от чего-то, уронил руку на грудь и утих. Глаза кстати закрылись сами собой: в доме не было медяка, которым можно было бы закрыть их.
В городе было неспокойно. Откуда-то шли белые, но никто не знал, откуда. Раздавались то там, тог тут случайные выстрелы: будто кто-то, хитро скрывавшийся, выдавал себя от нетерпенья – и полз, все полз кольцом к голодающему городу.
Священник из слободки служил над расстригой панихиды, но никто, кроме семьи, не был за ними. Боялись идти через город в слободку: одни страшились вьюги, белым пламенем охватившей город, других останавливали слухи, будто воры по всему городу расклеили предупреждение: «Были шубы ваши, а такого-то числа стали нашими».
Василью нездоровилось.
Он стоял за панихидой и смотрел на расстригиных детей.
«Которые же его, а которые – только ее?» – думал он, переводя глаза с высокого молодого человека, лет за 30, в кожаной порыжелой куртке, – на девочку, лет 15-ти, в ситцевом платье с лиловыми разводами, как на обоях. Она была младшая, он – старший. «Машинист», – решил Василий, глядя на его худые, промасленные в линиях ладони руки. Машинист не крестился, а девочка плакала. Промасленная, крепкая рука легла, сзади, на ее белокурые волосы, она обернулась – и пуще заплакала. Псаломщик, – в ватной куртке, – строго посмотрел на нее и подхватил возглас священника:
– Покой, Господи, душу усопшего раба твоего!..
«Раба твоего», – повторил Василий, и посмотрел на расстригу. С детски заострившимся носиком лежал он в гробу, – в простом продолговатом ящике из тонких тесин. На одной из них сквозь легкий слой охры проступало: «Вес нетто – 20 пудов. Сызрань…» Острый носик был неподвижен, – и покорно, неподвижно было все тело, в белом коленкоре. «Раба твоего».
«Мой, твой, свой, мóйкаемся, свóйкаемся на земле, – вдруг уяснилось Василью, – а все, до одного – до одного, – задержал он понравившееся ему своей точностью слово, – все – Твóешки». Так перевел он себе: «раба Твоего», – и ему стало легко и даже приятно глядеть на неподвижного, покорного Серафима Ивановича в белом.
За окном, где-то совсем близко, раздался выстрел – точно кто-то ударил хлопушкой возле рождественской елки, – и ударил по-детски, неумело.
«Машинист» подбежал на секунду к окну, священник участил возгласы, все другие пошептались, и лишь Марья Ивановна – высокая, седая, в черном кашемировом платье, пахнувшем нафталином, продолжала чинно кланяться, колебля огонек тоненькой восковой свечи, которую держала в левой руке, обернув кончиком платка.
– Покой, Господи, душу усопшего раба твоего!... – с тревогой, скороговоркой пел псаломщик.
– Да, твой, твой, – точно уверял кого-то Василий, – все – твоешки… Чего тут!..
Посмотрел на черную и седую Марью Ивановну и решил, что она знает это. И это было хорошо.
Псаломщик тушил свечи у гроба, а священник, разоблачившись, подошел к машинисту и сказал:
– Хоронить будем завтра. Время нынче…
Он посмотрел на его кожаную, порыжелую куртку – и не сразу нашел подходящее слово:
– Неудобное. В 9 часом обедня, – закончил он и поклонился.
– Хорошо, – отвечал машинист, и подергал младшую сестру за тоненькую косичку, беленьким язычком завивавшуюся на затылке. Она улыбнулась ему и отвела его руку от косички.
Ночью вьюга утихла, но небо как будто еще ниже спустилось над землею, тяжелое и гнущееся от снеговой грузности. Василий мог не вставать ночью к колоколам и не звонить в Плакуна, как звонил всегда во время сильной вьюги. Он спал тревожно: что-то шумело над ним. «Что же бы это шумит?» – подумалось ему; не раскрывая глаз, он стал соображать. «Дошýмок пошел» – ответил он себе. «Дошýмок» – жизняный остаток – мать объясняла, когда отец умер: перед смертью тоже все мурело над ним, от жизни вот эстолько осталось, с котиный носок, – и жизнь вся, весь шум жизняной, в носок котиный вошел – и шумит, дошумливает напоследок. Жизнь конец свой чует. В дошýмок, широкая, свернулась».
Утром Василью надо было звонить к обедне, и он не мог пойти на похороны Серафима Ивановича. Голоса колоколов показались ему хмуры и будничны, и опять над ним шумело. Когда он кончил благовестить к «Достойно», он прислушался к этому шуму. «В ушах, – решил он. – В ушах звон. Глохну, что ли?»
С колокольни город белел мертво и угрюмо. Еще угрюмее был белый округ полей, запуганных белой пустотой – бескрайней, безгранной, безóбразной. Василий присмотрелся. «Белые оттуда придут»… красным на смену». Он усмехнулся. «А то белое – он посмотрел на белый окоем, – всех сменит: и белых, и красных, и всяких». Он оделся потеплее. Валенки, серые с накрашенными на голенищах красными петухами, показались тяжелы и делали ноги вялыми, слабыми. Полушубок, наоборот, показался, легок и узок, будто шит на прежнего молодого Василия, – и было даже приятно влезать в него, как будто в его рукавах застряло что-то от прежнего Василия, певуна-сапожника.
Василий спустился с колокольни. В ушах шумело. Ныло где-то у сердца. Идти на кладбище, где похоронили Серафима Ивановича, надо было через весь город. Несколько раз останавливали патрули. Красноармейцы зябко спрашивали: документ! – Василий лез за пазуху и доставал бумажки. Красноармеец вязнул в неразборчивом, слепом тексте. Василий подсказывал ему, тот отдавал бумажку, и Василий шел дальше. Шел долго по полупустым улицам. Начинало вьюжить, пробегали по земле маленькие снежные завирушки, когда Василий пришел на кладбище. Оно было то самое, на котором была похоронена его жена. Он без труда разыскал могилу Серафима Ивановича. Высился невысокий, желтый под белым, холмик. Снегом заносило людские следы, и желтые пятна, накрашенные песком. Василий поклонился ему до земли и не сразу стал с колен. Снежок подхлестывал ему под полушубок, – и с поля несся широкий посвист крепчавшей метели. Встал с земли, постоял с непокрытой головой над могилой, стряхнул с волос пухлую пену снега, надел шапку, пошел прочь, но не домой: догадался, что могила жены должна быть недалеко. Огляделся – определил глазами направление, по которому надо идти к могиле. Не было протоптанной дорожки. Он пошел по целому снегу, – и сразу почувствовал, как непослушны и слабы ноги. Валенки глубоко уходили в снег – и с трудом высвобождались. Он едва дошел до могилы. Когда не надо было идти, из полушубка выходило застрявшее молодое, прежнее – Васильево, и облегало его тело под полушубком. Ему сделалось почти легко, и этой легкости не мешало, что на сердце был холодок оттого, что кто-то подпиливал сердце тонкой ледяной пилкой.
Василий помолился над могилой и помянул вслух:
– Упокой, Господи, рабу твою…
Взвой холодного ветра не дал докончить: «Марию» – залепил горло и на секунду оборвал дыханье. Василий двинул ногами: тяжесть увеличилась, а легкое, прежнее – Васильево, опять ушло куда-то в рукав полушубка. Он огляделся по сторонам. Смеркалось. Темнота падала, как снег, густо, непрерывно, повсюдно. С поля взвивались и винтили в воздух снежные сувóи. Василий перекрестился и шевельнул валенками. Он с усилием разыскал протоптанный след от могилы Серафима Ивановича, вышел на него и побрел до ворот кладбища. Устав, присел на скамейку, смахнувши снег рукавицей. Посидел; отдохнул и побрел короткой дорогой, переулками, к Соборной площади. Улицы и переулки были пусты. Гудела метель. Хлопала ставнем. Опять, и еще чаще, останавливали его там и тут на углах патрули. Встретился на Семинарской доктор Пастухов в енотовой шубе, в бобровой шапке со снеговым верхом. Путаясь в ее полях, он брел с кожаным чемоданчиком. «Должно быть, к роженице вызвали», – подумал Василий: «извозчика не нашел». В первый раз ему пришло в голову, что в городе не стало извозчиков.
На углу Семинарской и Беличьей ветер хлестанул Василья в лицо, в бок, в спину. Он поперхнулся, закашлялся, зашатался. Выла метель истошным, стобабьим воем.
– Звонить надо! – пронеслось в голове Василия. – В полях-то что делается теперь! Целый обоз снегом закроет. Вóйко и снежно. Часа уже три, как надо бы звонить.
Он остановился, прислушался к посвисту, вою, заплачке вьюги – и подтвердил себе строго: «следовало». Он попробовал быстрее передвигать валенками, но, как только это сделал, крепкий холодок больнее кольнул его в сердце. Он пошел тише.
Было темно, когда он вышел на Соборную площадь. Вьюга завертывала на ней широкую, крутую снеговерть. Василий попробовал было пересечь площадь кратчайшей дорогой к колокольне, но ветер и снег вернули его к линии домов, где было тише, и он пошел к колокольне обходом. Ветер, как голодная белая лайка, подвывал здесь из-под ворот.
У колокольни намело невысокий сугроб. Василий перешагнул через него, и очутился возле железной дверцы, ведшей на колокольню. Дверь была затворена. На ней висел крупный замок, а пониже замка – болталась тяжелая сургучная печать квадратиком. Увидал – не поверил себе: ступил шаг назад, – и наткнулся на вышедшего из-за угла красноармейца с ружьем. За ним, поодаль, шел другой, маленький, в волочившейся по снегу шинели, краснорожий, сизоглазый.
– Ты чего здесь? – окликнул Василья первый красноармеец, высокий, суховатый, и, прилаживаясь, готовился снять с плеча винтовку.
– На колокольню… Звонить… – еле выговорил Василий, задыхаясь.
– Отзвонил, – откликнулся второй красноармеец и засмеялся. Смех, словно винтиком, пробуравил снежеть.
– Проходи. Нельзя на колокольню, – спустив ружье за спину, ответил первый. – Видишь: запечатано.
– А звонить… Звонарь я.
– А может, ты знак подать хочешь врагу пролетариата? Есть такие, которые звонари-провокаторы. К стенке их звонить ставим… – Обернулся к товарищу и крикнул:
– Обход кончай!
– Есть! – ответил маленький.
Они пошли по площади наперерез вьюге.
Василий остался перед колокольней. Он не слышал, как вьюга донесла ему чей-то старательный окрик, звавший его по имени. Что-то шумело над ним. Он поднял голову, чтобы лучше расслышать, что шумит: звон ли это над ним, или медный перегýд вьюги. Помешал разобрать церковный сторож, Павел: он дергал за рукав и объяснял что-то. Долго Василий не слушал объяснений: ему все хотелось разгадать шум; нашел разгадку: «Дошумок дошумливает» – и усмехнулся ей, и тогда стал слушать сторожа и сразу все понял: запечатано Советом. И еще что-то говорил сторож. И это легко было понять: зовет ночевать к себе. Василий покачал головой: Не пойду. – и побрел от колокольни. Сторож крикнул ему вслед: «Как хочешь, а то ночуй!»
Вспомнил, вот также вот звал его когда-то ночевать Николка, когда умерла жена, а он не остался и ушел с колокольни. Он пересек площадь, качаясь от усталости. Холодок в груди был даже приятен. К Коняеву он легко достучался. Коняев был дома. Кипел самовар на столе.
– Что ты, Василий Дементьич? – приветливо спросил Василья Коняев – и тут же поморщился и потер себе лоб, точно отгоняя комара: – Ах, да, колокольню сегодня запечатали!
Виновато улыбнулся Василью и развел руками:
– Ничего не поделаешь, брат. Не о тебе, конечно, речь, но ведь все возможно… Бывали, знаешь, сигнализации. Мы в кольце. Приходится. Осторожность. Временная мера. Пока.
Он хлопотал с чаем. Когда протянул стакан Василью, – глянул на него и вскрикнул с жалостью и будто с облегченьем:
– Да ты просто болен, Василий Дементьич! Лихорадка, что ли?
– Болен, – ответил Василий и усмехнулся. – Дошумок дошумливает.
Коняев удивленно посмотрел на него.
– Что? В ушах шумит?
– Да, в ушах.
– Вот я и говорю, что лихорадит. Я постелю тебе. Выпей чаю, ляжешь, согреешься. Ах, черт, жаль, хины нет! Хорошо бы на ночь…
– Ничего не надо. Лягу.
Коняев уложил Василья на свою постель, а сам постелил себе на полу.
Ночью Василий ворочался на постели и тяжело дышал. Коняев проснулся.
– Что с тобой? – спросил он.
– Не хорошо мне. Отвези в больницу.
– Да ты и здесь, Василий Дементьич.
– В больницу, – строго повторил Василий.
Коняев посмотрел на него: худой, согнувшийся, сидел он на кровати, свесив ноги, и большой палец левой ноги у него странно поджимался и разжимался. Коняев не возражал, спросил только:
– Утра подождешь или сейчас?
– Подожду.
Утром Коняев с трудом разыскал ломового извозчика – и с помощью матери уложил на розвальни Василья и отвез в больницу. Его не хотели принять: больница была полна тифозными.
Лежали в коридорах, на лестницах. Коняев показал свой мандат: член Темьянского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов. Приняли. Положили в палату № 8. Врач посмотрел Василья и бросил фельдшерице:
– Кто его знает. Вероятно, испанка. Впрочем, Испания эта известна: голод и холод.
Василий лежал до вечера молча, с закрытыми глазами, в забытье. Он умер на рассвете. Последних слов его некому было услышать. Да их и не было: он слушал далекий-далекий звон. Он знал теперь, умирая, что то, что шумело над ним, было не дошумок, а – далекий, призывавший его звон. Когда он прислушался, пришел, – окончился и звон.








