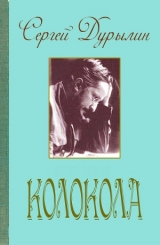
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
6.
Из задних ворот Ходуновской фабрики был выезд в Пýщину слободку.
В слободке, в маленьких розовых и желтых домиках, с геранями и фуксиями на окнах, жили «девушки». Днем «девушки» работали на фабрике, а по вечерам и по праздникам принимали у себя гостей. Эти «домики» были самые приличные во всем городе: в каждом домике жила одна, две и редко три девушки, и, соответственно этому, полагалось число гостей в вечер: оттого домики славились как тихие и пристойные. Все было по-семейному: гостя встречали приветливо, поили чаем, ставили закуску, девушка была в чистом, простом, ситцевом платье, фуксии тянулись с подоконников своими алыми с белыми висюльками, канарейки умильно плéнькали под потолком, лампадка горела перед образами. Когда у каждой девушки было по гостю, двери домика запирались, и на всякий стук новых гостей давался ответ: «Дома никого нет!» С улицы окна закрывались ставнями. Приказчики из города, молодые купеческие сыновья, учителя гимназии и семинарии порывались не раз войти в число постоянных гостей к девушкам из Пýщиной слободы, привлекаемые уютом и чистотой домиков. Но, после нескольких жестоких столкновений на путях к девушкам с ходуновскими рабочими и конторщиками, установилось молчаливое правило: девушки с Пущиной – только для рабочих и служащих с ходуновской фабрики.
Был, рассказывают, как-то летом, целый штурм Девушкиных домиков пришедшими из города приказчиками и семинаристами. Сговорившись, собрались, когда уже закрыты были ставни у девушек, – и, рассыпавшись по всем домикам, разом постучались в запертые двери; разом получили ответ: «дома нет!» – и разом же принялись разбивать двери. Ходуновские рабочие не приняли осады: они вылезли из домиков через окна, – и напали на осаждающих с тылу. Через несколько минут – городские отступали, – и Космачев, высокий рабочий, босой, в разорванной рубашке, с полуголой грудью, стоя на крыльце одного из домиков, выкрикивал им вслед:
– С легким паром! Наше при нас и останется, а вы к поповнам своим идите да к приказчицам! Тут для пролетариата только! Пролетарская плоть веселит пролетарскую кровь!
Когда вслед отступающим поднялись легкие дымки пыли, Космачев заорал вдогонку:
– Пару поддать не прикажете ль? Березовой кашкой попотчевать с еловым маслицем?
С этой решительной победы ходуновских городские не смели ходить в гости на Пýщину улицу: первым запретным домиком была трехоконная избушка, выкрашенная в полосу желтой и белой краской, в которой жила Фигушка, из бумагопрядильной: с нее начинались ходуновские девушки.
К девушкам ходили холостые рабочие и служащие, и, обычно, за работой, днем же, уславливались: «приду к тебе». Допускалось, что, по заранее сделанному уговору, рабочий приводил с собою приятеля из городских, но это бывало редко.
Ходили к девушкам и Коростелев, и «энциклопедист» Павлов, и изобретатель Васенков. Белокурый Павлов, ходивший в голубой рубахе, даже приносил к девушкам свою «Энциклопедию». Он давно уже вырезывал отовсюду, где только мог, из газет, журналов, отрывных календарей и печатных обрезков, поднятых с полу, всевозможные сведения, – и наклеивал свои вырезки в алфавитном порядке в тетрадь. На заглавном листе тетради было написано конторским почерком:
«Инциклопедия рабочаго пролетария Павлова. Трудами рабочего класса» и добавлено: «исключительно».
«Инциклоп-ед-ию» Павлов приносил к девушкам, и, сидя за самоваром с девушкой, – читал ей вслух.
– Прочтем сегодня на букву «Не».
«Не следует пить много чаю. Ученые утверждают, что в чае содержится особый яд – теин…»
Павлов прерывал чтение и совещался с девушкой:
– По моему, тут опечатка, и нужно: «чаúн», от слова «чай». Есть яд и от кофея – кофеин. Вот оттого и нужно – чаúн. Он снимал с шеи, висевший на веревке, обмусоленный карандаш, – и исправлял в «Инциклопедии»: «чаин». Прочитав и поправив, подставлял Маше чашку, пил чай в прикуску и заключал:
– А мы пьем. Пролетариат живуч. И вреду не вижу. Буржуазии же вреден.
И переходил к следующей статье в «Инци-клопедии».
– «Навар в супе может быть питательнее, если…» – Ну, это кухонное. Дальше «Наполеон». Слушай, Маша, Двунадесять языков. «Наполеон на острове Св. Елены ежедневно кушал за завтраком два яйца всмятку…» Два яйца! А был знаменитым завоевателем. А мы жрем, жрем… Пролетариат! – презрительно заключал Павлов и листовал страницу за страницей. – Слушай дальше. «Просвещение в Болгарии» – это из отрывного календаря я вклеил. – «Просвещение заметно распространяется в Болгарском княжестве… Обыкновенно, в культурных странах принято судить о распространении просвещения по числу выписываемых произведений печати. Так, например, болгарский князь прочитывает до 300 газет в день…»
– Врут это, – говорила Маша. – Что ж у него только и дела, что газеты читать?
– В газетах он политику проходит. Прием утиснения пролетариата.
Почитав «Инциклопедию», Павлов брал гитару и напевал, поглядывая на Машу, перетиравшую чайную посуду:
Чайник чистый, чай душистый.
Кипяченая вода!
Милый режет лимон свежий,
Не забуду никогда!
– Да, нарежешь! – отзывалась Маша. – Лимоны-то ныне кусаются. Ты, что ль, на лимон мне принес?
– А, может, и на апельсин?
– Дождешься от вас! Как же! – ворчала Маша. Убрав посуду, она просто предлагала:
– Гудок ждать не будем. Выспаться надо. Айда в постель! Прýнди-прýнди балалайку оставь!
И они шли в ее комнату.
Павлова девушки любили и иногда просили: «Найди у Клопедии, нет ли от веснушек средств каких… Да еще от таракана. Одолел: и в ухе, и в супе…» Или: «Почитай про луну: правда ль, на ней Каин Авеля убил?»
Павлов отвечал: «Необразованное суждение несознательного пролетариата», – но читал, что попадется, из «Инциклопедии». Девушкам он приносил и деньги, и гостинцы, но иногда и сам брал у них взаймы.
Изобретателя Васенкова, служившего на фабрике монтером, девушки уважали, но не любили и побаивались. Он появлялся у девушек редко, но приходил всегда спозаранку и уходил незадолго до фабричного гудка, который был в 7 часов. Придя, он прежде всего клал на комод девушке в конверте бумажку, – и неизменно объявлял:
– Честность расчета есть гарантия успешности дела.
Это было неприятно девушкам, и сначала они отвечали Васенкову:
– Не обижайте!
Но он отвечал на это:
– Честность и предупредительность не есть обида, – и продолжал делать по-своему.
Положив деньги, он присаживался к девушке и занимал ее разговорами. Чай всегда пил вприкуску, и, когда ему хотели положить в стакан сахару, он отстранял и объяснял:
– До накладки я еще не дошел. Когда изобретенье мое будет принято, тогда буду пить внакладку. Мечтаю: пять кусков. Существует несколько способов пить чай. Есть способ – пить чай впрослышку: слышали, де, что с сахаром пьют чай люди добрые, вот с этой прослышкой и пьет. Затем – идет способ пить вприглядку: видит, что вот, в окне, у купца Смирягина, сахарную голову колют, – и пьет жидкий чай с этой приглядкой: это повкуснее, чем впрослышку: слюньки текут. Третий способ: вприщупку: перстом коснись, а дальше не моги. Четвертый: вприлизку: разрешается сахарок лизнуть, но отнюдь не откусить. Я на этом способе долго задержался. Но преодолел – и теперь пью пятым способом – вприкуску.
За чаем он рассказывал о своем изобретении, которое трудно было понять девушкам, и объяснял, что женится, когда изобретение будет принято и дадут патент, а пока – он улыбался, примаргивая глазами – пока: «ваш гость-с!»
После изобретения он переходил к обсуждению профессий, – и перебрав все, какие знал, заканчивал легким вольномыслием:
– Самая хлопотливая профессия – у Господа Бога: все делай и все угождай. И без заработной платы.
Улыбался, растягивая рот, – и заканчивал, обращаясь к девушке:
– А самая приятная – ваша. «Любви все возрасты покорны».
Тут же вставал, расшаркивался, благодарил за чай и приглашал:
– А не приступить ли?
И уводил с собою девушку в ее комнату. Приходил он всегда в чистом белье, вымытый, причесанный.
Коростелев позвал как-то Коняева к девушкам. Коняев густо покраснел и спросил, запинаясь:
– И ты ходишь?
– Хожу.
– Я не пойду. Матери давно обещал… И жениться хочу…
– А природа обещала тебе… не ходить? – насмешливо спросил Коростелев. Ответ ему был и не нужен: он продолжал: – Если бы не пошел я, не пошел ты, пошли бы другой, третий, четвертый, – пошли бы из города. Проституция женщин, при низкой заработной плате и несознательности пролетариата, явление неизбежное. Капитализм обращает женщину в товар так же, как нашу мускульную силу, а так как мускульная сила женщины не может представлять такую же ценность, как наша, то ей приходится неизбежно подрабатывать. Ты – или я – лучше пусть девушки принимают нас, чем тех, из города: мы здоровее их, честней заплатим и не обидим. Одного класса! – усмехнулся Коростелев.
Девушки принимали Коростелева приветливо: он был вежлив, нетребователен и платил хорошо. Но он никогда не шутил и не пел с ними, как Павлов, и не рассуждал, как Васенков. Он выпивал стакан чаю, выкуривал папиросу, рассказывал при этом какой-нибудь анекдот про фабричную администрацию – и, обняв девушку, уводил ее в комнату. Он уходил скоро, немного за полночь, – и, когда на другой день встречался со своим приятелем, чертежником Туськиным, на его вопрос, почему не приходил вчера в библиотеку, отвечал, смеясь глазами:
– Отбывал физиологическую повинность.
Ходил он по преимуществу к одной – к Татьяне Мурзиной, – голубоглазой брюнетке, жившей у родной тетки, также работавшей на фабрике. Но, если Татьяна была занята, шел к другой, свободной.
Сильно выпивши, – что случалось нередко, – Танька жаловалась девушкам на Коростелева: «Как на службу ко мне ходит! Словно к машине, черт!» – И однажды, хоть была свободна, она отказала ему со злости. Он повернулся и пошел к другой.
Коростелев избегал только одну из девушек – ту, которую звали Фúгушкой. Ее домом начиналась запретная для городских улица девушек.
Туськин звал к ней Коростелева, находя, что у ней всех чище, но Коростелев морщился:
– Лампадками пахнет. Был я раз у ней. Забыл спички, – раскурил папиросу о лампадку. Она ничего не сказала, только вылила масло из лампадки, налила нового, фитиль переменила, и зажгла. И когда в постели лежала, лампадку тушила. Не люблю святош.
Туськин, рыжий, смеялся и качал с сомненьем головой:
– Она каждую субботу в баню ходит, и вообще гигиенична. Ежели религия способствует гигиене – признаю санитарное значение религии. Ибо мы живем по-свински.
Однажды Коростелев возвращался под утро на фабрику с собрания в городе, у Усиковых, где читали последние заграничные партийные брошюры. Он шел по Пущиной. Солнце всходило за рекой и кропило розовым, жидким золотом крыши домов и купола церквей. Птицы наперебой толковали о том, что солнце встало.
Коростелев шел, напевая что-то; в улице было пусто. Солнце стучалось лучами в запертые ставни, разрисованные пунцовыми розами.
Вдруг Коростелева окрикнули:
– Поди сюда.
Он обернулся. На одной из лавочек около ворот сидел Уткин. Глаза у него были красны; он примахивал на себя воздух красным бумажным платком.
– Поди сюда, – повторил он, когда Коростелев подошел к нему. Он взял его за плечи, ткнув платок себе за пазуху, и посадил рядом с собой на лавочку. – Слушай.
Коростелев прислушался: из города несся тонкий, нежный звон.
– Ну, звонят. Ну, что ж?
Уткин покачал головой.
– Я на фабрику спешу. Скоро гудок. Да и тебе надо идти. Чего ты тут?
Уткин придержал его рукой и переспросил:
– Звонят? Только-то?
– Только. Хочешь, еще прибавлю: людям спать не дают.
– «Спи, кто может, я спать не могу!» – выкрикнул Уткин.
– Слушай. Три с четвертью минуты вниманья. По-американски точно: с четвертью! То есть пятнадцать секунд, не более. Ты где был?
– Отсюда не видать, – сказал Коростелев, легонько усмехнувшись.
– А я, где был, отсюда видно, – спокойно промолвил Уткин. – Вон где! – он ткнул пальцем на крайний домик, из тех, где жили девушки. – У Фигушки был.
– Для умножения пролетариата? – с насмешкой спросил Коростелев. – Производство на стороне.
– Жена умножила пролетариат не в соответствии с ростом заработной платы. Двойни родились, младенцы Марфа и Мария. Воспитательный период должен протекать вдвойне. Значит, я к жене – ни! ни! Но одиночества не выношу. Впрочем, без идеологий… Я пришел сегодня к Фигушке, – и это есть факт. Но речь не о нем. Факт неинтересен. А знаешь ты, кто такая девица, зовомая Фигушка?
– Знаю, – сказал Коростелев. – Будет болтать. Пойдем на фабрику.
– Сейчас пойдем. Есть люди, которые чувствуют себя всюду прокурорами; и есть такие, которые почитают себя за свидетелей: они не говорят, а сообщают, не разговаривают, а дают показания. И есть – самомалейшее число! – такие, кои чувствуют себя непременно обвиняемыми.
– Ханжи и святоши! – вставил Коростелев.
– Нет. Это чин особый. И вот была некая девчура, – понимаешь: волосы – вороново крыло, а сама – с ноготок, – и звали ее, должно быть, Аннушка. Это в точности неизвестно. И вдруг спросил ее поп на Законе Божьем: «Скажи, чем питались евреи по пути в землю обетованную?» – Надо бы сказать: манною, а она, перебрав в голове своей все яства земли обетованной: финики, смоквы, фиги, акриды, саранча, – ответила: «фигами!»
– Ну, да как же! фигами! – батюшка рассердился, – сама ты после этого Фúгушка, мать моя!
С тех пор и пошла Фигушка вместо Аннушки. И вот, с этой Фигушки началось у ней, – так домышляю я, – это самообвинительное самосознание., – будто обвиняемая она в разных инстанциях, – то у мирового, то в окружном, то в судебной палате, – но постоянно! Отсюда покорность! Я, пакостник, за покорность ее люблю! Знавал я неких, которые, посетив ее, говаривали: «Это даже скучно! Ни разу не нéтнет: женщина, которая «нет» не знает, не интересна». Они правы, ибо они молоды. Мне же нужна покорность…
– Чертова пакля тебе в рот нужна! – обозлился Коростелев. – Пойдем. Выпил ты. Доведу до дому.
– Пакля нужна. Не спорю. И получу и, несомненно, получу ее, через недолгое время. Но необычайная наша встреча, при восходе солнца, на необычайные признания и разрешает. И вот – пакли я достоин, несомненно, ибо всю ночь я ее покорность испытывал, и даже до такой подлости дошел, что спросил: «Не мать ли тебя, Фигушка милая, такой покорности научила, не с молоком ли ты матерным ты свою покорность всосала?» Побледнела на скверность мою, но ничего не ответила – и головой покачала. Должен я был принять это за ответ, и значит, и тут покорность! И вот, когда я за ночь отъелся покорностью ее, – и уж окончательно в нее уверовал, и обнаглел, – и вдруг она мне говорит этак, отстраняясь, строго и твердо:
– Ну, теперь, ступайте-с!
– Куда ступайте?
– Домой-с. Я больше с вами не буду.
– А, бунт, что ли, подняла?
– Нет, – отвечает, – не бунт, а слушайте…
Замолчал я – и тут только заметил: звонят. К утрене в соборе звонят.
– А я, – говорю, – за дальнейшее буду платить, как за сверхурочное…
– Нет, – говорит, – ступайте. Звонят.
– Ну, и пусть звонят. – Это уж я нарочно говорю: все понял, а испытую. – Я тоже позвоню, – и портмоне достал.
– Ступайте, – говорит, – и так твердо, и так непокорно сказала, что оделся я и ушел, и вот здесь сижу – и звон слушаю. Слушай!
– Нечего слушать. Слýшано, – сказал со скукою Коростелев. – Пойдем. А не хочешь – один уйду. Сейчас гудок.
– Нечего? Врешь! Есть ли Бог – я не знаю. Был бы – вероятно, списал бы в убыток Уткина, Сергея Никифорова. Но есть человек – это уже несомненно. И есть дробь человеческая. Процент человека в человеке: ноль целых и три сотых, ноль целых и одна тысячная. В десятичных долях. Остальное – материя, пляска атомов в человеке. И вдруг-с, – удар на колокольне – и ноль целых и три сотых – к черту. – И вместо десятичной дроби – единица: человек полностью, и с властью (ибо без власти человек не может быть человек): «Ступайте-с!» – и Уткин, прогрессивный и сознательный, – ступает. И на крыльце обернулся, и шляпу приподнял – и полным именем-отчеством: «Прощайте, Анна Ивановна!» Но – ни слова: не отвечено! Нет! Заметь: не посмел сказать: «до свиданья!», но «прощайте». – И все-таки не отвечено.
– Пойдем, – решительно встал Коростелев и, ухватив под руку Уткина, потянул его с собою.
– Идем, – согласился Уткин. – Но…Как много дум наводит он! – Он ткнул пальцем в небо, где протекал далеко, далеко, недоступной рекою светлый утренний звон.
Близко, длительно гудок перервал Уткина, и Коростелев потащил его под руку, спеша на фабрику.
В это время одинокая женская фигура стояла на заднем крыльце крайнего на Пýщиной домика – и молча прислушивалась к звону. Когда гудок перервал звон своим назойливым воплем, она вытерла глаза платком и ушла в дом.
Через несколько домов, на таком же крылечке, стоял ветхий старик в рваном ватном халатике и так же слушал звон, и так же плакал. Это был расстрига Геликонский.
7.
Когда Тришачиха в первый раз прочла Авессаломову книгу до конца, она пошла на кладбище – служить панихиду по Авессаломове.
Была весна. Снег еще лежал всюду за городом, но бурел, слабел, падал от слабости глыбами под гору. На кладбище орали грачи – черные на белом, как деловитые мужики в черных поддевках. Недалеко от ворот Тришачиха увидела юродивого Сидорушку: он чинил снегом лицо у большой бабы из снегу, обточенной отовсюду ветром и теплом.
– Что ты, Сидорушка? – спросила Тришачиха.
– Плачет, плачет, плачет, – отвечал юродивый, и тер бабе снегом глаза, сделанные из углей.
– Не к добру это! – Плакать нам, бабам, – отметила про себя Тришачиха Сидорушкино дело.
Отслужив панихиду, она пришла домой и задумалась над Авессаломовой книгой: начинать новое чтенье или подождать?
– «Быти вскоре», – решила она, – и положила ждать того, что должно быть.
Летом вокруг Темьяна горели леса. Над городом висело серо-пепельное покрывало, сквозь которое просвечивал зловеще алый испод. Пожары скручивали Темьян хлесткой петлей, пытаясь задушить его, – и подступали так близко к городу, что раза два Василий на соборной колокольне принимался бить в набат, думая, что горит в слободках. Пожарная команда скакала на край города – и возвращалась оттуда уныло и медленно. Казалось, колокол предупреждает о готовящейся близкой беде, но беды еще не было и тем было пугливее и томнее. Соборный протоиерей Промптов призывал к себе Василия и выговаривал ему строго:
– Ты стар становишься, Василий Дементьич. Делаешь панику: бьешь в набат без огня. Потише надо.
Леса кругом горели и горели. Выгорело несколько десятин ржи, взолоченной в изумруды лесов. На реке сгорела баржа с нефтью, – и, разлившись, нефть пылала пятнами по реке, – и огненные островки, дразня языками туман и липучую серую гарь, носившуюся над рекой, – плыли по воде.
Это уже знала, чтó значит, Тришачиха.
– Пала, пала на реки и воды Полынь звезда горькая, – и зажгла воды многие! Возжáждем.
А о пожаре, пожравшем несколько десятин ржи, кратко отозвалась:
– Взáлчем!
В середине лета разом подохли все коты у Демертши. Подохли они оттого, что Мавруша, Демертшина повариха, которой отказали потому, что пропадали серебряные ложки, исполнила собственное свое пророчество о котах:
– Пропадайте и вы, треклятые! – и отравила их мышьяком.
Но и эту гибель объяснила Тришачиха тем, что пала Полынь звезда на землю, – и горечью губит тварь, словесную и бессловесную, начало же гибели – с бессловесной. Демертша выслушала ее и сказала:
– Никого теперь не буду держать, ни одной твари. Пусть люди грызут самих себя. Нужно бы издать закон, по которому на версту запретить человеку приближаться к животным.
Комната, где жили коты, оставалась пустой и была заперта на замок.
Однажды Демертша, приняв от Коняева вновь переплетенные книги, сказала ему:
– Кроме тех книг, которые печатают, я знаю, существую такие, какие переписывают от руки. Принесите мне таких, если можно.
Коняев улыбнулся и сказал:
– Не интересно вам…
– Принесите! – настойчиво повторила Демертша.
В следующий раз Коняев принес ей три-четыре брошюрки, отпечатанные на гектографе, а через неделю Демертша возвратила их ему и сказала, щуря близорукие глаза:
– Это не то. Это не стоит переписывать… Впрочем, и печатать тоже не стоит. Тут все о вещах. Но прекрасных вещей в жизни очень мало. То, что прекрасно, доступно всем: небо, солнце, звезды. Ну, что, например, я хотела бы взять себе из тех вещей, которые есть в домах в Темьяне? Ничего! Прекрасное и ценное нужно еще создать, и затем уже думать о том, как его распределить между людьми. А тут – она указала на брошюры, – заботятся о распределении, тогда как нéчего еще распределять: еще ничегó не создано.
Коняев ей не возражал. Прощаясь, она сказала ему:
– Конечно, я не права. У всякого свое, что он хочет переписывать, и надо только, чтоб оно у него было.
Пожары еще обвивали Темьян огненным кольцом, как случилось то, к наступлению чего все отнесли Тришачихины вещанья:
– Быти вскоре!
Была объявлена война.
Темьян загудел торжественным звоном, воинскими сигналами, командными криками на соборной площади, учащенными свистками паровозов и пароходов.
У Тришачихи, торжественной и строгой, не переставая, раздавался бабий вой. Утешать – ей не хватало уже слов. Она пекла пресные хлебцы, резала их треугольниками и подавала плачущим женщинам. Положив ломтик на стол под образа, она щепотью солила ломтик из деревянной солоницы с красным крестом и приговаривала: – Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как эта соль хлеб белый солонит и крепит, так и тело белое раба Божия – имярек – да осолится от всякой порчи, от пули и штыка, на крепость укрепится, на радость возвратится. Аминь.
Она подавала кусочек осоленного хлеба плачущей с наказом:
– Хлебец высуши, в ладанку зашей, и сама мужу (или сыну) надень.
И эти хлебцы действовали на плачущих, – да на тех, о ком плакали, – сильнее, чем утешительные проповеди красноречивого протоиерея Промптова в соборе.
Почти все девушки из Пущиной слободки перебывали за это время у Тришачихи: они провожали на войну своих постоянных гостей, и навесили им на шею ситцевые ладанки с осоленным хлебом.
Ушли на войну Павлов, Космачев, Васенков с Ходуновской фабрики, ушел переплетчик Коняев.
Провожая Павлова и Коняева, Коростелев шепнул им с доброю усмешкой:
– Вы, ребята, там не очень уж старайтесь-то: «живот класть за отечество», а привозите его обратно: пригодится: пролетарская плоть будет в цене. Да и того… там, у «врага и супостата», там тоже пролетариат ведь действует… Так вы… как бы это сказать? поснисходительнее.
– Ладно, ладно, – отвечал Павлов. – Не агитируй, тевтон германский!
– Заходи к матери, – попросил Коняев. – Черт! Жаль ее: плачет.
– Зайду. А на прощанье по Пýщиной прогуляться не хочешь? – поддразнил его Коростелев.
– Не хочу.
Целуясь на прощанье с Уткиным, Павлов сказал:
– Уж ты, утешь, товарищ, там, коли что… Восполни ряды пролетариата…
Уткин угрюмо отвечал:
– Самому кого-нибудь просить об этом придется.
Он заплакал.
Юродивый Сидорушка, весь в желтоватой седине, провожал эшелоны. Он подавал солдатам гнилые яблоки, которыми его снабжали доброхоты на базаре, – и перестал уж искать Богородицыны слезки. Ходил он постоянно с мокрым лицом; когда лицо просыхало от июльской жгучей жары, он мочил себе лицо водой из луж, возле колодцев, или помоями, чем попало, – и ходил всегда мокролицый… Это не нравилось многим. Купцы в Сундучном ряду советовали ему:
– Ты бы утерся, Блажен муж. Не патриотическая у тебя мокрота на лице. Послушай-ка, как немца отделали…
Сидорушка останавливался у лавки и прислушивался к чтению военных телеграмм. Вслушавшись, он качал головой, и из ближайшей лужи снова мочил себе лицо.
Его зазывали в дома и предлагали чистое полотенце:
– Оботрись.
Он брал полотенце, опоясывался им, – но шел по-прежнему с мокрым лицом.
– Плачет, – вздыхая передавали друг другу женщины с Обруба и из слободки.
Старый Вуйштофович, повеселевший после манифеста верховного главнокомандующего о Польше, неодобрительно качал головой и, угощая пристава Субботкина, указывал на юродивого:
– То – не время…
– Ерунда, – отвечал Субботкин, закусывая семгой и слушал, как Вуйштофович скрипел вполголоса:
– Éще Пóлска не згинéла.
Стали прибывать первые партии раненых. Город был большой, но в нем не оказалось больших и сколько-нибудь удобных помещений для лазаретов: люди жили тесно, неудобно, грязно. Отобрали под лазарет Общественное собрание, залу Общества трезвости при фабрике Ходунова, еще два-три дома – и больше размещать раненых было некуда. Тогда Демертша предложила свою большую в шесть окон комнату, освободившуюся после котов. Предложение было принято, и в комнате развернули лазарет на десять кроватей. Заведовать лазаретом была назначена акушерка Усикова. Когда ее спрашивали:
– Как же это так, вы променяли новорожденных на инвалидов? – она поживала плечами и отвечала:
– Инвалиды тоже могут быть новорожденными.
Скоро все десять коек были замещены. В палате – так переименовали котовую комнату – было чисто, пахло масляной краской и аптекой. Коростелев зашел к Усиковой, осмотрел палату, посмотрел на белоснежных больных – это были все мужики из земледельческих губерний, голубоглазые, смирные, широкорукие – и сказал Усиковой с насмешкой:
– Поздравляю.
– С чем?
– С усовершенствованным оборудованием мастерской для починки человечьего мяса.
– Не остроумно и не верно, – отвечала Усикова. – Разве нельзя вылечить ноги, вот этому, например, Акулеву, – с тем, чтобы он воспользовался ими в обратном направлении, чем то, на которое его толкают враги его класса? Это зависит от него.
– Так вы будете лечить и направлять? – не погашая насмешки в крупных карих глазах, спросил Коростелев.
– Нет. Лечить будет доктор Радужнев, он хороший хирург, хоть и верит в Бога и в победу царизма, – а направлять буду я…
Коростелев спросил серьезно:
– А вы умеете с ними говорить? – он указал на раненых мужиков.
– Я умею за ними ухаживать, а они больные, – и этого достаточно, чтобы уметь с ними говорить.
– Ну, действуйте, – посмеялся Коростелев и, пожав руку, ушел.
Демертша читала раненым. Она приносила с собой народные рассказы Толстого и, поднося книгу к близоруким глазам, хриповато читала им о том, чем люди живы и как чертенок краюшку выкупал. Но мужики слушали без особого интереса. Часто они, терпеливо дослушав чтение, просили:
– Сестрица, напиши письмишко.
Демертша брала бумагу и терпеливо выписывала все бесчисленные поклоны, составлявшие все содержание письма.
– «И еще кланяемся Ивану Тимофеичу от белого лица до сырой земли…»
– Кто этот Иван Тимофеич? – спрашивала Демертша.
– Сынок. О двух годочках всего…
– Почему он Тимофеич?
– А как же? Тимофей я…
Раненый охал и ворочался: он видел перед собой этого Тимофеевича, а Демертше казалось глупо называть маленького мальчика по отчеству, а не просто Ваня…
Только в самом конце письма сообщалось то, что надо было, действительно, сообщить: «ранен я в ногу и нахожусь в таком-то госпитале».
«Обряд совершают» – думала Демертша про эти письма и не любила их писать. Но ей нравилось, что мужики молчаливы, и лежат, думая, что-то свое, постоянное, привычное, крепкое и простое, как земля. «Как волы», – определяла она их про себя: «думают, как жвачку жуют: тихо, молча, постоянно».
Усикова писала эти письма иначе, – и мужики любили, как она их писала. Она живо, размашистым, четким почерком, – так что мужики любовались на его «понятливость», – перечисляла все поклоны, – и понукала мужика:
– Ну, еще кому? сватье? племяннице? бабке?
– Племяшке! – обрадовавшись, спохватывался мужик. – Марфутке. Она в Трефилове за Косухиным, за Федором. Тоже, чай, взяли. Кузнец.
– Еще кому? – торопила, недоумливая Усикова: – крёсна, небось.
– Померла, третьего года померла! – сокрушался мужик тем, что нельзя уже послать поклона «крёстне».
Написанное письмо мужик брал из рук Усиковой и оглядывал с довольным видом:
– Ловко ты сработала, сестрица. Неграмотный – и то прочтет. Явственно.
– Ну, ты теперь! – тянулась Усикова к другому раненому, к третьему, к четвертому…
Скоро Демертша совсем перестала и писать письма, и читать рассказы. Она только присылала им на третье что-нибудь сладкое, но и это перестала делать после того, как однажды Усикова сказала ей:
– Мужики сладкое не едят. Сладкое им – за детское. Вы бы им на махорку давали лучше.
– Разве можно курить в лазарете?
– Выздоравливающим – можно.
Проходя молча среди кроватей, Демертша вглядывалась в их сероватые лица близорукими глазами, и шептала про себя:
– Сумасшедшее время. Сумасшедшие люди!
Мужики сменялись в лазарете рабочими, среди рабочих вкрапливался мещанин из Тулы, татарин из Казани, половой из Харькова, плотовщик из Нижнего, – но в серых халатах, в шлепанцах-туфлях, все они были на одно лицо, и всем им, рано или поздно, Усикова говорила одно и то же. Выздоровевших и выписавшихся из лазарета она направляла иногда к Коростелеву.
Впрочем, он скоро был арестован и посажен в тюрьму. На фабрике пошли строгости. А Павлов писал с войны Уткину:
«Едим мясо. Впрочем, едим пирог с грибами. Энци-клопедия, одним словом. Вижу большую несознательность. Дела, впрочем, идут к просвещению. И еще очень вóшисто, и прислал бы ты, Уткин, шерстяные портянки. И махорки».
В первый же месяц войны пришло известие, что убит в сражении ходуновский рабочий Космачев, когда-то изгнавший с Пущиной улицы приказчиков и семинаристов. Девушка, с которой он жил, Анюта Лепесткова, прихрамывая на одну ногу, прибежала, простоволосая, к Уткину с письмом в руке. Она выкрикивала какое-то старое, старое причитанье, в девчонках слышанное ею от бабки, где-то в Олонецкой губернии, – и прерывала его жалостными обращениями то к Уткину, то к его жене:
– Ой, Сергей Никитич!.. Ой, Марья Сергеевна! Ой, убили его, убили его!
Уткин хмуро молчал, перечитывая письмо, а Марья Сергеевна потчевала девушку валериановыми каплями, и шептала ей что-то на ухо. Уткин, наконец, обозлился на капли и на причет, и крикнул на Анюту:
– Тебе-то что? Ну, убили. Муж он тебе что ль? – хлопнул дверью и ушел: – Всех убьют! Все мы – чертовы куклы, цари и пешки. Всеми черт хвостом играет!
С этого дня Уткин запил.
Он пил со всеми, с кем только мог пить в Темьяне. Водка была запрещена, – поэтому он пил красное в армянском погребке – с Гришей-иллюминатором, организатором поминок по звонаре Николке, пил английскую горькую с учителем Ханаанским в семинарии, пил русскую мадеру с Пенкиным, закусывая ее груздями, пил запеканку с Вуйштофовичем, – и кричал: «Еще Польска не сгинела!» – и «Черт эту Польску побери»!
Пьянство было закончено в «Парадизе», на Соборной площади.
В соборе ударяли ко всенощной. Служить должен был архиерей. Ждали в собор губернатора, по случаю одержанной победы, о чем возвестили вечерние телеграммы, после всенощной должно было быть краткое благодарственное молебствие.








