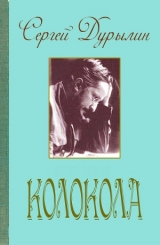
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
6.
Прошло два года.
Колокола на соборной колокольне уныло гудели под ударами, наносимыми наскоро, наспех чужими, торопливыми руками: приходящие звонари, сапожник Ванюшка и сторож Фомин, спешили отзвонить ко всенощной, чтобы, заперев колокольню, засветло добраться до дому, – а насупротив колокольни с гудевшими колоколами, в бывшем губернаторском доме, где теперь помещался Темьянский Совдеп, решалась их судьба.
Произошло это так.
Заседание Совдепа затянулось.
Председатель, Коростелев, в дымном френче, бритый, с чуть подсребренными черноватыми вихрами над кочковатым высоким лбом, был недоволен, что главный управляющий делами Совдепа, бывший ходуновский бухгалтер Уткин, затянул доклад. Коростелев наклонился к сидевшему возле него Павлову, в триковой серой блузе, и шепнул недовольно:
– И чего тянет! Еще есть текущие дела.
– У меня по Наробразу есть две штуковины, – отозвался Павлов, выводя красным карандашом домики на обратной стороне листка с отпечатанными красками этикетками заведения искусственных минеральных вод: на оборотной стороне этикеток, за неимением в городе бумаги, велось все делопроизводство Совдепа. Павлов приписал на этикетке слово. Вышло: «Красная Ананасная». Под румяным, как бабье лицо, ананасом, он подписал: «ананас» и повторил про себя: «Она нас, а мы ее! Она нас, а мы ее!.».
Коростелев заглянул к нему в бумагу, посмотрел на часы. Подстриженный наголо Уткин, в толстовке, сшитой из старого сюртука, читал и читал свой доклад, двигая словами и цифрами бойко и скоро, точно щелкал на счетах. Отщелкав, он отер синим с горошком платком лысину, помедлил минуту, и сказал:
– Извиняюсь за утомление, но пролетариат должен добиваться буржуазной точности делопроизводства. Все достижения буржуазии должны быть использованы.
Коростелев нетерпеливо покрутил остро очиненным карандашом вокруг левого указательного пальца, утомленными, покрасневшими глазами оглянул сидевших за красным сукном и выдавил из себя слова:
– У нас еще текущие дела. И они, – он заглянул в лежащий перед ним листок с этикетным минеральным исподом, – имеются у нас в достаточном количестве… Поэтому, я просил бы, товарищей, желающих высказаться по заслушанному докладу, разгрузить часть своих слов и быть определенно кратче.
– Ясно, – откликнулась фельдшерица Микула из Здравотдела.
– Кто просит слова?
Говорили двое пожилых рабочих с бывшего ходуновского завода; сказал два слова голубоглазый, широкоскулый и до безнадежности безусый и розовый красноармеец, но уперся, как в рогатку, в мудреное слово: «констатируем», которое он тщательно выводил с большим-пребольшим «н»:
– КонстаНтируем, товарищи…
Дальше не шло.
Усмешливый Павлов не усидел и вполголоса подмигнул Коняеву, сидевшему между Павловым и Усиковым:
– Законстантúнился, товарищ военный: погиб на Константúне!..
Красноармеец услышал, и совсем остановился. Коростелев пождал секунду и обвел всех глазами:
– Желающих больше нет? Нет. Беру слово себе…
Он говорил тихо, искал слов, но лепил из них выпукло и с остротцой: доклад критиковал. В конце коснулся формы доклада.
– Словесности нам не надо, – говорил он, косясь на Уткина, чинившего длинный, обкусанный красно-синий карандаш. – Удивляюсь даже, как может располагать к словесности такая вот прелестная бумага! – Он щепоткой приподнял искусственно-минеральный листочек и показал всем… – Какая уж тут словесность, когда и писать не на чем! Пишем на китайских чаях и на сельтерской. А мы – все со словесностью. Нам нужно быть кратче. Дела навалено историческим моментом и классовой необходимостью – с Кавказский хребет, а мы…
Соборный густой звон в упор ударил в это время в окна, прорвался через толстую преграду пыльных зеркальных стекол бывшего губернаторского дома – и расплылся по зале заседания, густея и плотнея, как расползающееся масло.
Коростелев нервно сжал красноватые веки глаз, дернул лицом и докончил резко свою фразу подсказанным звоном словом:
– А мы… звоним!
Коростелев сказал что-то еще, но звон его заглушил. Минуту никто не говорил. Звон наполнил комнату. Казалось, в нее вошел кто-то большой, давний, привычный, изгнал из нее всех бывших, а сам остался, – и, что странней всего, был в ней – был и вне ее: соединил комнату с площадью, с облаками, со сводами, под которыми пели: «Благослови, душе моя, Господа…»
– Не председатель, а лишает слова! – первый с громким смехом отозвался Павлов.
– Не позволят говорить, – согласился рабочий-костромич и засмеялся сочувственно – не разберешь, к кому: к Коростелеву ли, к непозволяющему ли.
– Кончить это надо, – сказал Коростелев, стараясь усилить голос.
Звон гудел медным разливом.
– В самом деле, черт знает что! Нельзя говорить. Ни лысого беса не слышно. Орать и без того надоело. На площади – ори, на заседании – ори. Чертову глотку надо! Никаких легких не хватит. Вся революция идет под поповский аккомпанемент. Ты – о международном положении, а тут тебе – «блажен муж» вызванивают…
Павлов опять вмешался:
– А какой муж блажен, товарищи? а? Тот самый, который в Совдеп не пойдет и с нами здесь не заседает. «Иже не идет на совет нечестивых». На «совет»! Прямо против Советов вызванивает.
И опять повторил свою находку костромич:
– Не позволят!
Тут встал Усиков, – маленький, аккуратный, причесанный по-старому, на косой пробор, с гороховым галстуком из-под широкого отложного воротничка синей фланелевой блузы с кармашками в виде сердечка.
– Разрешите, к порядку дня? – обратился он к Коростелеву. Тот кивнул головой. – У нас значится на повестке текущие дела. И одно из этих дел – как раз по поводу, между прочим, допустимости в наши дни культового звона. Я уполномочен сделать по этому поводу маленькое сообщение. Поэтому полагал бы сейчас не касаться этого вопроса.
– Правильно, товарищ, – сказал красноармеец. – Все по порядку периóда должно идти.
Коростелев приподнялся с места.
– Хорошо. Сперва по поводу доклада товарища Уткина. Тезисы доклада. Принять или нет? Голосую. Возражений нет? Принято. Голосую свое предложение о желательной форме докладов на будущее время. Возражений нет? Голосую. Принято. Теперь текущие дела.
– Потекли, – произнес, вздохнув, костромич.
– Товарищ, не будем развлекаться, – оглянулся в его сторону Коростелев, и нагнулся над этикетной бумажкой. – Слово товарищу Павлову: «К вопросу о переименовании улиц города Темьяна». Может быть, отложить и прямо перейти к сообщению товарища Усикова?
– Да я в двух словах, – встал Павлов. – И доклада не буду делать. Просто. – И повернулся лицом к красному сукну. – Улицы у нас, товарищи, уж больно глуповато окрещены. Дворян нет – «Дворянская», миллионов нет – «Миллионная»…
– Есть, – засмеялся красноармеец. – Миллионы есть. Все миллионщики – лимонщики!
– Повторяю: не будем отвлекаться, товарищ, – поморщился Коростелев.
– Спасская, Преображенская, Успенская – целые святцы! А то по царям: Николаевкая, Александровская…
– Екатерининская, – подсказал Коняев.
– Еще по старым чинам: Генеральная… В честь генералов. Солдатская. Теперь, после всеобщего сравнения, переменить все это надо. И Дунькину гору – тоже к перемене: говорят, это в крепостное время, Дуньку на этой горе запороли до смерти, а потом в Темьян мертвую скинули. Вносится предложение: в честь жертвы феодального произвола, в честь товарища Евдокии, переименовать: в «гору товарища Евдокии».
– Правильно. В Авдотьину, – подтвердил один из рабочих.
– Не в Авдотьину, товарищ, а в Евдокиину, – поправил Павлов. Примем, что ли?
Коростелев возразил:
– Голосовать каждое название в отдельности мы не станем. Примем – в общем и целом. Огласите, товарищ Павлов, другие новые названия.
– Миллионная – в улицу Красного Горна, Семинарская – в улицу Красной Учебы, Дворянская – в Пролетарскую, Солдатская – в Красноармейскую…
Он перечислил десятка полтора названий старых и сменяющих их новых. Тут были имена русских и иностранных революционеров.
– А затем, в целях культпросвещения и ознакомления граждан с активистами литературы, предлагается, товарищи, почтить писателей. Ясно, что рабочий класс должен подытожить им мандат классовой признательности. Никольская будет теперь улица Герцена, Спасская – улица Белинского, Успенская – улица Шеллер-Михайлова…
– Кого? – переспросил Коростелев.
– Шелера-Михайлова. Писатель известный. По трудам продукции превышает других. Полное собрание сочинений достигает слишком 50 томов. Целиком и полностью превосходит даже известного сатирика Салтыкова-Щедрина, Михаила Евграфовича: только 48 томов! По приложениям к «Ниве» видно. Коняев, чай, ты переплетал?
– Переплетал, – улыбнулся Коняев. – Да ведь Михайлов писатель не пролетарский.
– Писатель мелкобуржуазный, – пробормотал Уткин, молчавший на углу стола. Он был обижен замечаниями Коростелева. – С корытцем, с поросенком, под хреном, с сильной буржуазнúнкой, с кисейной занавесочкой.
– С производственной точки зрения, – по трудовой продукции много превосходит…
– Надо пересмотреть вопрос, товарищ Павлов, – перервал его Коростелев, поморщившись. – давайте следующие.
Перемены названий были приняты.
– Ваше слово, товарищ Усиков.
Усиков встал, подтянул галстук, вынул из портфеля бумажку, пробежал ее было глазами, положил на стол и говорил уже без бумажки.
– По вопросу о колокольном звоне я совещался как раз с товарищами из Здравотдела, из отдела охраны труда, из комиссии использования и с агитатчиками-активистами. Вопрос становится так. Звон, с этим всякий согласится, есть, так сказать, не погашенный революцией голос прошлого, в буквальном смысле слова, товарищи, – голос. Революцией лишены голоса эксплуататорские классы, помещики, кулаки, попы, – и было бы непоследовательно, что как раз эти именно классы имеют коллективный, так сказать, голос, в лице колокольного звона, – голос, как было здесь справедливо указано, заглушающий голоса партработников и представителей соввласти. Но этот голос заглушает не только наши голоса, товарищи, но и мощный голос пролетариата на площади, во время демонстраций и октябрьских празднеств. Может ли это быть терпимо? Ответ возможен один: нет. В самом деле, что такое колокольный звон?
Усиков помолчал ораторски. Крестьянин, сидевший возле Усикова, чернобородый, с приплюснутым носом, прислушался и заметил:
– Сейчас, поди, к Евангелию затрезвонят.
Усиков ответил:
– Культовый звон – это могучее средство звуковой гипнотизации масс, придуманное эксплуататорами с давних пор. Они не только всегда вооружались до зубов против трудящихся, они еще стремились, сверх того, закрепить свою власть путем гипнотического воздействия на темные эксплуатируемые массы. Загляните в историю, хотя бы местную. Кто отлил эти колокола?
Усиков указал рукой на окно, выходившее на Соборную площадь.
– Пролетариат? Крестьянство?
Мужик придвинулся теснее к Усикову и, вздохнув, произнес вполголоса:
– По деревням, дáвывали допрежь на колокол. Точно. По грошику собирали.
– Нет, – ораторски ответил себе Усиков. – Колокола отливали для этого здания (жест в сторону колокольни) не пролетариат, не крестьянство, а помещики и купцы. Первый колокол прислал был в Темьян царским правительством. Другой колокол получил народное прозвание – Разбойный: характерно! Он отлит на деньги одного купца, эксплуататора, и вот народ знает, как его назвать. Классового сознания еще нет, но классовый инстинкт уже верно, подсказывает, как назвать: «разбойничий». Третий колокол прямо указывает на то, представителем какого класса он отлит: «Княжин»: кровью крепостных мужиков куплено то золото, говорят – я не знаток, – слышится в его звоне. Самый большой колокол – тот самый, товарищи, который больше всего мешает нам говорить, – отлит известным представителем класса капиталистом – фабрикантом Ходуновым. Нужно ли прибавлять, что в его звоне – и мы его только что слышали – звенит прибавочная стоимость, отнятая капиталистом у эксплуатируемого рабочего? Звонит в звоне рабочее достояние, рабочее богатство – и, по воле капиталиста, служит средством гипнотизации, средством обмана того самого класса, у которого она хищнически отнята. Социальная природа церковного звона, товарищи, таким образом, совершенно ясна. Она контр-революционна и анти-социальна.
– Затрезвонили! – воскликнул мужик и зевнул, выказывая крепкие белые зубы.
Один из рабочих – тот, что был постарше, – рыжеватый, сутулый, отозвался мужику:
– Трезвон – чертей перегон.
Никто не спросил, откуда куда перегон. Поговорку все знали: от попа к попадье.
– Анти-социальна, – повторил Усиков. – Фабричный гудок – это, так сказать, социально полезный звук, напротив: звон колокола – это звук социально-вредный. Его нужно устранить с территории, над которой развивается красное знамя труда. Если религия есть опиум для народа, то в колокольном звоне мы допускаем, противореча себе, массовое отравление этим опиумом. Снятие колоколом поэтому необходимо. Этого требует социально-политическая гигиена.
Усиков налил воды в стакан и выпил. Коростелев слушал, откинувшись на спинку кресла. В соборе перестали звонить.
– Но этого же требует и обычная, Наркомздаравовская гигиена. Общество трудящихся имеет право на общественную тишину. Между тем церковный звон или мешает занятиям, в деловые часы, как, например, нам теперь, или лишает пролетариат необходимого отдыха в утренние часы, назойливо поднимая чем свет с постели или будя до рассвета. Все это, по заключению экспертов из Здравотдела, крайне вредно отражается на нервной системе трудящихся. Это второе, и весьма важное, основание, по которому мы не можем терпеть в наших городах колокольного звона. Но есть и третье основание. Колокола, по своему материалу (медь, олово, серебро, а кое-где даже и золото), представляют собою весьма ценное народное достояние. Пока они на колокольнях – это мертвый капитал, политические и социальные проценты с которого попадают в объемистые карманы попов и контрреволюционеров. Когда же этот материал будет спущен с высоты колоколен и поступит на заводы, в плавильные печи, и перельется в другие формы, он окажется высоко ценным для пролетариата. Мы нуждаемся в металлах. Шахты наши в значительной степени бездействуют, благодаря интервенции и белогвардейщине. Мы добудем медь для наших заводов с высоты колоколен, если нам препятствуют ее добыть из глубины шахт!
Усиков выкрикнул это, напружив свой голос, как только мог, высоко, отер лицо платочком, аккуратно сложенным в четвертушку, и положил его обратно в кармашек сердечком, откашлялся и сказал внушительно:
– Я кончил, товарищи. таким образом, вношу, по поручению активистов Здравотдела, Наробраза, Комиссии использования и Отдела охраны труда: по указанным мотивам, принять постановление: церковные колокола в Темьяне снять, а металл употребить на нужды совпромышленности, причем надлежит начать с Соборной колокольни, так как колокола, на ней находящиеся, имеют, со всех тех точек зрения, наиболее важное значение.
Коростелев облокотился на красное сукно и спросил, поглядев на зевавшего красноармейца:
– Кто желает высказаться по поводу внесенного предложения.
Помолчали.
– А мужичков бы не осердить… Конечно, темный народ, – отозвался мужик, сосед Усикова, – понятий настоящих не релизуют, только усомнения не вышло бы: как это, из колокола, из Богова металла, скажем, и ежели кастрюльку отлить? – Помолчал, вздохнул и объяснил: – За богов еще стоят, мужички-те.
Усиков покачал головой и попросил слова:
– Товарищ Дедюкин, позвольте вам возразить. Снятие колоколов – дело на Руси бывалое. Петр Первый, в свое время, велел поснимать с колоколен колокола и отлил из них пушки. Катерина 2-я, Катя Вольтерьянка, отобрала не только церковную медь, а и золото, и земли церковные. И ничего. Никто на эти реквизиции не охнул. При нынешнем же самосознании рабочих и крестьян, я мыслю, провести в жизнь наше предложение будет еще легче.
– Мужички не огорчились бы, – повторил чернобородый, пошевелив бородой. – А снять –можно снять. Очень даже просто снять.
– В деревне и не будем пока, – сказал рабочий помоложе. – С города начнем.
– Ясно, – отозвалась фельдшерица Микула.
– Не совсем, товарищ, – вдруг привстал молчавший Коняев.
Микула поглядела на него в роговое пенснэ и пожала угловатыми плечами. Коростелев поморщился. Один Уткин полусочувственно покрутил ус в его сторону.
– Я не совсем понимаю, товарищ Коняев, что вам неясно. Я предполагал, – начал было Усиков, но Коняев не дал продолжить:
– Колокола… – почти выкрикнул он, и тут же вымолвил: – Не умею я говорить. Тяп-ляп, вышел корабль – выходит. С детства я знаю, что звон – это попы зовут: «к нам, к нам, к сиротам! А с другой колокольни отвечают: «Будем! Будем! Не забудем!» И опиум – это верно. Но ведь можно от попов колокола отобрать, а все-таки их не переливать ни во что. Пусть так и останутся колоколами.
– На что они вам, товарищ Коняев? – перервал его Усиков.
– Постойте. Скажу. Я не про себя. Я про всех. В колоколе главное – звон. Колокол – не металл, не просто металлическая вещь. Хлопчик, аптекарь, верно говорит: «Это же музыкальный инструмент. Это ж – музыка». Расплавить музыкальные инструменты и вылить из них кастрюли – ну, пусть не кастрюли, а части машин, – это глупо. Если это нужно, тогда давайте реквизируем все музыкальные инструменты духовые – и превратим в металл. Но это не нужно. Колокол – чудесный музыкальный инструмент, самый демократический, потому что его слышит весь город, – и надо лишь уметь на нем играть. Важно, чтó на нем играть. Важно: у кого он в руках. Торговцев опиумом долой! К черту! Инструменты музыкальные у них отобрать. Немедленно. Теперь же. Сразу. Но инструменты все сохранить…
– Не понимаю, – пожал плечами Усиков. – Что ж вы коммунистическую обедню составите, и будешь Интернационалом на колоколах скликать к ней пролетариат?
Коротелев усмехнулся с усталостью:
– Товарищ Коняев будет скликать трезвоном на заседание Совдепа и на районное собрание.
Коняев торопливо провел рукой по русым волосам, задумчиво и внимательно посмотрел на Усикова, на Коростелева, как бы чего-то ища в их словах, – и, не найдя, горячо промолвил:
– Не то! Совсем не то! Вздор! Не поняли!
Он на минуту запнулся, но тотчас же начал:
– Видали вы, как зимой топятся печи? Дым идет. Дымкú переплетаются над домами, словно серая паутина оплетает трубы и крыши. Не могу видеть, как топят печи, как дрова стенками лежат на дворах! Возьму иногда в руки березовое полено, белое, пахучее, нежное, и примериваю его к тому, кто в печь его кинет. К мещанину Ивану Ивановичу Самохину, что ли. Примериваю на глазомер и думаю про Ивана Иваныча: «А стоишь ли ты той рощи, которую ты на себя сжег за всю твою самохинскую жизнь?» И осинки одной ты, может быть, не стоишь, а пошла на тебя целая роща березовая. За всю-то жизнь! Небо ископтил ты, землю оплевал, в речку помочился, рощу сжег. От полена – лесом пахнет, белое оно, с соком нежным, – а ты, гражданин Самохин, – смрадный плевок природе, ошибка атомов, – не более!»
– Да ты про колокола… – поморщился, но с любопытством, Коростелев. – И покороче.
– Я про колокола, – усмехнулся Коняев и схватил опущенную на секунду нить: – И вот помножьте теперь этих Самохиных на 50000 – будет 50000 Самохиных в городе Темьяне, больших, маленьких, средних, всех калибров. В сумме – не стоит одной рощи. Это уж несомненно. Доказуемо четырьмя первыми правилами арифметики. И вдруг над этими, недостойными березового полена, – звук колокола, колокольный звон. Голос радости – нашей, новой, коммунистической радости, мировой! В колокол ударили: Бум-бум-бум. Гуд идет над городом. Зашевелились Самохины, зашевелились все, не превышающие березового полена, – да что! – мы сами зашевелились… Звонят. Что такое? – Весна пришла. Солнце встало на летнюю работу. Не поповское, с елейцем, а вселенское чудо совершилось: солнце опять землю – нашу, советскую, трудовую – полюбило, и на нее, любя и плодотворя, глянуло. Зима морозом полыхнула. Радость: красный звон! Необходимость в экономии природы. Торжество природного разума. Ум атомов. Радость! Звони! Да что – времена года! Ум человека звонит вседневно, постоянно, изо дня в день радость. Солнце взошло – звони! Радуйся! Могло бы и не взойти…
– Что ты? Солнце-то? – опасливо и смешливо прервал Павлов.
– Могло бы и не взойти. Оно не на оброке, не по трудовой повинности. Выходит каждый день – факт, но каждодневная обязанность восхода – это не факт, – это наша вера, основанная на привычке нашей к каждодневности восхода. Наукой это доказано. Взошло – это наша радость, – звони, возвещай эту радость. Луна взошла – звони: и она подряду не брала у председателя на облачках выходить постоянно. Сириус загорелся. Бриллиант, оправленный в сталь. Звони!
– Разбудишь всех, спать не дашь ночью, – захохотал Павлов.
– Не спи. Раз в жизни не поспи – посмотри на Сириус. Ты никогда Сириуса не видал. Радость нам смотреть, радость, что он на нас смотрит…
Коняев только на секунду приостановился, перевел дух. Голос у него срывался. Он торопился говорить, боясь, как бы не прервали, как бы не прервал себя сам чем-то внутренним, текучим, близким ему и таким трудным для выражения.
– Я ликовал бы звоном. Когда-нибудь и возликуют. Не от природы только – радость, и от человека – радость. О человеке благовестил бы! Тишина. Будни. Серотá. Вдруг звон. Самохины, Анохины, Павловы, Коняевы подняли головы. Почему звонят? Шапку сними: в этот час Пушкин родился. Опять тишина. Опять будние дни, будние часы, будняя работа. Звон! Что значит? Луи Пастер в этот час бешеную собаку упразднил. Миллионам сохранил жизнь. Разве не радость? Вечер. Сидят, ужинают. Скука. Зевают. Вдруг звон. Почему? Голову подними. Порадуйся, человек: Ломоносов северное сияние открыл!
– Так это все и будем и звонить! – усмехнулся Павлов.
– Нет, все-то звонить не придется, товарищ Павлов: мало люди сделали хорошего на земле. Звонить часто не придется. Радоваться будем только тому, что принимаем в новую, светлую человеческую жизнь, которую мы начали строить. А такого немного. Звонить не часто будем. Но зато звон этот будет – веселый, радостный, благовест о человеке, побеждающем природу, о человеке творце, о свободном и прекрасном человеке. Этот звон поднимать человека будет из пыли, из грязи житейской.
И без звона поднимем, – сурово усмехнулся Коростелев и усмешку тут же переплавил в улыбку, которою охватил всего Коняева; прогнал и улыбку – и просто засмеялся грубым, добродушным смехом, как смеются над доброй детской пустяковиной:
– Не знал я, что ты такой звонарь, товарищ Коняев. Подумать, попы тебя подослали колокольным адвокатом. Нам не звонить, а жизнь наново строить надо. Старое все – с корнем долой! Вон! И попы еще учили, знаешь? – про новые-то меха. Это верно у них. Мы – вино самое новейшее, красное, хмельное, 90 градусов. Чистый спирт. Ни в какие мехи подержанное не вольемся: так, пожалуй, зазвоним, что небу жарко станет; колокольня не выдержит. А Петр-царь, хоть сифилитик был, умный парень был, колокола у попов отнял на пушки. Спасибо ему за науку. Ну, товарищи, поговорят, да и перестанут, – оборвал себя Коростелев. – Ставлю предложение товарища Усикова о снятии колоколов с соборной колокольни на голосованье. Кто за? Все, кроме товарища Коняева. Кто против? Никто, кроме товарища Коняева. Принято. Детали снятия выработает президиум. Закрываю заседания.
Все встали.
Коростелев закурил и потрепал Коняева по плечу:
– Не сердись, звонарь. Колоколов еще много останется на колокольнях. На твой век хватит.








