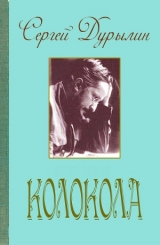
Текст книги "Колокола"
Автор книги: Сергей Дурылин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
3.
Щека и обличитель Авессаломов умерли в один год.
Весь Темьян знал, что Авессаломова сразил первый автомобиль, появившийся в Темьяне.
В эту масленицу, как всегда, Авессаломов, в соломенной шляпе, в подряснике, опираясь на посох с Всевидящим Оком, вышел на улицу обличать ристающих. Он постарел: седины его отдавали в желть, – и от худобы стал казаться еще выше; он слегка покачивался от слабости, но также бодро, как всегда, шел по улице – и вещал:
– Горе ристающим! Всуе ристаетися! Ристалище ристающих исчезнут, яко дым!..
Он шел, грозно потрясая Всевидящим Оком, мальчишки также следовали за ним на неблизком расстоянии и дразнили его вполголоса, также напутствовали его встречные приказчики: «Валяй их! Катай!» – но он и не замечал, что пророчество его начинает сбываться – и «ристающие» начинают «исчезать, яко дым». Катающихся в воскресенье на масленице становилось с каждым годом меньше. В купеческих домах давно поговаривали:
– Выставку-то эту пора прекратить. Чтó людей-то смешить?
В число «ристающих» попадали теперь уже те, у кого не было собственных «колесниц»: подгулявшие приказчики катались на лихачах, какие-то подгородные учителя трусили на розвальнях, чинно и робко посматривая по сторонам, лубяные розвальни с целым ворохом ребят выезжали в ряд с купеческими санями.
Но все-таки, хоть и оскудевшее, ристание масленичное продолжалось, – и Авессаломов мог бы благополучно довести до конца свое пророчество, дойдя до собора и закончив, как всегда, великопостным звоном к вечерне, – если бы не случилось одно непредвиденное происшествие.
Уже приближался к собору Авессаломов и оттого бодрее и грознее возглашал:
– Вскую ристаете! Ристанию время престá! – и грозил Всевидящим оком, как вдруг ристающие все, как один, взяли несколько вправо, – и, шипя, вздрагивая от нетерпения, и выкрикивая что-то грубым и властным зыком, промчалась какая-то, неведомая Авессаломову, колесница. Она была без коней и мчалась с невероятной быстротой.
Авессаломов остановился, высоко поднял Всевидящее Око и, с ужасом глядя на колесницу, воскликнул с гневом:
– Горе…
Но тут же и оборвался: колесница, оставив позади себя всех ристающих, уже скрылась из виду, оставив после себя серое облако едкого дыма. Она уносила потомственного почетного гражданина Даниила Федоровича Ходунова.
Сраженный и сокрушенный Авессаломов понял, что не было никакой возможности донести какие бы то ни было пророчества до слуха ристающих в подобной колеснице: колесница мчалась с такой быстротой, которая уничтожала пространство при самом его начале. Было ясно Авессаломову: тот, кто сидит в подобной колеснице, какой он ни будь Ахав или Равоам, навсегда недостижим ни для каких пророков, сколько бы ни вопиял их глас.
Старик продолжал стоять пред невидимой колесницей без коней, он храбро и честно выкрикнул свое: «Горе…», но пораженный явной бесплодностью пророческого гласа, охнул и с сердечным шепотом: «Антихристово безкóние» – присел на приступку ближайшего дома, – и Всевидящее Око выпало у него из рук, и валялось на снегу.
Это видели, и подивились: никогда Авессаломов не сиживал во время пророчеств и никогда не выпускал из рук Всевидящего Ока. До того дошло, что один из мальчишек, следовавший на расстоянии за прорицателем, нарушил это расстояние и, видя, что Авессаломов сидит на приступке с закрытыми глазами, до того осмелился, что дотронулся до Всевидящего Ока и, приподняв его, объявил более робким товарищам:
– Верно, свинцовое!
В тот же вечер в городе передавали, что Авессаломов «сидел» на приступке долго и охал, а поднявшись, не пошел к собору, где всегда начинал прощеный звон, – а повернул прямо в ближайший переулок и, с трудом опираясь на Всевидящее Око, побрел к себе домой, к Егорью-на-Холуях.
– Не к добру это! – встречали некоторые рассказ об Авессаломове. – Повернул и пророчествие.
Другие отвергали весь рассказ, кроме того, что Авессаломов, действительно, «повернул» домой, – и объясняли причину поворота:
– Сшиб его ходуновский автомобиль. Ходунов с вокзала на фабрику ехал, а он и попади.
Третьи решали еще иначе:
– Не Авессаломов, а Апокалипсис под автомобиль попал. Ходунов раздавил Антихриста Лимузином.
Это определение Авессломовского «поворота» сделал Коростелев, рабочий из котельной на ходуновской фабрике, – поддержали правильность этого определения бывшие у него в гостях Уткин и Коняев.
Как бы то ни было, тут и был конец Авессаломову.
Придя домой после «поворота», он не просил у дьяконицы и дьякона положенного прощения, как делал это долгие годы; поставив в угол «Всевидящее Око», молча возлег на постель и отвернулся к стене.
Племянница долго не смела подойти к нему без зова, но, наконец, когда пора была садиться за ужин, осмелилась и спросила:
– Что вы, дядюшка? Или не можется?
Авессаломов повернулся к ней лицом и сказал очень тихо:
– Прошу прощения, но встать не могу для поклона.
– И не надо дядюшка, – отвечала встревоженная женщина. – Нас простите, Христа ради.
– Бог простит, – смиренно отвечал Авессаломов. – Позови Федора.
Дьякон, добрый человек, вошел с тем же вопросом, что и дьяконица:
– Что вы, дядюшка?
И так же чинно отвечал Авессаломов:
– Прошу прощения, – и за то, что встать не могу.
– И не вставайте.
– Не встану, – спокойно и уверенно сказал Авессаломов. – Позвать батюшку, – да Тришачиху.
– Не поздно ль? Завтра бы, усомнился дьякон.
– Завтра, – согласился Авессаломов. – До полудня.
– Утром, – обещал дьякон.
– Хорошо: теперь ступай.
Авессаломов опять повернулся к стене, и закрыл глаза.
– Уж дядя-то не вечный ли отпуск берет? – не без тревоги спросил дьякон жену.
– Да ведь ни на что не жалуется.
– Нужды нет. Батюшку просит.
– Стар стал. И пост.
– Так-то так, а будто в путь собирается.
Дьякон заботливо привел утром к Авессаломову священника. Авессаломов исповедовался и причастился.
Когда священник ушел, дьякон послал жену за Тришачихой на Перегонную.
Тришачиха в собственном доме, на Перегонной, занималась плетением кружев, за которые получила даже медаль на какой-то кустарной выставке, – и жила, окруженная двенадцатью котами всех мастей, до пятицветного включительно. Женщинам, осуждавшим ее за котов и говорившим: «Лучше бы ребенка взяла на воспитание, а то работаешь на тварь, – на котов жир!» – она отвечала:
– Не гордись, матушка: кошку, хоть тварь, в алтарь пускают, а тебя, будь ты хоть расчеловек, не пустят.
Дьякон говаривал ей:
– Ты хоть бы сократила число котов твоих до десяти или б еще одного прибавила, а то не хорошо: двенадцать – апостольское число. Надо или перегнать, или не догнать до него.
На это Тришачиха возражала:
– В двенадцати-то, батюшка, «раб и льстец» завелся; истинных-то одиннадцать всего оказалось: выходит, мое число особь, – а у меня на каждый месяц – отдельная тварь. Тринадцать не прокормлю, а убавлять – что ж лишнего на голод пускать?
И дьякон в свое время одобрил это:
– Разумно и не без рассуждения.
Вся же «Перегонная» и пол-Темьяна звали Тришачиху «Испуганная». Заболит ли у кого «поддых», или начнет у младенца «головка вúснуть», – сейчас посоветуют:
– Пойти бы тебе к Испуганной. Испуганная болезнь сымет.
Полжизни Тришачиха прожила «без испугу»: плела кружева и пила чай с медом и имбирными лепешками. Но на «полжизни» «испугалась»: пошла однажды ко всенощной не в свой приход, как обыкновенно, а в собор – «точно повело меня туда, и была я ведомая, а не хожалая», – рассказывала впоследствии об этом Тришачиха, – и из-за тесноты в собор не могла войти, а встала в притворе, – и тут-то, в темноте, случился с ней «испуг»: «так посмотрел на нее, по ее рассказу, огромный, черный от копоти и времени, Спас Ярое Око, – что она грохнулась об пол замертво, – и ее оттирали свят-водой, – не оттерли, и только тогда, когда капнули ей на «чело воском от свечи, что горела пред Спасом Ярое Око», и загудел выходной трезвон, только тогда очнулась Тришачиха, – но навсегда уж осталась «испуганная». С «испугу» открылся в ней дар – лечить водой с уголька, – и утешать. Отбою не стало ей от баб и девиц, искавших утешения от ее «Спасова испуга»: она умела разговорить самое неизбывное бабье горе, осушить самую неосушимую девичью слезу с глухих темьянских окраин. С годами, увеличилась та область, в которой производила Испуганная осушку бабьих и девичьих слез: стала включать она в себя не только глухие окраинные переулки и закоулки, но и первостатейные купеческие улицы. И так много дела было Тришачихе с этой осушкой слез – потайных, соленых-соленых женских слез, которыми никогда не был безводен Темьян, – что пришлось ей думать о судьбе своих двенадцати котов: не оставалось уж для них времени у Тришачихи.
Она думала-думала и надумала. Вспомнила, что случилось по осýшечным делам зайти к ней барыне Демерт, Анне Осиповне, жившей на первостатейной Мироносицкой улице, в собственном доме. Демерт была пожилая дама, оперная артистка, потерявшая голос: она жила на пенсию. Анна Осиповна однажды посетила Тришачиху и пришла в восторг от котов: их-то и не хватало в ее особняке. Коты поразили ее тогда своей воспитанностью и чистотой.
Когда Тришачихе пришлось горько от нахлынувшей на нее солоноты женских темьянских слез, и бабы явно вытеснили котов из ее сердца и дома, она вспомнила про этот отзыв Демерши, и отправилась к ней. Она на-прямóк предложила ей своих котов в вечное владение и вызвалась перевезти их на Мироносицкую со всем их котовым имуществом, постельным, посудным и прочим.
Демерша приняла предложение Тришачихи, и призналась, что она давно мечтала об этом, но и признаться не смела. Коты были перевезены в специально нанятой Демершей карете, все двенадцать, – и водворены в особой комнате. В изящной записной книжечке Демерша собственноручно записала отобранные от Тришачихи сведения о привычках и образе жизни вновь прибывших котов, чтобы ни в чем не погрешить против них.
С отбытием котов Тришачихин дом превратился в бабий рай, – а она сама всецело вошла в должность бабьей защитницы, целительницы и слезоосушительницы. Мужья – мещане со слободок – Тришачиху боялись, потому что она сама ничего не боялась:
– Я испуганная, я от самого Спаса испуг приняла, так – сам посуди – пуглив ли мне твой испуг? Ни такéички мне твоего испуга не боязно! – говаривала она какому-нибудь мужу, грозившему ей расправой за защиту избитой им жены, – и муж соглашался с ее доводом, и на время оставлял в покое жену, состоявшую под покровительством Испуганной столь могучим Испужником.
Мужья боялись Испуганной, жены же не чаяли в ней души, и записывали в поминовение:
«О здравии рабы Марии Испуганной».
Тришачиха сразу же собралась на зов дьяконицы и пошла с ней к Авессаломову: ей не в диковинку были никакие зазывы.
Маленькая, седая, крепкая, как антоновское яблоко, даже с румянцем на обеих щеках, подкатилась она к одру, на котором лежал Авессаломов, и спросила бодровúто:
– Ну, что, раб Божий? В церквáх – бом-бом, а ты бочкóм? Вставай-ка?
Но твердо и тихо ответил ей Авессаломов:
– Не встану. Прощения прошу.
– Бог простит, – ответила Тришачиха. – Меня прости, Христа ради.
– Не встану, – повторил Авессаломов. – Прости, что утрудил. Дело есть.
Он поднял правую руку, длинную и худую, и указал ею на большую ветхую, старинную книгу в потрепанной коже, с зазелененными медными застежками, лежавшую на столе, на чистой скатерти.
– Тебе оставляю.
– Сам еще читать будешь, – сказала было Тришачиха.
– Не я, надо мной скоро читать будут, – ответил Авессаломов. – Все прочтено.
– Помолчал, – и повторил:
– Вычитано все. Безкóние антихристово.
– Беззаконие? – переспросила Тришачиха.
– Безкóние! – отчеканил Авессаломов.
– Не пойму я тебя, батюшка, – сказала Тришачиха.
– Поймешь, – отвечал спокойно Авессаломов. – Читай. – Он опять указал на книгу.
– Некогда мне, батюшка, – да и в грамоте я третий сорт, – сказала Тришачиха. – Благодарствуй. Другому бы кому оставил, что покнижней меня.
– Некому, – ответил с горестью Авессаломов. – Другим и в дом нельзя внести. Тебе – можно.
– Я не лучше других, – попыталась было Тришачиха отвести от себя чтение Апокалипсиса, – грозное и трудное, по ее понятиям.
– Читай! – строго, и даже с досадою повторил Авессаломов.
– В каждом граде должен быть единый читающий. Тебе и передаю.
– По силам ли?
– Сил Бог подаст, – тишáя, ответил Авессаломов, и прошептал: – «Колесница Израилева и кони его!»
Лицо его стало покойно и ясно. Он закрыл глаза и даже сделал движение сложить руки на груди, – так что Испуганная воскликнула:
– Да что ж ты, батюшка, ты не умирать ли собрался?
– Еще нет, – открывая глаза, произнес Авессаломов и приказал:
– Позови дьякона с племянницей.
Когда те вошли, он, указав на Апокалипсис и потом на Тришачиху, сказал ясно:
– Ей.
Племянница заплакала, а дьякон молвил:
– По воле вашей будет.
Авессаломов полежал с закрытыми глазами и сказал Тришачихе, указывая глазами на книгу:
– Обветшала. Обнови. – Он поймал еще недоуменный взгляд Тришачихи и произнес:
– В переплет!
Тут он опять закрыл глаза и уже не открывал их до последнего вздоха. Он начал часто дышать; громкое дыханье прерывалось неясными словами. Раз или два прошептал он еле внятно: « Безконие Антихристово!»
Всем стало страшно от этих слов, – и племянница, со слезами, окликнула его от изголовья:
– Дядюшка! Дядюшка! – и хотела потрогать его за плечо.
Но дьякон, стоявший в ногах, сделал ей знак, и она приняла руку.
Авессаломов двигал руками, они не подчинялись, и Тришачиха поняла, чего он хочет: она сложила руки ему на груди. Увидев это, племянница громко, с привоем, заплакала. И в это время Авессаломов чуть-чуть приоткрыл веки, и правая кисть приподнялась: – Колесница Израилева и кони его! – опять сказал он.
Кисть руки упала, веки сомкнулись, – и что-то вдруг произошло с его телом такое, что по-прежнему неподвижное, оно сразу стало иным – сурово-величественным и чужим…
– Кончился, – сказал дьякон, взглянувши на него.
Хоронили Авессаломова в среду, после преждеосвященной обедни, – за гробом его шло много народу, а поодаль следовал Щека. Когда Авессаломова опустили в могилу и могильщики подошли с лопатами, Щека шагнул к краю могилы, и бросил на гроб горсть земли…
Хлебопеков, присутствовавший неизменно на похоронах всех сколько-нибудь примечательных людей в городе, – сказал Щеке:
– Уповательно, вы отрицаете все обряды…
– Кроме одного, – отвечал Щека, – горсть земли – единственный разумный обряд: вот они, – он указал на могильщиков, – будут продолжать этот обряд, и он уже не будет называться обрядом!
– Так, – сказал Хлебопеков, – а уповательно, еще чему мы обязаны вашему присутствию здесь? Покойника вы не жаловали.
– Тому, – отвечал Щека, – что это был человек, всю жизнь твердивший одно и то же. А, разумеется, твердил он глупость.
В тот же вечер Тришачиха посоветовалась с дьяконом, кому отдать в переплет авессаломовскую книгу, чтобы исполнить его волю. Она помнила, что воля его и в том, чтобы она ее читала, но хотела начать с более легкого: с обновления.
Дьякон подумал и сказал:
– Кому же, кроме Коняева? Он – озорник, да дешево берет.
– Это тот, чья мать бубликами торгует? – спросила Тришачиха, которая была ходячий адрес-календарь бабьей половины Темьяна.
– Вот-вот.
– Скажу ей, чтоб он ко мне зашел.
На другой день Коняев, – у которого всегда было мало работы, – пришел к Тришачихе. Она его прежде всего накормила пирогом с грибами, а потом допросила строго:
– Хочешь ты дело делать?
– Хочу, – с улыбкой отвечал Фавст.
– А охальничать будешь? Заранее говорю. Скажешь: буду! – еще пирога дам – и помяни меня добром. Скажешь: не буду! – дело дам, и заплачу.
– Не буду.
– Слово крепко. И еще отвечай: можешь ты понимать книгу?
– Книгу понимать могу, а вас плохо понимаю, Марья Авдеевна.
– Это, ты думаешь, я про твои книжки тебя спрашиваю, что понимаешь ты их или нет? Так нужны мне они! Я про Книгу спрашиваю, а не про книжки!
– Про какую?
– А вот про какую.
Тришачиха подвела Коняева под образа, сняла со стола, стоявшего там, покрывало – и указала на авессаломовский Апокалипсис.
– Понимаешь ты, что это за книга?
Коняев глянул на корешок и не сразу разобрал по-славянски; подумавши, сказал:
– Понимаю.
– Ну, это ты врешь, – сказала спокойно Тришачиха. – Понимать ты этой книги не можешь. А понять тебе надо, что это книга особая, – и дело тебе будет особое. Обнови ее, да работать чтоб без охальства, и табаком не окуривай. Так можешь?
– Не пробовал, – засмеялся Коняев.
– А ты попробуй. В убытке не останешься.
– Попробую.
Ему интересна была работа.
– Уговор лучше денег: на честь работать.
– А почему не на совесть?
– В совесть-то твою не очень верю, а в честь, пожалуй, поверю.
– Ну, ладно. И на том спасибо.
Коняев сделал шаг к книге, намереваясь взять и обернуть ее в бумагу, но Тришачиха преградила ему путь:
– Да ты в уме? Сама уложу и отнесу.
Она увязала книгу в чистую салфетку и понесла к Коняеву. Подходя к его дому, она спросила:
– Да ты бóжный али безбожный? – говорю прямо: на колокол, как пес, лаять не станешь?
– Не стану, – ответил Коняев с улыбкой.
– Добро, – успокоилась Тришачиха, и внесла в коняевский дом свое сокровище. Там она строго наказала матери Коняева – смотреть за сыном, чтоб не было охальства, когда будет переплетать книгу, и чтоб табачищем ее не обкуривал бы.
Коняев добросовестно исполнил работу. И когда Тришачиха, через неделю, пришла за обновленной авессаломовской книгой, – книга желтела, отливаясь в золото, и застежки ее сверкали, как кованные из червонцев. Тришачиха была умилена – и, поцеловав Коняева в лоб, сказала:
– Ну, теперь, тебе от работы отбою не будет. Всем про тебя разблаговещу, всюду тебя введу. К Демерше сведу. Руки у тебя, вижу, золотые. Золото к золоту и пойдет.
С этого дня переплетчик Фавст пошел в гору. Его приятель, рабочий Коростелев, поддразнивал его:
– Ходунов раздавил Апокалипсис автомобилем, а ты его воскресил. Выходишь ты ретроград, товарищ.
Коняев отшучивался:
– Я только гроб ему позолотил: не встанет.
С этого же дня приступила Испуганная к выполнению дальнейшей части завещания Авессаломова: весь этот день она ничего не ела, – и, внеся в дом обновленный Апокалипсис, она положила его на стол под образами, окурила ладаном всю комнату, положила три земных поклона, со страхом разогнула книгу – и начала читать:
«Апокалипсис Иисуса Христа, его же дадé ему Бог показати рабом своим, имже подобает быти вскоре…»
– Быти вскоре, – вздохнув, повторила вслух Испуганная, – и тут же со всем своим сердцем, до глубины его глубин, поверила, что «быти вскоре» всему, тайной страшащему и гневом ужасающему, чтó заключено в читаемой книге. Она содрогнулась всем существом: тяжек долг выпал ей в жребий: читать сию книгу, – она содрогнулась испугом, близким к тому, каким испугал когда-то Спас Ярое Око, – но так же, как тогда, смиренно сложила в сердце своем и этот испуг, и эту свою волю. И запекшимися губами, – с трепещущим сердцем, – продолжала читать в обновленной авессаломовой книге:
– Быти вскоре: и сказа посла Ангела Своего, рабу своему Iоанну…
С тех пор «Быти вскоре» чуялось ей в вещаньях колокольного звона, в высоком колокольном плаче, в рыдании незримом над гробом, гибнущем в грехе и неведении. Ежедневно, с этого вечера, раскрывала она со страхом и благоговением обновленную книгу, и переходила в ней от тайны к тайне, от испуга к испугу…
«Се грядет со облаки и узрит его всяко око… Аз есмь Алфа и Омега, начаток и конец…»
– Конец! – повторяла она и принимала свое непреложное и грозное слово, – столь же грозное, как Ярое око, повергшее ее на всю жизнь в испуг…
Нет, напрасно думал переплетчик Коняев, что только новый гроб соорудил он обветшалой авессаломовской книге. За книгой сидел новый чтец. Авессаломов не умер: он только переменил уста для своего пророчества.
4.
Переплетенный Диарий хранился под половицей, в экономкиной комнате. С тех пор, как он был переплетен, Щека редко раскрывал его: переплет точно закрыл для него «Диарий» кожаной стеной. Щека изредка приподнимал половицу, раскрывал «Повесть о глупости человеческой» и читал оттуда выдержки: Аптекарь переехал в другой город, а Вуйштофович заходил к нему редко, и Щека читал один.
С переплетением Диария Щека почувствовал, что нового ему уже не начать, а в первом сделано все, что можно было сделать. Он впервые почувствовал свою ненужность, – и вместе некую злобу на переплетенный Диарий. Однажды в слезливый осенний день, он открыл «Повесть о глупости человеческой», вспомнив, что в конце «Диария» оставался чистый листок, но отыскивая листок, чтобы записать на нем дополнительную глупость человеческую, Щека напал на вклейку Коняева – и прочел ее. С большим вниманием затем отыскал он чистый листок и написал на нем своим, прямым, как забор, почерком: «Были два дурака в Темьяне – один книгу читал, а другой книгу писал; один умер, другой еще жив. Результат же многолетней деятельности обоих дуракообличителей нужно полагать одинаковым совершенно:
Если хочешь быть счастлив,
Кушай только чернослив».
Щека захлопнул «Повесть» и сунул ее под половицу, но половицы даже не прикрыл хорошенько.
В этот вечер пришел к нему Вуйштофович и привел с собою казначейского чиновника Усикова. Усиков был принаряжен: в розовом галстуке и в чесучевой «фантазии».
Поздоровавшись, Вуйштофович сел в кресло, и указал Усикову на мягкий стул рядом с собою.
– Пан затевает марьяж, – указал он Щеке на Усикова. – И у него есть к пану маленькая просьба.
Щека молчал, выжидая.
Усиков поклонился и сказал:
– Насчет луку.
Щека молчал.
– Испанского-с. Просьба: хотя бы несколько луковиц с вашей плантации, единственной во всем Темьяне. Невеста моя, Клавдия Львовна Рязанова, акушерка, обожает лук. И предъявила мне условие: «я люблю вас, но хочу, чтобы на моей свадьбе был испанский лук к селедке. Я люблю необыкновенное». Свадьба назначена, но испанского я нигде не мог найти в магазинах. И вот, по любезной рекомендации Каэтан Феликсыча, обращаюсь к вам. У вас единственная, так сказать, плантация в наших палестинах. Могу ли я рассчитывать на пару-другую луковиц, хотя бы маленьких?
Щека молчал, – а любезно изогнувшийся Усиков, играл белесыми глазами.
– В «Повести о глупости людской» у меня больше места нет! – вдруг сказал Щека вполголоса.
Усиков прервал свои любезные изгибы, обращенные к Щеке, и посмотрел на Вуйштофовича.
Тот внимательно приглядывался к Щеке, и молчал.
Вдруг Щека засмеялся и, глядя в глаза Усикову, продекламировал:
– Если хочешь быть счастлив,
Кушай лучше чернослив!
И добавил серьезно:
– Но не лук, хотя бы испанский!
Усиков постарался решить, что Щека шутит, – и нерешительно засмеялся:
– Вы остроумны, до живости остроумны, Семен Семеныч, – сказал он, опять приняв прежний любезный изгиб.
– Вы получите лук, – сказал Щека, отвертываясь от его изгиба. – Вы получите дюжину луковиц. Обратитесь к моей экономке. Каэтан Феликсыч будет любезен – проведет вас к ней.
– Чрезвычайно вам обязан. Испанский лук – был условие моего счастья, – встал и поклонился Усиков. – И не смею вас больше обременять.
– Не обременили, – сказал Щека. – Я к луку потерял аппетит. Прикрываю плантации.
Вуйштофович недовольно поглядел на Щеку, встал и решительно сказал:
– Пану Усикову время идти. Марьяж – тó есть хлопотливое дело. Идемте, пан, к пани экономке.
Они пожали руку Щеке и пошли, а он крикнул им вслед:
– А в «Повести о глупости человеческой» у меня еще осталась беленькая страничка!
На кухне Вуйштофович вежливо осведомился у экономки, здоров ли пан, – и высказал предположение, что медицинская помощь, не предрешая пока, в какой форме, была бы полезна пану. Экономка согласилась с ним и добавила, что она и сама кое-что замечает, – но не сказала, чтó именно, и принялась отбирать испанские луковицы для Усикова. Усиков принял луковицы и чувствительно поблагодарил. Вуйштофович же, прощаясь, еще раз посоветовал прибегнуть к компетентным указаниям медиков.
Экономка, седая и толстая, проводив посетителей, задумалась:
– Никогда еще своего лука из дому не выпускал. Лет пять назад, просили к губернаторскому столу – не дал, для архиерея просили – сказал: «Прошу его преосвященство ко мне отведать, коли желает». А тут – со двора выпустил лук. Не к добру это.
И она стала с этого дня следить за Щекой.
Но следить было трудно. Щека целыми днями пропадал из дому. Его видели то там, то здесь в городе. К Вуйштофовичу он не заходил вовсе.
Однажды Щека пришел к Коняеву и сказал с порога:
– Я без заказа, но имею дело.
– Войдите, – пригласил Коняев, сшивая листы «Нивы». Он сгреб со второго стула (их было всего два в горнице) ворох не пришитых еще листов – и придвинул стул Щеке.
Щека сел, не снимая своей размахайки.
– Дело вот в чем, – начал Щека. – Но тут же раскашлялся надолго. Когда он кашлял, казалось, кто-то перетрясает в пыльном мешке битыми стекляшками и камешками. – Дело вот в чем. Ваше сатирическое замечание, которым вы снабдили мою тетрадь, я принял к сведению. Сатирики обыкновенно не могут похвалиться тем, чтобы их сатирические удары, действительно, попадали в того, для кого они предназначены. Но вы, молодой человек, можете этим похвалиться. Попали.
– Бросьте, – сказал досадливо Коняев. – Глупость моя была.
– Не глупость, а – сатира. Человеколюбия не принимаю. О, далеко не глупо! Безусловно, не в бровь, и если не в самый глаз, то в веко, в веко-с, прикрывающее глаз. Собиратель глупостей, хотели вы сказать сатирою, – есть первый номер в своем собрании. Начальная строфа. Сказали – и принимаю это. Принял. Но за сим непосредственно следует вопрос: за сатирой – «Письмо о пользе стекла», как и в восемнадцатом столетии. Вопрос: кто же-с умен? Ум хочу видеть! Предъявите мне ум в Темьяне, молодой человек! Приподнимите мое веко, раненное сатирою, и предъявите глазному яблоку – ум! ум-с! И чтобы в Темьяне, непременно в Темьяне! И ум-с!
Коняев отложил на станок листы «Нивы».
– Не понимаю, – сказал он.
– Не понимаете? – Невероятно! Недостоверно, что не понимаете. Сатирический прием, не больше-с! Продолжение сатиры. Но излишне, ибо достигла цели, и следующее произведение должно быть уже «Письмо о пользе стекла». Непременно: о пользе. Стекло можно чем-нибудь заменить иным, но непременно о пользе. Пользы требую: предъявите ум! В Темьяне не огородах произрастают огурцы, капуста и репа – но не испанский лук. И вот-с – произносится вслух утверждение: в Темьяне на огородах капуста и репа, но – но! – произрастает и испанский лук. Просьба: «предъявите!» – и Щека, Семен Семеныч, предъявляет с собственной плантации: точно, испанский лук, – редкость, исключение, игра прихоти природы – но, по точнейшим ботаническим признакам, испанский, – несомненно. Вот я вас и прошу теперь, – и даже требую: капуста и репа – несомненно, но предъявите – ум! в Темьяне – ум! и чтобы выдержал ботанические признаки!
Коняев сложил листы, отошел к печке и, скрестив руки, смотрел на Щеку:
– Я написал глупость, – сказал он, тихо и серьезно. – Смальчишничал. Вы сами умный человек. Знаете, что умны. Ну, и будет. Не стоит дальше об этом.
Щека засмеялся.
– Прием! Один прием! Продолжение сатиры. Но, повторяю, она попала в веко, – и этого довольно: в глаз уж слишком бы, и опасно в отношении истечения глазного яблока и последующего окривения. Попала – и довольно. Требую предъявления ума столь же острого, питательного и культивированного, как испанский лук!
Коняев молчал.
Щека пожелал помочь ему:
– Редкостность подобного ума не должна Вас смущать, ибо и испанский лук в Темьяне редкостен, однако же был предъявлен. Предъявите.
Щека сидел и ждал.
– Оставьте, – сказал Коняев. – Чертова штука – жизнь.
Он заходил по горнице.
– Чертова, – повторил он, – кому-то другому, невидимому, а не Щеке, – и опять стал у печки.
Часы хрипло тикали и урчал около ног Коняева рыжий кот, плешивый и старый. Прошло минуть пять.
– Молчание ваше, – сказал Щека, – меня тревожит. Свидетельствуюсь: предъявление не последовало. Опасаюсь, что и не последует. Лук испанский в Темьяне, оказывается, менее редкостен, чем ум. Это есть уже элегия. Не сатира, и не «письмо о пользе стекла», а следующий род: элегия. Сатирик некогда писал сатиру: «К уму моему». Превосходная сатира: ум-с собственный поставлен вне сомненности, и через то навсегда найден достойный собеседник, с коим возможен разговор о всеобщей глупости?! С «умом» же-с о чем и разговаривать, как не о глупости?! Сатирику древнему было хорошо-с. Наше дело значительно хуже-с. Ум не предъявлен. Собеседник отсутствует. Свое имущество в черепной коробке объявить умом, чтобы с легкостью и надписать: «к уму своему» – мы не решаемся. Я же и наипаче: принял справедливую сатиру в веко, – и молчу: – и не принимаю, если обращенное к моей черепной коробке приходит на адрес: «к уму». Вот вы, по человеколюбию, было обратились ко мне, якобы к умному человеку. А я – не принимаю. Возвращаю таковую корреспонденцию обратно. Но, посудите сами, должен же я хоть самомалейшее утешение получить, что есть и в Темьяне-с, истинный адресат, который корреспонденцию принять может: ум-с. Где же-с? Кто же-с? Обрадуйте!
Коняев с досадой сгреб со стола кучу книг, кинул их на станок, и сказал:
– А, да бросьте! Все это чепуха. Лучше будем чай пить. Мамаша! – окрикнул он мать, копошившуюся за перегородкой. – Вы бы самовар поставили.
– Поставлю сейчас, – ответила она.
– Что ж, чай пить, это можно, это занятие – всеобщее, не требующее ума. Указано другим сатириком, – удивительно, как при глупости нашей, мы ими богаты! – указано, как при глупости нашей, мы ими богаты! – указано, кроме чаепития, еще занятие, доступное для не имеющих ума! «Чтобы детей рожать, ума кому не доставало!» Но я не способен уже к сему занятию. Чай чаем, а предъявления не вижу.
Коняев схватил Щеку за плечи и потряс раз-другой, отошел, вернулся и, заглядывая ему в лицо, сказал строго:
– Вот что, черт возьми! Если вам больно, то кричите: больно! и к черту лук! Не смейте больше про лук, ибо это шутовство и глумленье! Имеется полное право кричать: без лука! Прямо в голос! И – «ум» – тоже тут к черту – вместе с луком! Человек имеет право, чтоб ему не было больно. И кричите: «бьют! Вся жизнь бьет!» Боль прежде ума. Черепная коробка, как вы выражаетесь, может быть пуста, но бить по ней никто не смеет! Коробка должна быть цела!
– Пустая-с? – переспросил вежливо Щека. – А ежели, молодой человек, вся боль-с только оттого, что в одной коробке лежит нечто… испанский лук-с, – засмеялся Щека, – а в другой – на бродячем мосту корабли с пылью потонули? Как тогда-с быть? Доложить лука в пустую коробку-с? Да и кого взять-с? и кто даст? и где-с? Ведь не предъявлено!








