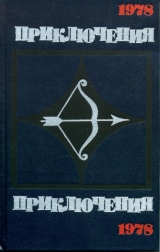
Текст книги "Приключения-78"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
– Долго рассказывать, – отмахнулся от него староста, но был польщен. – Диковина в самом деле непростая. Однако мы на службе, оставим брехню. – Он поднес огонек к плотно набитому чубуку.
– Да, да, Юхим Семенович, – поспешил согласиться Василий Михайлович. – А тут еще проклятый подпол! Хлопцы! – крикнул он в черноту лаза. – Побаловались и хватит. Сам пан староста пришел за вами. Как бы худа не случилось, хлопцы. Вами уже германские власти интересуются. И чего вы, глупые, боитесь? Ну, осмотрят вас доктора и отпустят. Здоровьем вашим интересуются. Выходите, не подводите меня. Доктора ждут не дождутся...
– Верно, хлопцы, – слова Василия Михайловича растрогали старосту, – чего жметесь. По глупости своей жметесь. Айда встречаться с врачами. Покажетесь – и гуляйте себе на здоровье. Ну кто вас держать станет. Дело для вас самое пустячное. Плевое, я бы сказал. Сейчас вот выходите – и со мной вместе к самому начальнику и прибудете. За послушание наградят отменным шоколадом.
– Молчат, – прислушиваясь, огорченно сказал Василий Михайлович. – Как воды в рот набрали. Ну что вот с ними делать?! Сидят и молчат. Как будто их и нету. Горе, горе, хлопцы. Мы-то, взрослые люди, понимаем, что вы там. Кончайте играть, кончайте. И того... к нам. Тьфу ты! Ругаться хочется, Юхим Семенович! Что за дети пошли! Полез бы за ради большого дела, да как лезть в эту проклятую дыру?!
– Глубок ли подпол? – поинтересовался Юхим Семенович, прицеливаясь глазами в пахнущую бензином дыру. Поводил носом, принюхиваясь и что-то про себя решая.
– Не очень, только мне, безрукому, не справиться, – ответил Василий Михайлович. – Хлопцы туда легко, словно картошка, скачут. И хоть бы что!
Юхим Семенович встал на колени и заглянул в подпол.
– Посвети, посвети, может, и заметишь, в каком углу тычутся, – осторожно посоветовал Василий Михайлович, приближаясь вплотную к старосте.
Щелкнула зажигалка. Синеватое пламя тускло осветило навал соломы на дне подпола. Поводил зажигалкой в провале.
– Нет, не вижу, – сказал Юхим Семенович, вставая с колен. – Придется лезть.
– Да удобно ли в такую затхлость забираться? А? – Василий Михайлович уже чуть ли не касался бородой плеча старосты. – Еще какой плесенью измажешься. Или ударишься, или зацепишься... Гвозди там торчат. Мало ли что может случиться. Конфуз какой...
– Кунштюки для солдата не страшны. Сам знаешь.
– Ну, гляди, гляди, – вздохнул Василий Михайлович, отступая от старосты. – Кунштюк?! Вот еще слово какое. Грамотный ты, Юхим Семенович, потому и смелый. Куда нам до тебя.
Староста снял пальто и с зажигалкою в руках спрыгнул в подпол.
Сделал там два-три шага, и внезапно подпол взорвался буйным густым пламенем. Дохнуло жаром и дымом.
Василий Михайлович оглянулся. В хате никого больше не было. Дверь крепко закрыл сам староста. Рванувшийся из подпола дым наполнил хату. Из подпола показались руки Юхима Семеновича. Судорожно ухватились за край лаза. Оскользнулись – и снова ухватились. Вот вынырнула из дыма голова.
Василий Михайлович что было силы ударил ногой.
Староста вскрикнул, но продолжал висеть на руках, тужась выбраться из пламени.
Новый удар ногой – и староста ухнул в гудящий подпол. Крик – и молчание.
– Вот и сгорай там, чертова душа! – с облегчением выругался Василий Михайлович и принялся запихивать ногами в подпол все, что было в кухне: вниз полетели чугуны, ведра, миски, тарелки, табуретки. Обрушил туда и кухонную дверь и несколько легко отлетевших от удара плечом досок переборки. Пригнал к лазу и стол. Наполовину затолкал его навстречу пламени. Потом выбежал в сени. Выплюнул трубку на солому, политую бензином. И там рванулось пламя. В кладовой закудахтали беспризорные куры.
Василий Михайлович вышел во двор и торопливо зашагал к оврагу. Оглянулся лишь на звук застучавших по селу автоматов. И вдруг увидел, как возле его ног часто запрыгали резкие снежные фонтанчики.
Снежные брызги – последнее, что увидел Василий Михайлович в своей жизни.
Иван ЧЕРНЫХ
Портрет
С майором Кречетовым мы познакомились в гостинице.
Как-то вечером, когда я уже лежал в постели, Кречетов разбирал свой чемодан. Вместе с книгами он выложил небольшой портрет в плексигласовой рамке. Вглядевшись в лицо на портрете, я узнал Кречетова. Черты лица майора были переданы с удивительной точностью. Его высокий лоб, упрямый подбородок.
– Сами делали? – спросил я.
Кречетов взглянул на портрет, лицо его помрачнело.
– Нет, – глухо ответил он. – Друг подарил...
– Давно это было?
– В 1942 году...
Майор поставил портрет на тумбочку, закурил и, выключив свет, стал раздеваться. Несколько минут мы лежали молча, а потом Кречетов заговорил:
– В январе 1942 года меня ранило, почти полгода провалялся в госпитале. С заключением врачебной комиссии «годен в легкомоторную авиацию» поехал в свой полк. По пути заскочил домой, но еще на вокзале узнал, что у жены есть другой. Известие не особенно расстроило меня, я был готов к этому: жена не прислала мне в госпиталь ни одного письма. Уже тогда я догадывался о причине. Видеть ее расхотелось, и я со следующим поездом уехал в часть.
Командир встретил меня радостно.
– Наконец-то вернулся! – сказал он, крепко пожимая мне руку. – А мы, признаться, думали, не бывать тебе больше летчиком. Ну, рассказывай.
Я достал командировочное предписание и историю болезни. Командир прочитал их, посмотрел на меня.
– Да, положеньице неважное. Ну, ничего, есть для тебя хорошее дело. У нас женскую эскадрилью организовали, на По-2 летают. Нужно готовить их к ночным полетам, а инструкторов, сам знаешь... – он развел руками.
– Что вы, товарищ командир? – взмолился я. – Куда угодно, только не к женщинам. – После истории с женой я их возненавидел.
– Ты самая подходящая кандидатура. Пойми – это важное дело. Да не тебе рассказывать о преимуществе полетов ночью. В общем, завтра отправишься в эскадрилью, – закончил он строго.
Так после боевого бомбардировщика я стал летчиком на По-2.
Кречетов вздохнул, немного помолчал.
– Девушки в эскадрилье оказались толковые, имели не по одному десятку боевых вылетов. Но были среди них и зеленые, только прибывшие из школ.
Отношение мое к ним, к женщинам, оставалось строго деловым, а порою грубоватым. Лишь одной я делал исключение, скромной, застенчивой девушке лет девятнадцати, с нежным, как у ребенка, лицом, с ясными голубыми глазами и русыми волосами. Когда я с ней говорил, она опускала бархатные ресницы, и румянец густо заливал ее щеки. Относился к ней, как учитель к послушному и милому первокласснику. В летном деле она действительно была первоклассницей: до войны занималась в художественном училище, а в конце 1941 года поступила в летную школу. Шесть месяцев учебы – и фронт. Мне предстояло сделать из нее ночного летчика.
Первые полеты разочаровали меня. Летала она плохо, неуверенно, когда я делал ей замечания – терялась. Бывало, слетаю с ней по кругу, начну разбирать ошибки и рассказывать, как их устранить, она опускает глаза. И не поймешь, слушает она или о чем-то своем думает.
– Сержант Обозова, вы меня слушаете?
– Слушаю, товарищ младший лейтенант, – тихо ответит она.
А полетим – снова и снова ошибки.
«Нет, не выйдет из нее летчика, – думал я. – И зачем только она пошла в авиацию? Сидела бы дома да малевала себе картины».
Все летчицы уже летали на задания, а я ее еще не мог выпустить. Как-то мне потребовалась летная книжка Обозовой, чтобы записать результаты последней проверки. В землянке Обозовой не оказалось. Я попросил дежурную принести книжку. Перевернув сразу несколько листов, застыл от удивления: передо мной лежала не летная книжка, а дневник. В глаза бросились слова: «Теперь я окончательно убедилась, что люблю его». Дальше шли стихи.
«Так вот что кроется под этой скромностью, – с возмущением подумал я. – Она и в полете, наверное, думает только о нем».
Я негодовал. Во мне заговорило чувство ревности. Хотелось бросить эту чертову эскадрилью и уйти рядовым в пехоту... Но долг есть долг.
На аэродроме вызвал Обозову к себе.
– Сержант Обозова, – начал строго, – вам известно, что в армии не положено заводить дневники?
Лицо ее вспыхнуло, глаза заблестели, на них навернулись слезы. Она опустила голову.
– За что вы меня так... не любите? – чуть слышно спросила она.
– Мы здесь не для того, чтобы влюбляться, – резко ответил я. – Вы совсем не думаете о полетах. Кончится война, влюбляйтесь сколько угодно.
– Дайте мне другого инструктора! – она вскинула голову.
Впервые я услышал ее решительный голос.
– Что ж, сегодня полетите с командиром звена, – согласился я. – А за дневник на первый раз объявляю два наряда. Идите.
Ночью с ней полетела командир звена. Неожиданно для меня она выпустила ее самостоятельно. Вначале я волновался, а когда девушка возвратилась из полета и посадила самолет, удивился чистоте посадки. Обозова стала летать, и летать не хуже других. Меня она избегала, а если нам приходилось встречаться, старалась побыстрее уйти.
Прошло лето. Наступили хмурые осенние дни. Мы летали в любых метеорологических условиях и в любое время суток.
Приближался праздник годовщины Октября. Мы в это время стояли недалеко от Урюпинска, обстановка была сложная. Наша авиация день и ночь бомбила передний край врага, скопления техники, аэродромы, эшелоны. В ночь с шестого на седьмое ноября меня вызвал командир полка. Подойдя к большой географической карте, он нацелился указкой в зеленое пятнышко и сказал:
– Вот здесь расположен аэродром и штаб тридцать второй воздушной армии врага. Его нужно уничтожить. Полетите вы, в напарники возьмите экипаж с хорошим штурманом. Удар нанесете ровно в шесть тридцать вот по этому зданию, – командир протянул мне большой фотопланшет и указал на один из серых квадратов. – Учтите – подходы сложные: кругом зенитные орудия и истребители противника. Задание выполнить во что бы то ни стало!
В три часа утра я приказал поднять своего штурмана Белову и экипаж Обозовой. В напарники пришлось взять ее – штурман Малинина была у нее настоящим снайпером.
В просторной землянке, освещенной маленькой лампочкой, рассказал экипажу о задании, вместе обсудили маршрут полета. Рассчитали курсы, время прибытия на цель. Обозова заметно волновалась, но глаза ее сияли радостью и благодарностью.
Ночь была непроглядная. Моросил мелкий осенний дождик. Где-то в стороне вспыхивал прожектор, и его луч расплывался в желтое пятно: рваные облака плыли над самой землей. Мы шли на аэродром. Впереди – девушки-штурманы, немного позади – я и Обозова. Молчали. Слышно было, как шумели деревья, с которых ветер срывал последние желтые листья. На сердце было тревожно и тоскливо. Я изредка посматривал на темный силуэт соседки и думал: «Наверное, не раз помянула меня недобрым словом за случай с дневником». Чувствовал, что виноват перед нею. Может быть, действительно, тот, кого она любила, был радостью и счастьем в ее жизни, а я пытался помешать ей.
Переходя канаву, Обозова поскользнулась и чуть не упала, я подхватил ее под руку. Хотелось заговорить, чем-то смягчить свою вину перед ней. Но мысли путались, я не находил подходящих слов. Снова вспомнилась запись в дневнике, наш разговор с ней и ее решительный голос.
«Да, она сильно любит его», – подумал я, и мне стало еще тоскливее. Вздохнул глубоко.
– О чем это вы? – Она повернула ко мне голову.
– Просто так, – спохватился я. – Темно очень. Помолчали.
– А правда, что ваша жена замуж вышла? – вдруг тихо спросила девушка.
– Откуда вам это известно?
– Случайно услышала.
Я промолчал.
– Вы ее любите? – снова спросила она.
– Не знаю, – откровенно признался я. – Так все было мимолетно. Встречались мы с ней редко – у курсанта свободного времени почти не бывает. Потом поженились. Пожили два месяца – и война. Может быть, она и не виновата...
Разговор прекратился. Мы пересекли лесную полосу и вышли к стоянке самолетов.
– Итак, счастливо, – я пожал своей спутнице руку. – Ни пуха ни пера.
– И вам также.
Мы постояли еще немного и пошли к самолетам.
Я вылетел первым. Спустя две минуты должна была взлететь Обозова. Кромешная тьма не позволяла разглядеть ни одного ориентира. Подлетая к линии фронта, я набрал высоту 400 метров и пошел в облаках. Тихо и черно было вокруг, лишь монотонный гул мотора да зеленоватые стрелки приборов напоминали о жизни и об опасности.
Летели немного более двух часов. Пора снижаться. Я убрал газ и отдал от себя ручку. На высоте 350 метров пелена облаков спала. Дождя здесь не было. Впереди, справа, увидел зарево. Это мои бывшие однополчане бомбили скопление фашистской техники на станции Михайловка.
Белова покачала крыльями: означало – подходим к цели. Самолет будто затаил дыхание. Только глухие хлопки вырывающегося из цилиндра сжатого воздуха били по обшивке. Казалось, это стучит сердце.
Внизу вспыхнул свет: загорелась осветительная бомба, брошенная штурманом. Сразу же по небу хлестнули лучи прожекторов. Недалеко от самолета пробежала тонкая дорожка трассирующих пуль. Заполыхали разрывы. Я взглянул вниз, отыскивая вытянутую сапожком поляну. Она оказалась немного левее. У самой опушки леса виднелись домики, среди них и тот, который был нужен нам.
Развернул самолет и направил его прямо на здание. «Где же Обозова? – думал я. – Неужели отстала?» В это время увидел пламя. Удар был точный. Малинина и на этот раз оправдала надежды.
Светящаяся авиабомба еще горела. Я видел, как из домиков начали выскакивать фашисты. Они заметались среди редких деревьев.
– Давай, Валя, бей! – закричал я Беловой, хотя и знал, что она не услышит.
Наши бомбы тоже полетели вниз, огненные смерчи охватили и другие здания, разнося их в щепки и смешивая с землей.
– Это вам октябрьский подарок! – крикнул я и стал выводить самолет из пикирования. Прожекторы, зенитки и пулеметы продолжали гвоздить небо, но мы шли над самой землей, и вреда они нам никакого не причиняли.
Возвращались домой по прежнему маршруту, также под нижней кромкой облаков. Все пока шло благополучно. Начало светать. Мне обычно казалось, что рассвет наступает очень медленно. Но в то утро земля выплыла из темноты неожиданно быстро. До фронта оставалось около пятидесяти километров. И тут произошло такое, чего никто из нас не предвидел.
Кречетов замолчал. Вспыхнувшее пламя спички осветило его суровое задумчивое лицо.
– Обозова летела впереди, – заговорил он снова, и голос его стал еще глуше. – Я видел ее самолет и старался все время держать его в поле зрения. Внезапно ударили зенитки. От первого же залпа самолет мой вздрогнул. Сразу же мотор начал давать перебои. Я попытался было изменить обороты, но мотор чихнул еще пару раз и заглох. «Вот и отвоевался», – мгновенно пронеслось в голове. Обиднее всего было то, что до линии фронта остались считанные километры. Самолет упрямо шел к земле. Внизу виднелись небольшие полоски леса. Я выбрал место поровнее, поближе к опушке, и пошел на посадку.
Как только самолет остановился, я отстегнул парашют и бросился к мотору. Еще в воздухе у меня мелькнула догадка, что перебит провод магнето. Но не успел я осмотреть мотор, услышал крик Беловой: «Фашисты!»
От леса бежало примерно пятьдесят вражеских солдат.
– Хальт, хальт! – горланили они.
– Пулемет! – крикнул я Беловой.
Она дала длинную очередь. Враги залегли. Началась перестрелка.
В это время Обозова снизилась и, заложив самолет в левый вираж, открыла огонь. Фрицы, оставив человек двадцать убитыми, скрылись в лесу. Оттуда они снова начали стрельбу. Пули дырявили наш самолет, вздымали вокруг него облачка пыли. Желтые струйки потянулись и вверх,к самолету Обозовой.
Но она держалась молодцом. Почти над самой землей проносилась ее машина; как только она шла вдоль опушки, фашисты замолкали.
Говорят, утопающий хватается за соломинку. Понимая всю бесполезность своей затеи, я все же стал копаться в изуродованном моторе. Неожиданно пулемет Беловой замолчал. Бросился к кабине. Там, уткнувшись головой в борт, лежал мой безжизненный штурман. Выбившиеся из-под шлема черные волосы смешались с кровью. Пуля попала в висок.
Я склонился над пулеметом. Но враг почему-то прекратил стрельбу. Все стихло, лишь издалека доносился рокот самолета Обозовой. Вот шум его начал заметно нарастать. И как только По-2 скользнул вдоль опушки, дробь пулеметов и хлопки малокалиберных пушек заглушили все. Теперь враг обрушил огонь только на Обозову. Фашисты поняли, что я от них никуда не уйду.
Обозова сделала еще круг и еще. Это был поединок. Но долго он продолжаться не мог: боеприпасы у нее кончатся, и она ничем мне не сможет помочь. «Напрасно Обозова рискует, – думал я, – видно, конец мне». Достал пистолет, перезарядил его и сунул за пазуху.
Обозова продолжала кружить. Но не стреляла. Я несколько раз махал ей шлемом, показывая на восток, но она не покидала меня.
Вдруг ее самолет зашел подальше от опушки и, снизившись, коснулся колесами земли. Он пробежал и остановился почти рядом с моим. К нам, стреляя и горланя, устремились фашисты. Я дал по ним очередь, они залегли. Обозова поднялась в кабине и махнула мне рукой, но тут же я увидел, как она покачнулась и опустилась.
Я бросился к самолету. В тот момент мыслей об опасности уже не было. Душу заполнили ненависть и отчаяние. В одно мгновение я забрался на плоскость машины и увидел бледное лицо девушки.
– Скорее, – прошептали ее губы.
Я метнулся к задней кабине. На какое-то мгновение увидел мчащихся на мотоциклах вражеских солдат.
– Ко мне в кабину, быстро! – крикнула Малинина.
Раздумывать было некогда. Перевалившись через борт, я сам дал газ. Самолет устремился вперед, взлетел. Я выжимал из мотора все, что он мог дать. «Быстрее бы линия фронта», – твердил мысленно, беспокоясь за Обозову, не подававшую никаких признаков жизни. Голова ее с золотистыми волосами склонилась на грудь.
Наконец внизу показалась река. За ней начиналась наша территория. Садиться пришлось в чистом поле. Здесь по-прежнему шел дождь. Самолет, пробороздив полосу, остановился у небольшого холмика. Я выключил мотор и бросился к Обозовой. Мы вместе с Малининой осторожно вынесли ее и положили на землю. Она была без сознания. Комбинезон, пробитый на груди, пропитался кровью. Я дрожащими руками расстегнул его.
– Пакет! – крикнул Малининой.
Когда она принесла бинт и я стал вытирать рану, Обозова застонала. Дождь, по-видимому, освежил ее и привел в чувство.
– Саша, – тихо позвала она.
Впервые Обозова назвала меня по имени. Я приподнял ей голову. Она смотрела на меня помутневшими голубыми глазами.
– Сейчас мы перевяжем рану, и тебе станет легче, – успокаивал я.
Она попыталась улыбнуться, а потом чуть слышно сказала:
– Нет... я умру... Все горит.
– Что ты, Катя, ты будешь жить, – наклонилась над ней Малинина. Обозова посмотрела на подругу, и по щекам у нее покатились слезы.
Малинина осторожно перевязала рану. Катя нащупала своей холодной рукой мою:
– Возьми... тебе подарить хотела... стеснялась, – прошептала она, показывая на карман гимнастерки.
Я расстегнул пуговицу и вынул этот портрет. Только в тот момент мелькнула догадка, что в дневнике писалось обо мне.
– Катя! – Я склонился к ней и прижался губами к мокрому лбу.
На какое-то мгновение глаза ее вспыхнули. Затем тяжелый стон вырвался из груди, и она затихла. Дыхания уже не было.
Майор раскурил потухшую папиросу, затянулся несколько раз подряд и закончил:
– Вот и вся история с портретом.
В комнате стало тихо. Лишь часы отстукивали время равномерно и монотонно.
Олег ТУМАНОВ
Соловей
Нас было трое – я, она и музыка.
Когда мы познакомились, Дейе и мне было по девять лет, музыке – вечность.
Девчонка сидела на корточках за углом киоска на базарной площади, поглядывая в сторону торговых рядов со сладостями. На прилавках серебристыми пирамидами, издавая аромат восточных пряностей, покоилось бесчисленное количество халвы, а между ними – как молочные оазисы – огромные блюда с приторно-сладкой сметанно густой мишалдой и горы золотистых лепешек, хрустящих и пахнувших даже на расстоянии жаром углей.
Продавцы, засучив рукава, черпают мишалду огромной деревянной ложкой и, подняв, сливают обратно. Бесшумно стекая, она образует на поверхности небольшую дюну, которая тут же расплывается по зеркально-молочной глади.
Во всем ощущается разморенная жарой медлительность, приглашающая разлечься в тени арыка, и черпать куском лепешки мишалду, как это время от времени делает кто-нибудь из торговцев. Сытостью и покоем веет от этих рядов.
Я стою за углом противоположного киоска и не испытываю ничего, кроме подкатывающей и заполняющей меня злости и голодной тоски.
Вот уже полгода, как я сбежал из дома и скитаюсь по стране в надежде встретить цирк шапито. Что будет дальше, я не знаю. Просто я должен летать под куполом цирка. Я уверен! Папа с мамой были против, и потому я сбежал. А сейчас я хочу есть, не ел целые сутки. Черт меня дернул пробираться в эту Среднюю Азию. Может, «Ташкент город хлебный» Неверова, читанный дома? Но это было давно, и дома было еды навалом. Здесь – тоже. Все сыты, а я хочу есть.
Неужели людям непонятно, что я хочу есть? Наверное, понятно, и даже очень, поэтому я не смотрю им в глаза. А тут еще эта девчонка! С самого утра торчит у киоска, а из-под него по арыку ход под прилавок... и все в порядке. Может, ее посадили сторожить этот лаз? Скорее всего так оно и есть... Иначе чего бы ей здесь торчать?!
Когда никого нет, она еле слышно посвистывает, кто-нибудь проходит – замолкает и поглядывает на продавцов. «Вот зараза! Дать бы ей... Улетела бы за сто километров». На ней длинное рваное платье и черный такой же рваный платок, закрывающий лицо до самых глаз. Сидя на корточках, она продолжает поглядывать на прилавки, шевеля грязной ногой в арыке.
На Востоке говорят: «Человек, ты мыслишь? Ты живешь!» Я мыслил, но не отвлеченными понятиями, а сиюсекундошными: как из этого, цветущего красками Востока, сада-пищи спереть хоть одну лепешку или кусок халвы и тем самым решить для себя извечный вопрос человеческого бытия.
Свист, пронзающий как длинная тонкая игла, проникающий через перепонки даже в мозг и на какое-то мгновение парализующий его, пронесся над базаром. Все оцепенело, как цепенеет насекомое, наколотое булавкой: люди, лошади, арбы, продавцы. И казалось, даже мишалда, как будто неожиданно схваченная морозом, повисла в воздухе. В застывшей тишине, между рядами сладостей, стремительно неслось маленькое гибкое, похожее на ласточку существо. В одно мгновение оно как бы слегка несколько раз коснулось прилавков и исчезло, оставив после себя в воздухе неясно тающий силуэт. Оцепенение прошло, и базар с новой силой вспыхнул красками голосов и чувств.
Девчонки у киоска не было.
Продавцы сладостей, встрепенувшись, стали подозрительней, и я, поняв бесплодность попыток что-нибудь спереть, пошел слоняться по базару в надежде на слепой случай, который чаще, чем этого бы хотелось, оказывается зрячим.
Не знаю как теперь, с тех пор прошло много лет и я больше в Средней Азии не был, не считая госпиталя во время войны в Сталинабаде, а тогда среднеазиатские базары, окруженные дувалами[9] 9
Дувал – глинобитная стена.
[Закрыть], а в ряде случаев крытые, как в Бухаре, были похожи на живую оранжерею цветов, двигающуюся и издающую густой, тягучий аромат. Тела несут свои цвета и запахи навстречу друг другу и, смешавшись, превращаются в пестрый ковер красок, напоминая картину экспрессиониста, написанную густыми мазками.
Ты попадаешь в этот бесконечный поток и двигаешься вместе с ним помимо своей воли. Поток выносит тебя к месту продажи фруктов и овощей. Их горы! Они начинают кружить вокруг тебя (или ты вокруг них), и невозможно понять, ты или они – центр этой маленькой вселенной: оранжевые гуляби[10] 10
Гуляби – сорт дыни.
[Закрыть], зовущие благоуханным ароматом; сахарный бахарман[11] 11
Бахарман – сорт дыни.
[Закрыть] до полуметра длиной, с кожурой, напоминающей цветом кору березы и вкус ее сока; арбузы почти черные, как будто загоревшие на солнце, дразнящие скрытой кровавой прохладой своей мякоти; длинные, с кожицей прозрачной, как вода горной реки, гроздья «дамских пальчиков»; помидоры, надувшиеся и покрасневшие от собственной важности; сливы «султанки», похожие на тысячи маленьких лун; яблоки, алыча, гранаты, готовые разорваться и обрызгать тебя своей кровью. И наконец, персики – их чуть-чуть тронутые загаром плоды, покрытые золотистым пушком, слегка подернулись румянцем от ощущения доступности чужим взорам. Все сверкает и переливается в лучах прямо надо всем этим стоящего солнца. Оно как бы любуется тем, чему само дало жизнь: плоды персиков – любимое ее детище. Они это знают, поэтому так изнежены и капризны.
Какое же и чье детище я?
Солнце жарит меня сверху, а голод сушит изнутри.
Человеческие тела носят меня по базару, и я, подчиняясь общему движению, плыву с ними – маленький, ненужный и, как все голодные, – злой.
Кто-то теребит меня за рукав, я оборачиваюсь, Дейя! Я еще не знаю ее имени. Но это та самая девчонка, которая сидела у киоска: лицо закутано платком, видны только глаза, большие и влажные. Она кивает: «Пойдем!»
Я не знаю – куда и потому стою, а люди проходят, толкают то слева, то справа. «Пойдем», – повторяет она жестом. Иду. Зачем? Не знаю. Просто иду.
Голод лишил меня воли, и я иду. Черная фигурка мелькает в людском потоке. Еле успевая расталкивать человеческие тела, я то и дело натыкаюсь на различные их части: спины, бедра, руки: они отшвыривают меня как случайный камень на дороге. Что-то непонятное тянет за Дейей, и я начинаю энергичней работать локтями. Наконец, ворота базара. Дейя уже там.
– Ты чего? – спрашиваю я.
– Пойдем, – опять кивает она.
Какое-то странное чувство владеет мною, я не хочу идти, но иду. Внутреннее сопротивление слабо, желание идти сильней – и я иду. Она двигается впереди легкой, чуть пританцовывающей походкой, из-под рваной бахромы платья мелькают голые пятки, то и дело погружаясь в толстый ковер бархатистой пыли. Такое ощущение, что нас связывает молчание.
Я и сейчас уверен, что молчание связывает сильней любых слов. Бывает так, что слова не нужны, они мешают. В таких случаях они кажутся хламом. У каждого человека бывает чувство, когда весь словесный хлам он хочет выбросить на помойку. Нам не надо было ничего выбрасывать – мы не успели им обзавестись.
Дейя чуть слышно свистит, что-то легкое и в то же время уверенно-сильное. Было немного странно, что она свистит. Девчонка – свистит?! Я подумал об этом еще на базаре. Свист ее не был похож на обыкновенный свист мальчишек при бездельничанье. Это была какая-то определенная мелодия, отражавшая внутреннее состояние автора.
Вскоре начались сады. Мы подходили к огромной глинобитной стене, окружавшей город еще со времен расцвета Хорезма, продолжавшей и сейчас своими развалинами напоминать о великой эпохе. Дейя скользнула в один из проломов, махнув мне рукой и повелительно свистнув.
Поднимаясь на стену, срываясь и хватаясь за выступы, я удивлялся, как быстро и легко проделала это она. Со стены были видны сады, окруженные полями. Поля до ломоты в глазах сверкали снеговой белизной хлопка, над которым плыло марево, там и сям, как муравьи, копошились люди.
Если эти люди видели нас, мы им, вероятно, казались далекими, маленькими и чужими. На таком расстоянии между людьми рвется духовная нить и люди перестают чувствовать извечную взаимосвязывающую необходимость друг в друге.
Чуть сбоку в стене виднелась щель, из которой показалась сперва рука, затем голова Дейи, приглашающая меня следовать за ней. Это был узкий лаз, в который могло протиснуться только детское тело; он привел в довольно обширную пещеру, освещенную двумя узкими, сантиметров по пятнадцать-двадцать в диаметре, отверстиями, расположенными под небольшим углом, играющими роль окон и вытяжных труб.
Дейя улыбнулась, блеснув в темноте зубами, и подвинула ко мне огромную деревянную миску, наполненную теми самыми хрустящими лепешками и халвой, при виде и недоступности которых у меня еще совсем недавно возникало чувство злости и голодной тоски. Глупо было бы о чем-нибудь спрашивать, когда перед тобой лежал клад, стоило только протянуть руку.
Не знаю, трудно об этом сказать сейчас, а тем более тогда, вкусным ли было то, что мне предложила Дейя, ибо пустой желудок требовал только одного...
Когда я покончил с едой, Дейя, опять улыбнувшись, подала мне медный кувшин с водой. Поев за эти долгие дни, я почувствовал настоящую сытость: все подернулось, как говорят, розовой дымкой... Я уткнулся в подсунутые мне Дейей под голову какие-то тряпки...
Снилось, что я опять еду в поезде «зайцем» и без конца должен убегать от контролера. Контролер появляется всегда с одной и той же стороны вагона. Я быстро иду в противоположный конец, лишь бы не была занята уборная, она – мое спасение. Открыв окно в уборной, вылезаю на его карниз и прыгаю на подножку, это совсем не страшно, я проделывал это тысячи раз во время своих скитаний.
Ну вот, теперь все в порядке. Дверь, ведущая из вагона к подножке, закрыта, и ревизор, убедившись в этом, никогда не станет ее открывать, а если и попытается, ничего не увидит: я буду висеть на вытянутых руках между подножкой и буферами.
Все выглядит увлекательной игрой в «казаки-разбойники», в которой разбойник – я. И когда это удается, а пока так и было, все ликует от ощущения ловкости и неуязвимости.
Под ногами мелькает земля, превращаясь в мгновенно расстилающуюся домотканую дорожку. Свистит ветер, мешаясь с трах-тах, трах-тах – звуками перекликающихся между собой колес. В небе, несмотря на эту бешеную скачку, медленно плывут звезды.
И сколько раз, повиснув на подножке и раскачиваясь в такт вагону, я думал о мирах, которые там существуют. Наверное, и там люди, и ходят поезда, и есть мальчишки, так же раскачивающиеся на подножках, и, наверное, им так же радостно, как и мне. Только очень жаль, что мы не видим друг друга. А может, они видят? Тогда жаль, что не вижу я.
Звезды, звезды! Впервые увидев их, человек начинает думать о неведомом мире, манящем своей неизвестностью и недоступностью, и умирает, так и не познав его. А познав, вероятно, умрет от разочарования.
Проснувшись и открыв глаза, через одно из отверстий в пещере я продолжал видеть все те же звезды, только теперь они были неподвижны, и не было шума стукающих и перекликающихся между собой колес. Мир застыл в тишине и неподвижности. Такой или почти такой в те поры представлялась мне смерть – безболезненной и тихой: все видишь, чувствуешь, ощущаешь, только ни во что не можешь вмешаться.
Постепенно, с уходом сна тишина стала оживать звуками. Где-то звучала музыка. Она исполнялась на инструменте, которого я раньше никогда не слышал. Странная это была музыка... Думаю, это была импровизация. Прошло пять, а может, десять минут, а я слушал и слушал, боясь пошевелиться.












