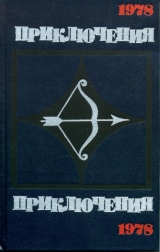
Текст книги "Приключения-78"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
Анатолий Васильевич потянулся было к находке, майор Артемьев отвел руку с болванкой в сторону.
– Не стоит оставлять лишние отпечатки, усложнять работу розыска. – Он кивнул заместителю начальника колонии по режиму: – Распорядитесь, товарищ капитан, насчет криминалиста.
Уложив на место этот брусок, майор Артемьев, все так же осторожно прихватив платком, поднял второй. Осмотрел. Никаких следов чертежей или обработки.
Сам по себе этот брусок не представлял бы интереса. Но в паре с первым!
– Убежден, – хмуро обратился майор к заместителю начальника колонии по режиму, который стоял чуть в стороне по стойке смирно, – хозяин болванок-заготовок знал, что стружку до дна ящика никогда не выбирают. Здесь и прятал свое изделие.
Добрынин, понимая состояние майора Артемьева, сказал:
– Подождем результатов криминалистического исследования, поговорим по душам с хозяином брусков, потом будем делать выводы.
* * *
На каждом из брусков были отпечатки пальцев нескольких человек, видать, заготовки гуляли по цеху. Но на обеих повторялись отпечатки только одного заключенного: Анатолия Зубаренко.
Его и пригласили на первое собеседование.
Анатолий Зубаренко – колхозный бульдозерист, сельский бузотер. Тридцати пяти лет. Проиграв в карты солидную сумму, он решил поправить свои финансовые дела самым быстрым, по его мнению, способом. Нашел себе напарника с мотоциклом, такого же отпетого пьяницу, как сам. Они ограбили три универмага в трех шахтерских поселках. «Брали» те магазины, которые охранялись с помощью сигнализации. Рассчитали по секундомеру время, необходимое милиции для того, чтобы явиться на место происшествия, и укладывались в него. Разбивали стекло, врывались в магазин, хватали, что под руку подвернется, и быстро исчезали на мотоцикле. Два раза успели. На третий – попались на месте преступления. Зубаренко сидел четвертый год, впереди у него было еще шесть с лишним.
Его привели в кабинет начальника колонии. Черная форменная куртка застегнута наспех: вторая петля – за верхнюю пуговицу.
Увидев собравшихся, Зубаренко почувствовал беду и оробел.
– Застегните куртку по-человечески, – сказал Добрынин.
Когда Зубаренко застегивал пуговицы, худые, в ссадинах, с болезненно вздувшимися суставами пальцы мелко дрожали. Глаза остекленели, не спускает их с начальника политотдела ИТК.
– Какие специальности освоили в заключении? – спросил Добрынин.
– Первый год слесарил, потом закончил здесь, в колонии, ПТУ, и на сверлильный поставили.
Голос у Зубаренко был неприятный, с хрипотцой. Тонкие синеватые губы, подвижные, как у зайца, обнажали щербатый рот с мелкими зубами.
– Начальник тебя не нахвалит, – кивнул Добрынин на майора Артемьева, – говорит: «Наш Зубаренко – рационализатор, придумал простое, но вместе с тем оригинальное приспособление для точного глубокого сверления».
Зубаренко проглотил вязкую слюну. Он превосходно понимал, что начальник политотдела ИТК с человеком в гражданском приехал не для того, чтобы поблагодарить его за рационализаторское приспособление.
– Придумал, – прохрипел он, не отрицая и не утверждая, будто не знал: похвалят его за это «придумал» или отругают.
Добрынин протянул ему брусок с высверленным отверстием.
– Что же вы, такой мастер, а болванку запороли?
Зубаренко взял заготовку из рук Николая Константиновича. Побледнел. И эта бледность была особенно поразительна потому, что он был из «цыганской» породы: солнце и ветер задубили кожу, вычернили ее, навели шоколадный глянец.
Зубаренко опустил руку с заготовкой, а сам не сводит глаз с начальника политотдела ИТК. Молчит.
Пауза затянулась. Чрезмерно. Наступившая тишина начала нервировать присутствующих, заряжать их каким-то отрицательным зарядом. И все это было чревато взрывом.
– Ну! – прикрикнул на заключенного майор Артемьев.
Зубаренко продолжал молчать, уставившись в пол.
– Зачем это вам было нужно? – спросил Добрынин.
Он помнил Зубаренко по одному из посещений колонии. Заключенный жаловался, что в ларьке нет хороших сигарет, только папиросы, причем дорогие. «Казбек» винницкой фабрики. Хуже не бывает. «Если мы зеки, то нам можно совать всякую дрянь?»
В соответствии с утвержденным перечнем товаров сигареты в специализированных магазинах должны были быть. Добрынин потом распекал замполита колонии: «Почему не контролируете работников торговли?» Сигареты в магазине появились.
Зубаренко глянул на Николая Константиновича, но так ничего и не ответил. К нему подошел капитан Сорвиголова.
– Законы ты знаешь: ведь за изготовление оружия в условиях строгого режима – пять лет тюрьмы. Без права переписки, без права свидания. В твоем положении, Зубаренко, лучший выход – откровенность.
Но Зубаренко, видимо, считал, что надежнее отмалчиваться. Поковырял худым длинным пальцем в просверленном отверстии. И ни гугу.
Начальник колонии сказал громко:
– Придется назначить дело к следствию. И по всей строгости...
Зубаренко от этих слов передернуло, будто холодной воды налили за шиворот. «Пять лет добавят».
Но что-то мешало ему говорить. Добрынин решил помочь заключенному наводящими вопросами. Не хочет вести речь об оружии, пусть вначале о чем-то другом, косвенном.
– Вы Грабаря знали?
Зубаренко перестал сутулиться, поднял голову, глянул на подполковника. Добрынина звали в колонии «политикой», к нему обращались со всеми жалобами. По табели о рангах у заключенных начальник политотдела ИТК был на особом положении.
– Соседи по койке, – выдавил из себя Зубаренко.
– Какие у него были отношения с Комаровым и Абашевым?
– Генка Грабарь – сачок. Он всем болтал, что за всю жизнь, кроме карт и ложки, никаких других орудиев производства в руки не брал. А Комаров и Абашев – работяги. Спросите начальника колонии, сколько они заработали грошей. У Комарова, поди, тысячи две. Он уже досиживал срок. У Абашева – поменьше. Ну и взялись они за Грабаря, все хотели из сачка работягу сделать. Комаров у нас был культурником. За свою денежку выписывал до двадцати газет и журналов. Так он все на сознательность давил. Но разве Грабаря хорошими словами прошибешь? Взялся за него Абашев, бригадир. Веселый человек. Слово скажет, рожу скорчит, и все от смеха лопаются. Он и говорит Грабарю: «В твоей башке пустоты много. Вот мы ее под прессом обожмем, дурости и негде будет квартировать». Грабарь на него с кулаками: «У, татарская харя, я тебя и без пресса на блины раскатаю». Когда говорил Абашев, всем было смешно. А Грабарю чудилось, что это над ним смеются. Затрясется – и к Абашеву. Но тот здоров, словно Алексеев или Жаботинский. Крутанет Генку, руки его прижмет к себе, спиной повернет и шепчет на ухо: «Труд сделал из обезьяны человека. А ты что, дурнее обезьяны?» Грабарь головой бьет, лягается, а Абашев только зубы скалит.
Анатолия Васильевича поразило совпадение фактов у Грабаря в послании: «Абашев мне пригрозил: «Голову под пресс, а потом доказывай, что это не несчастный случай» и в показаниях Зубаренко: «В твоей башке много пустоты, – сказал Абашев Грабарю. – Вот мы ее под прессом обожмем...»
Анатолий Васильевич обратил внимание и на то, что Зубаренко называет Грабаря по имени. Из одной бригады. Койки рядом. «Корешки». Конечно, Зубаренко многое знает о Грабаре, вон какую точную дал ему характеристику. Но и Грабарь знал о Зубаренко порядочно. Видать по всему, как личность, Грабарь был сильнее Зубаренко. Уж не по его ли заданию тот и сверлил стволы для самопалов? Грабарь знал, что при первом же сигнале об изготовлении оружия в колонии произведут тщательный обыск. И если что-то найдут, то подтвердится его правота. «Самопал – это вещдоки». А под них сочиняй любую легенду, води за нос следствие, тяни время. И побольше, побольше впутывай в грязную историю разных людей. «Группа заключенных готовила вооруженный побег». И в этой поднятой мути ты, Геннадий Грабарь, сам станешь светлее. «Не убил, а лишь превысил меру обороны». Иная статья, иное наказание. Не высшая мера, помягче.
– Когда к вам пришла мысль изготовить самопал? – спросил Анатолий Васильевич.
Зубаренко пожал плечами, мол, черт его знает когда.
– По глупости, – прохрипел он.
Как ему не хотелось касаться этой темы! Даже на лбу выступила испарина, вот какую внутреннюю борьбу он вел с собою.
– А Грабарь знал об этих ваших сверлильных экспериментах?
Зубаренко на вопрос не ответил, опять замкнулся. И как его ни расспрашивали – ни слова. «Да ведь он боится Грабаря!» – понял Анатолий Васильевич.
К этому же выводу пришел и Добрынин.
– Грабарь приговорен к высшей мере, – сказал он Зубаренко. – А вы с ним до сих пор в поддавки играете. Пора бы понять ситуацию.
Зубаренко понял. По-своему.
– Кто же не знает, что «вышкой» теперь только пугают. Вот сидел один в колонии, по пьяному делу родную мать на куски порубил только за то, что она вовремя не набрала травы для кролей: возилась с его больными детьми. Вначале дали «вышку», а потом в Киеве или в Москве скостили на пятнадцать. Он тут приболел. Так восстанавливать его драгоценное здоровье отправили в санаторную колонию. И вы все приехали, чтобы найти смягчение Грабарю. Я же это вижу.
Слова Зубаренко острее всего поразили Анатолия Васильевича. Если отбросить словесную шелуху, вроде «разбора просьбы о помиловании», то останется вот это: «Защитник приехал, чтобы отыскать обстоятельства, позволяющие смотреть на преступление Грабаря чуточку под иным углом, более гуманным...»
Поняв, что от Зубаренко больше не добьешься ничего, начальник колонии распорядился:
– В интересах следствия – изолируйте.
Когда заключенного увели, наступило молчание. Уже никто ничего говорить не хотел и не мог. Анатолий Васильевич, выражая общее состояние, вздохнул: «Уф!»
– Какие же нужны нервы, чтобы работать с такими...
Он подумал сразу и о Зубаренко, и о Грабаре, и о том, поднявшем руку на мать.
– Об убийце матери – это правда? Пятнадцать лет, а теперь санаторная колония...
– Увы... – сожалея о случившемся, ответил Добрынин.
– Но где-то должен быть разумный предел нашей гуманности! – подосадовал Семериков. – За что ему такая милость?
– Первая судимость... Во-вторых – положительная характеристика с работы... И еще что-то из обстоятельств, смягчающих вину: больная жена, маленькие дети... Одним словом, суд нашел возможным...
– А мне лично, – сказал запальчиво Анатолий Васильевич, – больше по душе индивидуальная ответственность перед законом. Это самое «недовоспитатели», виноваты папы, мамы, учителя, сослуживцы по работе – одним словом, все, кроме самого преступника, ведет к обезличке. Все – значит, никто конкретно. Нянчимся-нянчимся... А они самые обыкновенные, этакие выродыши, мутанты. Кстати, сейчас в печати начали появляться материалы, которые позволяют на теорию сверхиндивидуализма взглянуть несколько иначе. Не так давно в газете «За рубежом» перепечатали статью из одного американского журнала. В какой-то клинике под руководством известного светила в области судебной медицины провели серию исследовательских работ над группой особо опасных преступников. И выяснили такую деталь. Обычный мужской ген имеет формулу икс-игрек – «ХУ». Но попадаются особи с геном икс-игрек-игрек – «ХУУ». Оказывается, эта скрытая патология имеет прямое отношение к формированию характера. Человек, имеющий ген «ХУУ», неуравновешен. Легко возбудим. У него отсутствуют «тормоза», которые, собственно, и позволяют нам постоянно помнить, что мы живем не на необитаемом острове, а в обществе, рядом с такими же, как мы, индивидуумами, у которых есть свой характер, свои вкусы, свои интересы.
Начальник политотдела был не согласен с адвокатом: он покачивал головой:
– Я не берусь опровергать, Анатолий Васильевич, ваш тезис о том, что наука о наследственности стоит на пороге новых открытий и через пятнадцать лет преступниками будет заниматься не милиция, а здравоохранение. А пока жизнь вам как адвокату на решение проблемы «Генины гены» отпустила трое суток. За это время вы, защитник, обязаны отправить в адрес Президиума Верховного Совета прошение о помиловании.
– Я как-то читал, – после раздумий ответил Добрынину Анатолий Васильевич, – в одной из европейских стран лет сто пятьдесят тому, а может, больше, решили сэкономить на тюрьмах. Упразднили все, оставили только одну, и ту очень маленькую. Сроки наказания, даже за самое тяжкое преступление, были небольшими: три недели – предел. И условия содержания превосходные. Конечно, по тем временам. Но... если кто-то и где-то совершил преступление, то, освобождая место для очередного преступника, предыдущего вешали напротив окна. Легенда утверждает, что столь веский довод в пользу хорошего поведения действовал безотказно.
– История борьбы с преступностью уходит в века, – согласился начальник политотдела НТК. – Методы борьбы особым разнообразием не отличались, в их основе всегда лежала жестокость. Злодею, вору отрубали руки, рвали ноздри и уши, сажали на кол, распинали на кресте, гноили в ямах. Но это не искореняло преступности, а лишь усложняло ее формы. Советское правосудие отвергает жестокость как единственную меру борьбы с преступностью, – поставил Добрынин точку в этом споре. – Только за исключительно тяжкие преступления, тогда, когда уже все меры воздействия оказываются бессильными, для преступника определяется высшая мера социальной защиты – смертная казнь.
Анатолий Васильевич соглашался и не соглашался с Добрыниным. Он как адвокат мучительно искал правду. Он уже не мог сказать, что в просьбе его подзащитного о помиловании все выдумка, хотя и понимал, что Грабарь из мухи вылепил слона и теперь пытается продавать слоновую кость. Но проклятые болванки! На одной из них шабером нацарапан какой-то маузер или наган. И потом просверленное отверстие... Кто-то пытался изготовить самопал. И нет доказательств, что попытка не увенчалась успехом. Продолжая и углубляя версию о болванке, можно рассуждать так: заготовили с десяток – из восьми сделали самопалы, а эти две бросили за ненадобностью.
– Предположим такое: Грабарь убил и в поисках причины для смягчения меры наказания выдал, выболтал то, что знал: подготовка побега, изготовление оружия. И потом этот дурацкий разговор между Абашевым и Грабарем, мол, голову под пресс, чтобы умнее стал. Пусть не с тем внутренним содержанием, как указано в письме, но был! Как он трансформировался в восприятии Грабаря? Не мог Грабарь понять его в буквальном смысле?
– Мог, – согласился Добрынин. – И нам предстоит доказать или опровергнуть эти версии.
– А как же мне быть с прошением, сочиненным Грабарем? – с горечью воскликнул Анатолий Васильевич.
– Отправлять по назначению, – спокойно посоветовал Добрынин. – Сроки обязывают. А мы тем временем постараемся выяснить, какой процент лжи в правде Геннадия Грабаря.
В тот же день вечером, когда Анатолий Васильевич вместе с Добрыниным вернулись в Донецк, просьба о помиловании, сочиненная Грабарем и перепечатанная его защитником на машинке, ушла в Киев.
* * *
Два дня Анатолий Васильевич ходил сам не свой, все думал о проклятых болванках, подготовленных Зубаренко для изготовления самопала. «И молчит! Молчит! – думал он о дружке Грабаря. – Понимает, что факты против него, и все-таки берет всю ответственность на себя». Среди уголовников существует такое выражение: «паровоз» – это значит тянуть все и за всех. «Боится Грабаря! Не верит, что того могут расстрелять, то есть привести приговор в исполнение».
И уже в этом внутреннем сопротивлении Зубаренко для Анатолия Васильевича был некий упрек и вызов. «Законы должны выполняться неукоснительно, невзирая на лица. Неотвратимость наказания – одна из важнейших сторон правового воспитания».
Как трудно порою при всей кажущейся очевидности отделить правду от вымысла, провести между ними нерушимую границу!
В пятницу поздним вечером, когда Анатолий Васильевич уже готовился завалиться в постель, позвонил Добрынин:
– Анатолий Васильевич, есть кое-что для вас неожиданное.
– По Грабарю? – насторожился Семериков.
И в тот же миг понял, что ждал вот такого неожиданного, которое должно было или опровергнуть все собранные адвокатом факты, или как-то иначе выстроить их, по-иному обосновать.
Услышав восклицание Семерикова и по тону поняв, как возбужден защитник Грабаря, Добрынин ответил довольно уклончиво:
– Я бы не сказал сейчас: «по Грабарю». Пока это лишь параллель. Подходите в управление к начальнику УИТУ. Его звать Виталием Афанасьевичем Ивановым. Я буду там.
От дома, где жил Анатолий Васильевич, до областного управления минут семь пешком.
Семериков, отдуваясь, поднялся на шестой этаж.
И вот он в просторном, выглядевшем квадратным кабинете. Управление исправительно-трудовых колоний недавно справило новоселье. Здесь все еще пахло краской, пластиком, клеем...
В кабинете сидело пятеро. Четверо из них незнакомы Семерикову.
Навстречу адвокату поднялся высокий худощавый полковник. Глаза мудрые, как у школьного учителя, который давно работает в старших классах, любит и понимает своих озорных, находчивых воспитанников.
– Виталий Афанасьевич, – протянул он руку адвокату. – Начальник УИТУ. Вот, Анатолий Васильевич, решили задачку с тремя неизвестными, которую вы сочинили с Грабарем.
Посреди широкого полированного стола на белом листе писчей бумаги лежал... самодельный наган, вернее, самопал. Именно самопал. Рукоятка утолщенная, обработана грубо. Барабан «пузатый», – пришло сравнение Семерикову. Словом, большой, смахивающий на шар. Самопал опирался всей тяжестью на барабан, задирая кверху ствол, словно бы прицеливался к какой-то метке на стене. Металл, из которого когда-то смастерили оружие, успел потускнеть.
Полковник пододвинул Семерикову самопал вместе с листом бумаги, на котором лежало оружие.
– Год назад из этой штуки были убиты трое, в том числе милиционер. Его – из-за оружия.
– Но Грабарь в это время уже сидел! – воскликнул Анатолий Васильевич, пораженный тем, что узнал об очередном преступлении. «Трое...»
– И милиционера и работников сберкассы убил Алтынов-Задонский, – пояснил полковник. – Мы порою в своих учреждениях коллекционируем таких отпетых... А этот и среди них особый. Выпускали его после седьмого срока, знали, что вернется вскоре к нам... Совершит очередной грабеж и вернется... Но держать не имели нрава: отбыл человек наказание...
Полковник тяжко передохнул, пощупал взглядом оружие, лежавшее на столе, и как бы подытожил:
– Смертный приговор в отношении Алтынова-Задонского приведен в исполнение. Но на следствии Алтынов утверждал, что купил «ствол» у неизвестного ему человека. Но вот что примечательно: Алтынов последнее наказание отбывал в первой колонии. И вот теперь в связи с заявлением Грабаря и результатами обыска там же созрела идея сличить с помощью спектрального анализа самопал Алтынова и зубаревские болванки. Оказывается, то и другое из одной марки металла.
Первой реакцией Семерикова была досада: «Грабарь прав: оружие в колонии так-таки изготовлялось».
Анатолий Васильевич поймал себя на мысли, что ему совсем не хочется видеть Грабаря правым даже в самых незначительных деталях. А тут такое – оружие.
Семериков еще не знал, что этот факт даст ему как адвокату, но в том, что теперь все написанное Грабарем в прошении на помилование приобретет особое звучание, не сомневался.
– По всей вероятности, револьвер изготовлял Зубаренко, – сказал адвокату полковник. – Кстати, вы ему понравились, и после вашего отъезда из колонии он настаивает на свидании. Он заявил капитану Сорвиголове: «У меня есть важные сведения об изготовлении оружия». Среди таких, как он, это популярно: «Своим» ничего не скажу, подайте мне того пожилого...» Поедете в колонию?
– Само собой! – вырвалось у Семерикова. – Мне крайне необходимо знать, какое отношение ко всему этому имел мой подзащитный.
– Нас это интересует в не меньшей мере, – заметил начальник УИТУ. – И другое: не было бы дубликатов у этой штуки, – показал полковник на самопал, который по-прежнему лежал посреди большого полированного стола на листе бумаги.
На следующий день около девяти часов полковник Иванов, его заместитель по режиму, огненно-рыжий, в пегих, веселых веснушках майор Сыромятников вместе с Добрыниным и Семериковым были уже в первой колонии.
– Вы с Добрыниным начинайте беседу, – наставлял начальник управления. – Зубаренко добивался права исповедоваться именно перед вами обоими. А мы с майором Сыромятниковым подключимся позже, когда в этом вызреет необходимость.
На первой беседе с Зубаренко, кроме гостей, присутствовал еще капитан Сорвиголова. Хмурый, недобрый, он оседлал стул и, положив тяжелые, сильные руки на спинку стула, старался не смотреть на заключенного: заместитель начальника колонии по режиму уже знал всю историю с самопалом и превосходно понимал, чем это обернется для него.
Зубаренко, сидя в изоляторе, зарос. Глаза еще больше ввалились. Осунулся. По всему, нелегко далось ему решение быть откровенным. Он стоял посреди комнаты, настороженный, ожидающий самого худшего. Что-то сказать хочет, да мешает застрявшая в горле вязкая слюна.
– Я вас слушаю, – напомнил о себе Добрынин.
– Ну... про болванки... – начал хрипло Зубаренко. – Грабарь мне приказал сделать для него ствол на четыре заряда. И металл он нашел... Говорил: «Оборвусь, добуду самолет – и в Турцию, на американскую базу. Уж те не выдадут». И меня с собою тянул. Но я отказался: «Такая буза пахнет вышкой, это измена Родине. Какой бы я сволочью ни был, а на такое не пойду».
«Буза пахнет вышкой», – так вот откуда взял Грабарь слова для своей просьбы о помиловании», – подумал Анатолий Васильевич, слушая Зубаренко.
И вдруг рассердился на себя за то, что в какой-то мере поверил своему подзащитному, вернее, не усомнился в его словах, не опротестовал их, а воспринял как должное.
Зубаренко продолжал:
– Грабарь пригрозил мне: «Выдашь – из-под земли достану и опять туда закопаю!» А дырку в болванке наискосок я засверлил специально. Думаю, далеко с самодельным стволом не уйдет: возьмут и доведаются, кто делал. За то, что я испортил болванку, Грабарь едва меня не убил, не поверил, что я ошибся. «Такой мастер, как ты, – говорит, – не ошибается». Но уж лучше пострадать от него, чем от закона...
Зубаренко замолчал, настороженно ожидая вопросов или выводов, еще не зная: поверили – не поверили.
Спрашивать Зубаренко о самопале, из которого убиты трое, адвокат Грабаря не имел права. Об этом спросят другие. А он – лишь о болванках.
– Грабарю было известно, где вы хранили заготовки?
Зубаренко передохнул с облегчением, решив, что ему так-таки поверили, отвечал бойко:
– Генка и указал место. «Ящик глубокий и тяжелый, До конца стружку не выбирают, неудобно. Положи на самое дно, притруси мусором».
– Почему же все-таки вы не выбросили болванку, когда Грабаря перевели из колонии в тюрьму после убийства Комарова? – поинтересовался Добрынин.
Зубаренко пожал плечами:
– Грабарь наказал их не трогать. «Это мои козыри». Я не понял, о чем он. Ну и на всякий случай оставил. Я же не подумал, что их будут искать.
«Козыри»! Как тщательно Грабарь готовился к убийству! Все продумал до мельчайших подробностей. И не исключено, что, зная характер Зубаренко, специально рассказал о возможном вооруженном побеге, о попытке уйти в Турцию, рассчитывая, что тот струсит и примет меры, чтобы «заговор» не удался. Зубаренко умышленно запорол ствол, чего и добивался Грабарь. Геннадий избил дружка. Ну и само собою, тот все это запомнил в деталях. И вот сейчас их выложил, невольно помогая Грабарю отвратить неминуемую кару за тяжкое преступление. И еще одна деталь свидетельствовала в пользу этой версии Анатолия Васильевича. Зубаренко говорил, что обе болванки ему дал Грабарь. Но на них не оказалось ни одного отпечатка его пальцев. Ловок! Он знал, что убийство в колонии чревато тяжелыми последствиями. И вот приготовил «вещдоки». И совершил нападение только после того, как убедился, что задуманная, выпестованная им система защиты готова к действию. Все в строку уложил: и разговор с Абашевым насчет пресса и обжима головы (эту стычку видели многие, могут подтвердить, и, уж конечно, Зубаренко первым), и мысли Зубаренко о том, что попытка уйти за границу – это измена Родине. На все был готов! А какова выдержка! Ждал, когда закончится суд, когда приговорят к высшей мере, когда появится возможность обратиться с просьбой о помиловании в Президиум Верховного Совета. Он был уверен, что его доводы о заговоре подтвердятся и тогда приговор Выездной сессии областного суда отменят.
Капитан Сорвиголова, упорно озиравший двор, разбитый высокими решетками на секции, понял, что Зубаренко «высох» и ничего уже не скажет. Резко повернулся к заключенному. Пока тот ловко исповедовался, пытаясь выдать за червонную, золотую правду ложь, сплетенную из достоверных, но вывернутых наизнанку фактов, капитан все время думал о том, что самопал не миновал умелых рук этого типа, который сейчас об изготовлении оружия даже не обмолвился.
Взорвался человек: сдали нервы.
– И это все?
Зубаренко невольно попятился от него, вобрал голову в плечи:
– А что еще? – В его маленьких темных глазках вновь поселился страх. Но уже не тайный, как в начале исповеди (поверят – не поверят), а явный (что «им» еще известно обо мне?). «Неужели что-то...» Он даже про себя, мысленно не называл самопал, суеверно опасаясь всуе повторить ставшее страшным имя преступления. Впрочем, он мог и не знать, что его изготовка принесла смерть троим.
– Тебе лучше знать! – громыхнул на него капитан. Но под пристальным взглядом Добрынина присмирел.
Однако Зубаренко почувствовал, что трое, которых он хотел «удивить» признанием, знают о нем и о его делах гораздо больше. «Номер не прошел» – было явно написано на его физиономии.
Ему дали бумагу, ручку и пригласили к столу:
– Напишите все, что вы рассказали.
Он долго топтался у стола, рассматривая авторучку. А сев, старательно мостился на стуле, укладывал поудобнее бумагу. Он явно ждал каких-то слов: может быть, напоминания, может, повторного приказа. Но никто из троих не проронил ни слова: молча ждали.
Семериков, как ни странно, верил тому, что рассказал Зубаренко о попытке увильнуть от изготовления самопала. Но не верил в другое, что Грабарь так легко с этим примирился: попугал дружка-уклониста – и все. «Не тот человек...»
Зубаренко написал «С повинной» – признание о том, как его принуждали изготовить «ствол» и как он героически сопротивлялся этому.
Добрынин принял от Зубаренко написанное, бегло пробежал глазами и передал Сорвиголове. Тот прочитал. И вновь рассердился:
– Уж не выдать ли тебе награду за доблесть, – бросил он заключенному и направился в кабинет начальника колонии, где результатов первой беседы с Зубаренко поджидали полковник Иванов и майор Сыромятников – прямой начальник капитана.
В комнату вошли четверо. И в скромном кабинетике заместителя начальника колонии по режиму стало тесно. Семериков обратил внимание на майора Артемьева – лицо серое, землистое, словно бы человек не спал неделю, занимаясь чем-то трудным: может, уголь в мешках таскал или подвал после весны вычищал.
«Случай!» – посочувствовал Анатолий Васильевич начальнику колонии.
Зубаренко при виде начальства встал. Вся его согбенная фигура выражала ожидание.
– Я прочитал ваше «С повинной», – ровным голосом, словно бы это говорил автомат, сказал полковник осужденному. – Что-нибудь вы хотели бы еще добавить?
Зубаренко смотрел на полковника Иванова широко распахнутыми глазами и ни гугу в ответ.
– Зубаренко! – напомнил ему Добрынин.
Но заключенный уже лишился дара речи, он лишь покачал головой: «Нет, ему добавить нечего».
– Покажите, – попросил начальник УИТУ своего заместителя по режиму.
Майор Сыромятников вынул из кармана и осторожно положил самопал на краешек небольшого стола, покрытого голубоватой масляной краской.
Зубаренко остолбенел. Никто ничего ему не говорил, но самопал – это «вещдоки», причем неопровержимые.
В одно мгновение Зубаренко превратился в дряхлого старика. Иссекли лицо морщины-овраги, глаза помутнели, как придорожная лужа, по которой всеми четырьмя прогромыхала телега. Задыхается человек. Нев-мо-го-ту! Рука жалко дрожит, спешит расстегнуть воротник куртки и не может. Наконец справилась, просунула большую пластмассовую пуговицу сквозь петлю.
– Вот! Вот! – по-бабьи визгливо заголосил Зубаренко, демонстрируя широкий рваный шрам под подбородком. – Это мне Грабарь оставил метку, когда я накосо засверлил ствол. И доконал бы! Ему человека, как мне муху в столовке прихлопнуть.
– А почему вы об этом не сообщили? Вас бы с Грабарем развели по разным колониям, – сказал полковник Иванов.
Зубаренко затряс головой: «Нет и нет!»
– Уж я Грабаря знаю... Гнить на тюремном кладбище – желания нету.
– А из вашей самоделки убили двух работников сберкассы и милиционера... Молодой паренек, только что сын у него родился, жена еще из роддома вернуться не успела, – сдерживая себя, пояснил полковник Иванов.
Он был старшим среди присутствующих, и всякая инициатива исходила от него.
У Зубаренко подогнулись ноги. Он сел прямо на пол и... заплакал. Он не вытирал слез, руки были заняты, он опирался ими за спиною о пол, и слезы катились по морщинистым, жестким щекам тяжелыми горошинами, словцо бы они были из ртути.
* * *
От колонии до Углеграда всего восемнадцать километров. Семериков попросил полковника Иванова подвезти его до шахтерского городка.
– Загляну к родителям Грабаря.
– Хотите выразить соболезнование? – поинтересовался начальник УИТУ.
– Нет. Намерен поговорить о защите их сына.
Полковник подивился:
– Стоит ли? Через неделю придет ответ на прошение о помиловании и ваша миссия адвоката будет завершена.
– Пока она не завершена – я хочу... Конечно, я буду защищать, но смогу ли чем-то помочь... Понимаете, Виталий Афанасьевич, чтобы защищать, надо хотя бы понимать логику поступков подзащитного. Я, видимо, выдохся. А может, постарел...
Как и в прошлый раз, едва Семериков приоткрыл штакетную калитку, у крыльца тявкнула озорная собачонка, взъерошенная, словно второклассник, спешащий на урок после большой перемены.
На порог вышла Ольга Андреевна. Увидев адвоката, ахнула:
– Уже?! – И вмиг посерела с лица, вот так сворачивается кровь от капли густого марганца.
«Уже...» Она тягостно ждала ответа из Президиума Верховного Совета, она жила этим ожиданием.
– Нет-нет, – ответил Семериков. – Ответ на прошение о помиловании придет через неделю, не раньше.
И в тот же миг Анатолий Васильевич понял, что, невзирая на самое жестокое требование совести и сердца, не так-то легко будет ему сказать этой живущей надеждами на чудо женщине, что он, адвокат Семериков, не имеет сил для защиты ее грешного сына.








