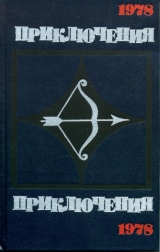
Текст книги "Приключения-78"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 35 страниц)
– Василий Михайлович, – грустно посмотрела на него Оксана Ивановна, помогая ему раздеться, – ты знаешь, от белья никогда не отказывалась. Мне одно удовольствие для своих стирать. Боюсь, проклятый фашист заметит: белье-то не ребячье. И много.
– Какой фашист? – не понял Василий Михайлович.
– А такой... Староста приходил и поставил нам немца. На постой. Вот лихо, так лихо! – с горечью воскликнула Оксана Ивановна. – Совсем, злодей, дыхнуть не дает. То дороги чистить гонит, то посуду, ложки да тарелки, велит отдавать для раненых офицеров, то картошку из подвалов тащит для полицаев, а теперь и совсем закабалил – фашиста подсунул. Чтоб тебе трижды на день голову перекручивало!
– Ты, Ксюша, главное, вида не подавай, что тебе староста не нравится, – посоветовал Василий Михайлович. – А немец... – призадумался он, – не страшен. Неудобство, конечно, определенное будет... Но разве он разберется в том, что мы дома делаем? Не поймет, и не его это дело, – заверил он, садясь, как обычно, за стол. – Мы и белье фрица постираем! И старосте скажем. Надо же, чтобы их воин в чистоте жил да в тепле. Нехай ведет! Нехай думает, что мы на великую Германию работаем! Ты еще что-то сказать хочешь? – спросил Василий Михайлович, видя, что Оксана Ивановна задумалась и смотрит мимо него в окно.
– Он такие слова говорил, что голова кругом пойдет, – отозвалась Оксана Ивановна, – все ждала тебя, чтоб хоть приходом своим ты расстроил его вражьи речи. Никакой защиты от этих речей не нашла. Слушаем да слушаем. А он, как бес, куражится над нами.
– Что же такое он говорил? – заинтересовался Василий Михайлович.
– И поверить трудно! О женской красоте говорил, – отвела в сторону глаза Оксана Ивановна. – Ну чисто книгу читает! И слова такие голубые пускает, прямо на небо несет... Но я-то насквозь беса вижу. Меня не проведешь... И он понимает это. В хитрость ударился: меня убивает словами, а Сашу поднимает. Слушаю и немею от страха: до чего же можно слова испортить! И очам своим не верю. Как вошел староста, так Саша на него и уставилась. Она хоть и цыганка, а с ним, как малое дитя, распахнула очи – летит незнамо куда. Всерьез заинтересоваться может. Душа у нее полыхучая. Это не мы с тобой, – обронила она деликатное замечание и вздохнула. – Не перенесу такой пытки, чтобы она погибать стала.
– Я подумаю, Ксюша, как лучше поступить, – выслушав Оксану Ивановну, сказал он и тут же посоветовал: – Упроси ее к твоей сестре в Тризименку уйти. А хлопцы с нами побудут. И ей поспокойней, и нам с ребятами веселее.
И к вечеру Сандра ушла в Тризименку. Пожить, сколько сможет, у сестры Оксаны Ивановны. А там видно будет.
Так закончилась эта первая тревожная встреча со старостой. И так закончился тревожный день.
Уже давно была ночь. Спали ребята. Крепко. Но хозяева, Оксана Ивановна и Василий Михайлович, не спали. Оксана Ивановна еще одну новость узнала: Василий Михайлович теперь будет дежурить в немецком госпитале, который появился в селе после недавней ночной бомбежки.
Русские самолеты, прорвавшись через фронт, разбили на отдыхе большую воинскую часть. Но что за мысль странная: взять Василия Михайловича на службу! Так хочет староста, так хочет немецкая комендатура, в которой знали о бывшем советском солдате.
Госпиталь обосновался в сельской школе. Староста со всего села собрал кровати и матрацы. Парты приказал выбросить на улицу.
По установленному графику сельские женщины приходили в госпиталь колоть дрова и топить печи, сделанные из железных бочек. Вскоре в новый госпиталь немцы понавезли раненых.
Для убитых во время бомбежки фашисты разрыхлили мерзлую землю около здания сельского Совета, на самом видном месте в селе. Немцы надеялись со временем возвести здесь своим солдатам памятник. Прогремел не один десяток взрывов. В каждую воронку положили по трупу. И над каждым поставили тщательно выструганный березовый крест. Эти кресты фашисты возили за собой, как снаряды и продукты. Впрочем, крестов всегда было в достатке. Немецкие тыловые части были верткими: успевали провозить их мимо партизанских засад. Стройные белые ряды крестов заполонили в селе Юрлове место бывших праздничных митингов и массовых гуляний.
– Прошел я мимо этих рядов, – рассказывал Василий Михайлович Оксане Ивановне той бессонной ночью, – затошнило, замутило меня. Так и потянуло повыдирать эти кресты. Что сделали с площадью? С селом что сделали? В немецкое кладбище превратили. Такую нам жизнь фашисты готовят: живите, но только на их кладбищах. Вроде кладбищенских сторожей будем. Вот, думаю, какой новый подарок придумал Гитлер! Расселить всех своих мертвецов по всей нашей земле, чтобы они землю немецкой сделали! Потом подумал: а все-таки мы их неплохо бьем, если они своими трупами нашу землю удобрять собрались. Но напрасно стараетесь! Придут наши, мы эти кладбища заровняем и асфальтом зальем... Гляжу на кресты, а сердце как бы говорит: не тужи, Василий Михайлович, земля наша и не такое помнила. Сколько в ней врагов похоронено, а где их имена? И что кресты на новых врагах поставлены – тоже совсем неплохо. Сами враги показывают, как мы их в землю загоняем.
Долго в эту ночь говорил Василий Михайлович с Оксаной Ивановной, которая слова не проронила, слушая его. Чувствовала и понимала, что в душе Василия Михайловича поднимается какая-то пугающая ее решимость, которую она не в силах ни остановить, ни сгладить, и что все слова Василия Михайловича к одному устремлены: сильней ощутить в себе то особенное, то единственно важное, что позволит ему высоко нести свою голову, даже там, среди фашистов, предложивших коварную затею: испытать его службой. И не сломиться, не подчиниться им, остаться русским солдатом с неимоверно великой любовью к Родине, к ее оружию. Она понимала, что должна прослушать его мысли и чувства. Он доверялся ей, как дорогому человеку, согревшему его, израненного солдата, с уже омертвелыми руками. Это она вместе с дочерью Галиной, молодой медицинской сестрой, ампутировала ему руки и спасла его от верной смерти. Даже немцы, увидев его, посиневшего, с роковым налетом смерти на лице, только и сказали: «Капут!» Оно бы так и случилось, если б не мужество и не материнская ласка Оксаны Ивановны. Покалеченный в жестоком бою, Василий Михайлович полз напропалую через снега, надеясь встретить своих солдат или санитаров. Нашла его Оксана Ивановна, вышедшая в поле за соломой. Вместо соломы тащила домой на себе. Не минула фашистов. К ее великому удивлению, они не убили раненого. И вот выходила.
Если его приглашает староста на службу к врагам, то кем он стал, Василий Михайлович, теперь? Что изменилось в нем? В боевом солдате гвардейского стрелкового полка? Зачем он вступал в партию, когда шел в последний для себя бой? Почему о нем так хорошо, дорожа им, говорили и командир полка, и парторг, и боевые товарищи? Разве только за крепкие руки, которые уложили в рукопашных боях многих фашистов и которые теперь навсегда потеряны? И неужели товарищи не заглянули ему в душу, не взвесили силу его души и красоты? И если они видели в нем, Изжогине Василии Михайловиче, машинисте врубовой машины, донецком шахтере, достойного защитника Родины, то почему он вчера дал согласие старосте и военному коменданту идти дежурить в госпиталь? Охранять покой битых фашистов?
Вникая в слова Василия Михайловича и в то, что стояло за ними, Оксана Ивановна приходила к мысли, что те неимоверно жестокие муки, которые она перенесла и продолжает нести в себе, не оградили ее семью от новой беды. Эта беда уже рядом, сотрясает и разламывает все собранное хлопотливыми трудами Оксаны Ивановны, все сбереженное ее любовью. И не за что ухватиться, чтобы отодвинуть грозящее ей несчастье.
«Что за дикое желание видеть меня дежурным в фашистском госпитале? Что это? Месть? – стучало в голове Василия Михайловича. – Нужно ли мне вообще выходить на эту службу? И как поступать на ней?.. Ловчить со своей душой, делать вид, что ничего не случилось? Обычная работа – и все? Терпеливо ждать чего-то. Конца войны? Своих товарищей? Помощи со стороны? А сам... а сам-то, что мертвецом стал?»
Мысли текли и текли. И нужно было их рассмотреть и понять: чего порой стоят мысли, возникающие от душевного расстройства, от слабости, от опасности, нависающей над человеком, от игры с тобою тех, кто забавляется тобою, как кошка пойманной мышью.
Василию Михайловичу было ясно одно: применяться к обстановке не будет. Он решительно пойдет навстречу тому, что замыслили сделать с ним враги. И чем открытей он будет, свободней от сомнений, тем больше он сможет преподнести им такого, чего они не ожидают. Ну а не слишком ли ты хватил? Ну пойдешь ты к ним, ну будешь ты на них смотреть свысока. Ну и что из того? А рук-то нету... Руки-то они оторвали! Так оторвали, что вроде бы петрушкой тебя сделали. Какой уж у тебя вид гордеца получится, когда ты ничто? Ходи, ходи к ним, Василий Михайлович, а они вдоволь надсмеются над тобой. Вот как смеяться будут, видя тебя не в окопе, а прямо, как есть, у кроватей. Тут уж каждый фашист увидит, каких он русаков лупил, и лишний раз полюбуется своей работой. Вот как оно все выходит: посмеяние, и только! Скверно, скверно. Хотят доконать не железом, так насмешкой.
Но не таков был Василий Михайлович, чтобы поступаться совестью, превращаться перед врагами в забаву, в никчемного человечка. Он и ходил широко и любил преданно. И если он погрузился в раздумья, то, значит, такое время, когда на каждом шагу отчет перед совестью держишь. Когда ты среди своих, когда все кругом свои, когда сама человеческая совесть вершит делами – это одно дело. Тут только одна дума: не опозориться перед товарищами. А когда вместо совести смерть устанавливает свои законы, то пусть презрение к ней станет наивысшей его совестью. И если он идет на посмеяние, то пусть и оно станет оружием в его ненависти к врагам. Совесть его не перевернулась. Надо кончать свой разговор и с врагами. Кончить – и разом!
Началось утро. Зимний рассвет. Запоздалый, невзрачный и словно бы виноватый. Без той торжественности и многоцветий, молодой запальчивости, с какой он охватывает землю весной и летом. Крик петуха на этот раз показался Оксане Ивановне картавым, не таким, как обычно. Он не кричал, а бормотал спросонья. Пенье несколько раз обрывалось и начиналось снова. И совсем неуклюже, безразлично упало в холодную тишину его последнее заключительное «ку-у». Как будто его утреннее пенье неожиданно завершилось смертоубийством.
«С петухом надо поспешить... – подумала Оксана Ивановна. – Все равно староста заберет. Врагам достанется. Сегодня надо же...» – и грузно поднялась, чтобы приготовиться к работе по хозяйству. Встал и Василий Михайлович.
Утренним светом побелило снег. Староста Юхим Семенович Малюночек направлялся к Оксане Ивановне, когда увидел на площади перед немецким кладбищем Василия Михайловича.
– Вот, вот! Так, так! Василий Михайлович, – сузив глаза, начал вместо обычного приветствия староста. – Я тоже теперь подолгу стою у этого скорбного места. Горько знать, как много сынов великой Германии отдали здесь свои жизни. И где погибли? В нашем селе, тут и земли подобающей нет, чтобы схоронить их по-рыцарски. Да и та, что была, смерзлась. По горсточке собирали, лишь бы укрыть гробы до первой оттепели. А то ведь снегом только и означены могилы. И мы после этого говорим о справедливости жизни! Нет, уважаемый Василий Михайлович, вот постоишь у печальных крестов рыцарей и лишний раз подумаешь о том, как мы неповоротливы в жизни, как нам не хватало этих солдат, чтобы оживить нашу кровь. Вернуть нам наше достоинство!
Налетал ветер. Ночью он ослабел, но к обеду разъярился снова. Снеговая крупка забивалась в складки пальто. Василий Михайлович, ненавидяще глядя на кладбище, глубоко и сильно выдыхал в сотрясавшуюся на холодном ветру бороду. Были бы руки, наверное, не устоял бы от искушения заткнуть источающий елей рот старосты.
– Нам доверили заботу о наших солдатах, – продолжал Малюночек. – Креста христианского не посрамим, не позволим, чтоб на земле нашего села впредь умирали такие рыцари! И дикость невообразимая, если позволить себе представить, от чего могут умереть: от случайных ран! – взвился на цыпочки староста, жестикулируя сразу двумя руками. – Я полагаюсь на тебя, Василий Михайлович, старого солдата, хотя и большевистского. Но глаз тому вон, кто помянет прошлое! Ты наказан за войну с твоими освободителями. И думы твои понимаю: сами могилы панов солдат будут укором и твоей и моей совести. Они пришли спасти нас, а мы не уберегли, не заслонили их. Вечный укор нам! Что нас ждет? Презрение потомков!.. Итак, идемте, Василий Михайлович, в комендатуру.
В комендатуре Василия Михайловича встретил немецкий офицер в очках, в кожаных галифе. На кителе Железный крест. Офицер встал из-за стола, затянулся папиросой. Держа левую руку за спиной, он сделал два твердых шага навстречу Василию Михайловичу.
– Прошу, – сказал он по-русски, указав папиросой на свободный стул у стола. – Вам говорили о важности вашей работы? – и, не получив ответа, продолжал: – Вы будете дежурить в госпитале. Смотреть. Когда надо – звать сестру. Дел много. Наши врачи и сестры очень заняты. Мало отдыхают. Вы будете смотреть за ранеными. Следить за порядком. В госпитале должна быть тишина. Строгость! Но! – Он вскинул вверх указательный палец и блеснул очками, вдвинув ладонь между пуговиц кителя на впалой груди, продолжал: – Мы не будем вас одевать в немецкую униформу. Дадим форму русского солдата, – и круто, как на стержне, повернулся у стола: – Это очень важно! Понимаете? – и пояснил: – Местные жители будут знать, что большевистские солдаты идут в германскую армию, и будут лучше уважать своих спасителей. Прошу! – вежливо-холодно приказал он Василию Михайловичу подойти к столу и выдвинул ящик. – Ваши награды, – он достал орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». – Мы ценим вашу храбрость. Ценим награды, которыми наградило большевистское командование за эту храбрость. Нашим солдатам будет приятно видеть. Понимаете? Чтоб награды были на груди. Мы не хотим вас унижать. – Достав новую папиросу и прикурив ее, он снова блеснул очками. Голос его, все более наливающийся металлом, стал вызывать дребезжание крышки графина: – Великая Германия надеется, полагается на вас, героический русский солдат. Верим, вы будете ей служить преданно. Великие цели фюрера требуют от вас подчинения строгой дисциплине германской армии. Каждый шаг на службе должен доказывать, что вы честный солдат. Мы ждем вашу храбрость – и вы получите ордена Германии. Хайль, Гитлер! – щелкнул он каблуками и выбросил вперед сухую острую руку.
Офицер, посмотрев укоризненно на неподвижно стоящего Василия Михайловича, зачем-то крутнул крышку на графине. Потом прикрепил награды к пиджаку Василия Михайловича. Подумав, извлек из стола значок «Гвардия» и тоже прикрепил его к пиджаку.
– Староста! – крикнул он, и Малюночек появился в дверях. – Прошу оформить гвардейцу солдатский паек.
«И у этого фашиста голубые глаза!» – изумился Василий Михайлович.
В пот ударило его, бросило в озноб. Уходя от врага, ему казалось, что голубые глаза преследуют его.
«Господи! – встреча с фашистом в кабинете потрясла Василия Михайловича, будь у него руки – против воли бы перекрестился. – Встретить такое чудовище!»
Вернувшись к Оксане Ивановне, он рассказал ей о том, что произошло в том кабинете.
– Да зачем же он все это придумал, Ксюша? Я же не поддамся, как фашист ни хитри.
– Да откуда я знаю, зачем? Хомут тебе надевает. Пользу хочет иметь.
Когда со двора в хату вбежали ребята, Василий Михайлович велел им не отлучаться далеко от дома.
Они помогли ему снять пальто и ахнули: на пиджаке Василия Михайловича были награды. Настоящие, советские!
– Фашист повесил награды, – тяжело сдвинув брови, глубоко вздохнул Василий Михайлович. – Но вот что никак не пойму: откуда он взял именно те, что были у меня. И орден Красной Звезды был, и медаль «За отвагу» была, и полк наш гвардейский. Вот теперь и соображай: откуда фашист узнал про орден и медаль? Ведь я их вместе с документами парторгу сдал, когда к разведке боем готовились! Неладное что-то случилось... если он про такие тонкости, как мои награды, знает. Повесил мне и как бы намек сделал: от нас не отвертеться! Получай их и поскорей отдавай нам душу. Фюреру некогда с тобой лясы точить. Вот как начинаю понимать провокацию с наградами. За намеком и еще что-то кроется... А вот что, разве поймешь?.. – говорил Василий Михайлович с горькой тихой улыбкой на лице, которая не скрывала расстройства его души. – А ну, хлопцы, – окликнул он притихших в недоумении ребят, – снимите с меня награды. На номера посмотрю.
Семка снял и положил их на стол, поворачивая перед Василием Михайловичем, который разглядывал на них номера. Ребята впервые держали в руках неподдельные, настоящие советские орден и медаль. Со звездами на них.
– Номера большие, – наконец сказал Василий Михайлович и с досадою добавил: – Нет, не вспомню. Как ветром повымело номера из головы! Вот беда... – хмуро пожаловался он. – Говорил же командир: товарищи, запоминайте номера наград, паспортов, красноармейских книжек и других ваших ценных документов. И вот – как вышибло из головы! А помнил... Сейчас бы эти номера и подсказали что-нибудь важное. Помогли бы разобраться во всей чертовщине, какую немцы со мной затеяли. Ах, чтоб тебя пополам изломило! – обругал он свою голову, шумно встал и попросил у Оксаны Ивановны, чтоб она ему приготовила трубку с табаком. Потом он то останавливался у окна, то у кровати, то возле ребят, приникших к разложенным на столе наградам.
– Дядя Вася, а если бы вы номера вспомнили, то как бы они вам пригодились? – спросил Семка.
– Как? – отяжелело опустился на табурет Василий Михайлович. – Вопрос важный. Я бы и тебе мог его задать, чтобы ты сам подумал. Тут, конечно, ничего разумного заранее не скажешь. Можно только догадываться. Все мраком покрыто. А распутывать клубок надо. Иначе нам ничего не поделать с фашистами. Одно останется: поднимай руки вверх – и шагай на их скотный двор. Об этом фашисты и во сне мечтают. – Василий Михайлович закинул ногу на ногу, и сейчас же ему на колени прыгнул рыжий котенок, попытался поиграть с ним, постучал лапкой по бороде – перебежал к Тимке. – Если бы, скажем, я вспомнил номера наград, то я бы точно сказал: мои это награды или нет. Если они действительно мои, – что и представить себе не могу! – значит, немцы в самом деле про меня многое знают и затевают со мной что-то... Но сомневаться не приходится: закинут сильный крючок. Фашисты ничего случайного разводить не станут. У них все продумано до точки. Возможно, стряслась беда: мой полк разбит, и разбит он в том самом бою, когда и меня покалечило, и наши документы попали к фашистам. По ним и установили, кто я такой. Можно предположить другое: объявился знающий меня предатель. Случается подобное: свои люди и своих же предают. – Василий Михайлович внезапно наклонился к ордену Красной Звезды и, осененный какой-то мыслью, долго с прищуром глядел на его номер. – Нет, хоть убей, не упомню, – заключил Василий Михайлович.
– Что ж вы теперь с ними делать будете? – спросил растерянно, все время молчаливо слушавший Василия Михайловича Семка.
– Как что? – взглянул на него Василий Михайлович. – Оставлю их там, где мне их повесили! – твердо ответил он. – Мне своих наград нечего стыдиться. И хотя они через руки фашистов прошли, но заслужил я их в честных боях. Хлопцы, – живо и ласково сказал он, – вы, пожалуйста, почистите орден. Суконочкой, с мелом. Чтоб огнем засиял!
Василий Михайлович сидел в прихожей госпиталя.
За стенами в бывших классных комнатах слышались голоса раненых гитлеровцев. Стремясь не слушать чужую речь, Василий Михайлович подошел к окну, стекла в котором были косо перечеркнуты бумажными наклейками. Посвистывал ветер, бил по стеклам, густо исполосованным трещинами. «От ночной бомбежки полопались, – догадался Василий Михайлович, глядя на наклейки, которые с трудом удерживали от выпадания многочисленные стеклянные клинышки, мелко и часто вздрагивавшие от порывов ветра. – Для себя мы клеили, а, выходит, немцам помогли. Стекла сохранили. Повертелись бы они без стекла... – и закрыл глаза от нахлынувшей усталости. – Тьфу ты! Ни одна бомба не угодила», – недовольно взглянул он на рамы и, как когда-то в детстве, подышал на обросшие снегом стекла. Затянутые изморозью, стали отчетливее трещинки у самого рта. Он дышал и дышал, пока не закашлялся.
– Балуешься? – услышал Василий Михайлович недовольно-резкий голос старосты, который выскользнул из кабинета начальника госпиталя. – Вот... серьезное дело поручено, – ткнул он желтую бумагу чуть ли не в глаза Василию Михайловичу. – Катастрофа! Раненым крови не хватает. У тебя какой группы кровь? – быстро осведомился он.
Василий Михайлович, словно бы не поняв старосту и не заметив его раздражения, прислонился плечом к стене. Помолчал и принялся снова сосредоточенно дуть на стекло.
– Ты что? Не слышишь? Какой группы кровь?! – дернул его за пустой рукав староста. – У тебя самого? Дело, говорю, серьезное.
– Какой группы? – переспросил Василий Михайлович и глянул на бумагу, которую снова сунул к его лицу староста, и для пущей важности побарабанил по ней пальцем, потом, спохватившись, он бережно сложил бумагу вчетверо и засунул ее куда-то в карман. – А шут ее знает, какой... – видя нервную торопливость старосты, с улыбкой ответил Василий Михайлович. – Кровь она и есть кровь.
– Надо знать! – отрезал староста. – Село перевернем, а нужную кровь найдем, – добавил он и смерил Василия Михайловича невидящим взглядом. В его голубых глазах сверкнули не отраженные в них заиндевевшие окна, а словно бы полыхнула своя изнутри проступившая изморозь.
– Зачем село тревожить? – вдруг понял опасность фашистской затеи Василий Михайлович. – Надо как-то...
– А затем, – оборвал его староста, – что на нас лежит обязанность спасать германских солдат. Понимаешь? Не кого-то, а самих арийцев! Так сказать, незамутненный родник, никем не испорченный. Вот ты не знаешь, какой группы у тебя кровь. Другой не знает, третий. Не веришь? Спроси вот уборщицу – не знает! Тебе врачи никогда не говорили? – раздраженно говорил староста, запахиваясь перед выходом на улицу. – Со мной пойдешь! – отрывисто и зло бросил он. – Проверим всех жителей села. Кто не назовет свою группу крови, пригоним в больницу. Всех, всех! Кроме стариков и старух, разумеется...
– И детей, – добавил Василий Михайлович.
Староста, как ужаленный, крутнулся.
– Ничто, ничто и еще раз повторяю: ничто так не восстанавливает здоровье, как детская кровь! – Глаза его неожиданно сузились: – С детей мы и начнем. Твоя мысль дельная... Впрочем, времени у нас нет. Раненый полковник скоро будет здесь. Нужно немедленно и как можно порасторопнее, без всяких проволочек собрать в больнице детей. Понимаешь? – Голубые глаза расширились, лицо залила радость. – Соберем детей. Всех! А ты своих веди. Понимаешь? Первыми. Пример нужен, – он снял с вешалки пальто Василия Михайловича, помог ему одеться. – Никак скис? Понимаю тебя. Дети ведь все-таки. Будут колоть, больно и тому подобное. Но – на войне как на войне. Переживут. Еще веселей станут. Будущие солдаты. Через час встретимся, – и староста пропал за дверью. – В госпитале встретимся! – уже с улицы донесся его голос.
Василий Михайлович медленно сошел с крыльца. Он был подавлен, но гнев поднимался в нем. Никуда не ходить. Вернуться в госпиталь. С этого места – ни шагу. Но, значит, отдать детей в руки старосты? Уж он постарается выпить их кровь!.. Шел как оглушенный. Останавливался и снова шел. Что-то нужно сделать. Что? И вдруг Василий Михайлович поднял голову. Мелькнула нужная мысль. Еще неясная. Но и она освежила. А что, если не вести ребят? А что, если староста, придумавший эту проклятую идею, потеряет ее?.. Потеряет вместе с проклятой головой!.. Нужно... Да! Нужно, чтоб он пришел к нему в хату! Вот не вернусь в госпиталь – так и прискачет! И хата Оксаны Ивановны предстала ему тем последним рубежом, на котором надо стоять до конца. Итак – последняя схватка? Да, пожалуй, так оно и есть.
И окончательное решение ему явилось само собой.
Он попросит Оксану Ивановну уйти к сестре в Тризименку с детьми. Поймет ли его? Поймет. Она все хорошо понимает! И Василий Михайлович ускорил шаги.
Теперь дорога́ каждая минута. До появления старосты Оксана Ивановна и дети должны скрыться. Уйти как можно дальше от села. Только бы Оксана Ивановна не расплакалась, не загубила жалостью к нему и к родному крову его замыслы. Он решил, что не стоит ее посвящать в задуманное, надо лишь убедить ее увести ребят. И не возвращаться домой, как и Саша. Так нужно. И все. А в остальном он разберется сам.
Василий Михайлович свернул к первому на пути дому и рассказал хозяйке Евдокии о беде, нависшей над детьми.
– Спрячь ребят. И другим накажи. Пока староста не объявился. Он уже пошел по дворам.
Заскочил в другой дом.
– Будут кровь брать. А сколько они этой крови детской выпьют – и богу неизвестно, – заметил он благочестивой, всегда покорной Марии Платоновне.
– Бог не позволит! – перекрестилась та.
– Позволит! – жестко произнес Василий Михайлович. – И не такое позволяет. Вон в Германии дети в печах горят. Спеши. Времени их перекрестить не останется. Прощай. И прячь хлопцев. Где только можно. Если не успеешь, объяви их больными, заразными. Может, отступятся...
Почти бегом он направился к хате Оксаны Ивановны. Оглядел еще раз хату и двор, вишни, сарай. Все, что было понастроено в той, мирной жизни. Матовая белизна снега придавала всему особую красоту. Прочное хозяйство, которое теперь не было нужно.
Оксана Ивановна, почуяв неладное по его шибкой ходьбе, вышла к нему. И калитку открыла.
– Вот и добре, что вышла, – сказал, переводя дыхание, Василий Михайлович, – спасай детей от немецких лекарей... В общем, так: возьми еду на дорогу, потеплее оденься. И скорей, скорей в поле. Идите в Тризименку. Да ребятам адрес скажи. На всякий случай. Чтоб, если что случится, знали, куда путь держать. Фамилию сестры пусть запомнят. Об остальном детям знать не следует. Сейчас не следует. Потом, когда скроетесь за полями, скажи. Еще лучше, когда придете в Тризименку. Мне с тобою идти нельзя. Увидят. Сначала ты с ребятами. А я догоню. Ксюша, – попросил он совсем тихо, – покличь ко мне ребят, – и вошел в сарай.
Прибежали Тимка и Семка.
– Сема, найди в кухне трубку, – попросил Василий Михайлович. – Оксана Ивановна на шкаф положила. И сюда с нею. Чтоб Оксана Ивановна не заметила. Махорку захвати. Набить чубук надо. Тима, а ты в другом помоги. Значит, вот какое дело: в собачьей конуре бензин в бутылках имеется. Давно поставили и стоит. Ты осторожно так расплещи его в сенях по соломе и в подполе. Да смотри! Оксане Ивановне на глаза не попадайся! Понял? Только быстро надо. Ну, кати! Это солдатское дело, – заметил он Тимке.
В хате Оксана Ивановна связывала узлы.
– Ничего из барахла не берите, – решительно потребовал Василий Михайлович. – Не донесете и в поле увязнете. И пропадете с ним! А вот одеться следует получше. Поплотнее. Шерстяную кофту. Шерстяной платок. Ну еще там что... Тебе виднее. Так. Так. Так, – оценивал он скорые дела Оксаны Ивановны. И как бы поторапливал ее. – Ну, идите. Идите. Ребята за изгородью ждут. У них все в порядке. Я догоню вас. Не беспокойтесь. Даже если не сразу догоню. Тоже ничего. Буду идти по адресу: на Тризименку. Такое время, Ксюша, – сказал Василий Михайлович, выходя за нею из хаты, – гуртом маячить не рекомендуется.
Едва они все трое выкатились за изгородь, Тимка метнулся назад. Заскочил в хату, как попросил его Василий Михайлович, открыл подпол, влез в него и там по соломе расплескал две бутылки бензина. Оставив подпол открытым, умчался к Оксане Ивановне.
Василий Михайлович сел за стол. Теперь можно и раскурить трубку.
Староста пришел к нему не так скоро, как ожидал Василий Михайлович. Часа через два.
– Почему не ведешь детвору?! – раздался его крик из сеней.
Василий Михайлович не ответил, ждал, когда староста войдет в хату.
– Почему не ведешь, спрашиваю? – шагнул тот к столу.
– Как их вести, видишь: без рук я. Подогнать нечем.
– Оксана Ивановна! – крикнул староста на всю хату.
– Да не кричи, – остановил его Василий Михайлович. – Нет ее. В гостях засиделась. Уж эти бабы. Война, а им бы только по гостям расхаживать, – пожаловался он.
– А ребята где? – нетерпеливо спросил староста.
– Да где ж им быть? Конечно, дома, – вяло ответил Василий Михайлович. – Их, стервецов, давно пороть надо. От рук отбились. Не слушаются – и все, – опять как бы пожаловался Василий Михайлович.
Староста прислушался к тишине в хате, осмотрелся. Безмолвие не нарушалось ни одним шорохом.
– Не услал ли ты и детей в гости, а? Мозги затуманиваешь!
– Да что ты так, Юхим Семенович?! – Василий Михайлович встал из-за стола. – В подполе они. В подполе попрятались – и сидят. Ну как их мне вытаскивать оттуда? Вот загляни, Юхим Семенович, какой подпол. Страсть какой! И зачем такой подпол деды копали?! А детям что? Забрались туда – и не выковырнешь. Что тут с ними поделаешь! Одно слово: дети. Вот если только ждать, когда они сами вылезут...
– Что за подпол? – настороженно и подозрительно спросил староста, проходя в кухню за Василием Михайловичем.
– Этому подполу сто лет. Тут раньше, пока хата еще не была выстроена, погреб был, – начал объяснять Василий Михайлович. – Просто чудно как-то, что ты про него не знал. Ну, слава богу, хоть теперь посмотришь. А то мало ли что сказать захочется. Да, да. Про меня же и скажешь. Служу Германии, а в хате тайный подпол. Я думаю, недоброе это дело от властей тайны хранить. Ну вот и случай представился всю хату, как другу показать. Смотри, смотри. Я весь как на ладони. Мне таиться не к чему. Хлопцы, слышите? Выходите! – крикнул Василий Михайлович в глухую темноту подвала. – Не то худо будет.
– Выбирайтесь, выбирайтесь, хлопцы! – стараясь быть ласковым, поддакнул староста Василию Михайловичу. – Хуже будет, если придется силой вытаскивать. Слышите? Сам полезу, найду, – пригрозил он.
– Вот, вот! От Юхима Семеновича и темнота не спасет, хлопцы. Зря надеетесь! Выбирайтесь – так оно лучше будет.
– У меня и свет найдется! – похвалился Юхим Семенович и достал зажигалку. Для пущей важности чиркнул ею. Бледно-голубой огонек вспорхнул на фитиле.
– Ото машина! – удивленно воскликнул Василий Михайлович, увидев зажигалку в виде пистолетика. – А ну-ка, дай прикурить. Совсем трубка загасла. Не трубка, а чистая беда, – говорил Василий Михайлович, перекатывая трубку во рту. – Если не секрет, где такую зажигалку достал?








