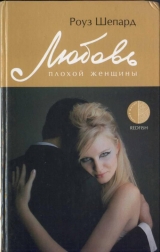
Текст книги "Любовь плохой женщины"
Автор книги: Роуз Шепард
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
– Да потому что у тебя железный желудок, а у меня слабый. Это все из-за матери. Она всегда была зациклена на чистоте. За неделю она переводила галлоны хлорки, не меньше. Это была не просто причуда, а прямо-таки паранойя какая-то. Сыр чуть заплесневел – на помойку. Овощи мылись так, что от них почти ничего не оставалось. Откуда в таких условиях у меня мог появиться здоровый иммунитет, как у всех нормальных детей? Меня лишили моей порции грязи. – Элли, внезапно уяснив для себя, что она пала жертвой преступного небрежения, мстительно обвинила во всем злополучную Сибил.
– Бедная бабушка. Все, что она делала, она делала не так.
– Что ты все «бедную бабушку» жалеешь? А как же бедная я?
– К обеду все пройдет, я не сомневаюсь. Тебе принести аспирина? Или витамина С?
– Погоди. – Двумя пальцами Элли попыталась приподнять одно веко. – Воздух глаза режет, – простонала она.
– Да, похоже, тебе совсем плохо.
– А как начет этого ленивого педика, этого хулигана, что ходит сюда и делает вид, что убирается? Он соизволил сегодня появиться?
– Тревор? Он пьет чай.
– Я плачу ему не за то, чтобы он рассиживался тут целый день за чаем.
– Вообще-то он сегодня уже очень много сделал. Натер лестницу, причем очень тщательно.
Джуин повернулась к окну спиной, уселась на подоконник и, опираясь руками, стала раскачиваться взад и вперед. Голова Элли закружилась еще быстрее.
– Прекрати, прошу тебя, – взмолилась она.
– Что?
– Раскачиваться. У меня голова кругом идет.
– Прости. – Джуин перестала качаться и несколько секунд сидела, покусывая губы. Потом протянула: – Ма-ам?
– Что-о? – передразнила ее Элли. – Слушай, будь солнышком, передай мне зеркало с комода.
– Сейчас. – Джуин соскользнула с подоконника, пошла к комоду за зеркалом, и вдруг задумалась о сути бытия. Она задумалась о загадочности «я», попыталась представить, каково это посмотреть на амальгамированное стекло и наткнуться на взгляд самовлюбленных ясных голубых глаз Наоми Маркхем; или увидеть, как тебе подмигивает накрашенная шикарная Элейн Шарп; или встретить там служанку при дворе Клеопатры. И ей пришлось (пусть запоздало) признать свое поражение в споре с Тревором: действительно, человек был только тем, чем он был, или его не было вообще. Какой толк в том, чтобы метаться по вечности то в одном обличье, то в другом? Та чудесная комбинация физического и психологического, которую мы называем личностью, уникальна и случайна, смертна и неповторима. Она будет Джуин Шарп до тех пор, пока не умрет, а потом ее не будет.
Что ж, с ней могло бы случиться и что-нибудь похуже – например, она могла родиться своей матерью. А вот Элли увидела в зеркале свое помятое, со следами вчерашнего макияжа лицо и вовсе не огорчилась. Напротив, она даже улыбнулась себе одобрительно. Возможно, она испытала облегчение, узнав, что все еще жива. А может, ее близорукость была ее благословением.
– Наоми теперь будет жить у нас или как? – спросила Джуин.
– Ни в коем случае. Моя терпимость не безгранична. А что?
– Значит, она вернется к Кейт?
– На некоторое время. – Элли сморщилась. Но не только потому, что внутри ее черепа кто-то бил в барабан, но и потому, что сознание и память полностью вернулись к ней. Как она сможет все объяснить?
– У меня появилась одна идея…
– Не сейчас, ладно, Джуин? Твоя идея не может подождать?
– Ты ведь собираешься в Италию на две недели, так?
– Ну да, и что?
– Я подумала, может, Наоми пожить в это время у нас.
– О, к тому времени, я надеюсь, она уже решит свои проблемы. Вчера она как раз мне сказала, что у нее появилось кое-что на примете.
– Но если ей все еще некуда будет деваться, то пусть она поживет здесь.
– Не думаю, что ей будет интересно присматривать за тобой, радость моя. И вообще, мне казалось, что ты не выносишь ее.
Джуин пожала плечами:
– Две недели я бы потерпела ради такого случая. То есть если уж приходится выбирать между ней и Люси Горст. Между тем, чтобы поехать в Шотландию или остаться в Лондоне. И, кроме того, Кейт и Алекс хоть немного передохнут.
– Джуин, солнышко. – Секунду-другую Элли смотрела на дочь больными глазами. Потом она похлопала рукой по одеялу рядом с собой. – Сядь-ка сюда. Мне надо кое-что тебе сказать.
_____
Вторую половину дня Кейт провела у Фробишеров в Путни. Сначала она приводила в порядок разношерстную конгрегацию терракотовых кадок, старых горшков, каменных сосудов и урн в садике позади дома, а потом в очередной раз сажала цветы в подвесные ящики под окнами – Джанет Фробишер была слишком невнимательна, чтобы заниматься поливом, и цветы в ящиках целых семь недель доблестно боролись с обезвоживанием; иссушенная пеларгония еще взмахивала кое-где красным флагом, но тщетно. Джанет в общем была симпатична Кейт. Это была высокая женщина со светлыми волосами, питавшая пристрастие к неярким индейским тканям. Она напоминала экзотическую подушку, которая слишком долго пролежала на солнце. У нее был ленивый, блуждающий взгляд, придающий ей рассеянный вид, и целый выводок детей, чьи имена она неизменно и невозмутимо путала. Она была нетребовательным (чтобы не сказать – небрежным) клиентом.
В какой-то момент, когда Кейт высаживала кусты розовой герани, к окну с другой стороны подошла Джанет с двумя желтыми котятами на руках. Она безмолвно показала их Кейт, и женщины обменялись через стекло улыбками («До чего милые!» – говорили их улыбки). Со щемящей грустью Кейт вдруг вспомнилось, какими крохотными были когда-то Пушкин и Петал. Джанет на миг прижала котят к лицу, а потом опустила их на спинку дивана, откуда те отважно поползли вниз. Остальное же время Кейт была наедине с «Радио-4» и своими мыслями, которые беспорядочно всплывали в ее голове, как всплывают с океанского дна обломки после кораблекрушения.
«Садоводство, – говорила она сама себе, утрамбовывая землю вокруг корней стелющейся лобелии, – гораздо более тяжелая, более сложная работа, чем кажется. Люди, не занимающиеся садоводством, тратящие свое время и силы на более серьезные дела, считают, что ты просто выкапываешь ямки в земле и втыкаешь туда какую-то зелень. На самом деле они видят только самую простую и самую благодарную часть долгого процесса, который начинается вдалеке от сада – на цветочном рынке или в теплице – и который включает в себя неподъемные мешки с фунтом, неудобные горшки и подносы с рассадой, мозоли на когда-то нежных руках, острые шипы и колючки и больную спину от огромного объема кропотливой, трудоемкой подготовительной работы. А Джанет Фробишер, случайно выглянувшая на улицу во время возни с котятами, наверняка сочла, что ты занимаешься сущими пустяками».
Кейт, в пылу безжалостного самоанализа, допускала, что испытывала некое смутное удовлетворение оттого, что ее недооценивали. Элли была права, говоря, что ей, Кейт, нравилось – даже не нравилось, а было необходимо, – чтобы на ней ездили. Она чувствовала себя уверенней и спокойней, зная, что ей должны больше, чем когда-либо заплатят деньгами или признанием. Таким образом она не ощущала себя психологически по уши в долгах.
И в этом свете становилась очевиднее плачевность нынешнего состояния Наоми. Дело было не только во временной нищете (хотя, бог свидетель, для нее это было невыносимо; без денег она становилась слабой и плаксивой). Банкротство можно пережить, если иметь секретное оружие – уверенность в себе. Но Наоми жила на грани того, чего стоила; нет, она жила за этой гранью. С тех пор как она выросла из детских платьев, ее всегда ценили. А теперь, лишенная похвалы и лести, она обращала свой взгляд внутрь себя, но там не на что было опереться.
«Я все сделала правильно, – решила Кейт. – Я отлично справилась». Она откинула волосы с лица (то ли летом волосы росли быстрее, чем зимой, то ли ей это только казалось) и, прищурившись, посмотрела на жемчужное небо, на диск солнца. Вот только в своем стремлении справиться не сузила ли она поле действия, не удовольствовалась ли малым, хотелось ей знать.
Наоми, по крайней мере, было что рассказать; ее приключений хватило бы на целую книгу. А история жизни Катарины Гарви, в девичестве Перкинс, уместилась бы на обратной стороне почтовой марки.
И чего же она в результате достигла? Она была «хорошей матерью», но эта ее роль подходила к концу. Если считать, что, родив и воспитав Алекса, она совершила что-то поистине стоящее, то это значило, что на сегодняшний момент она свое дело сделала. Не слишком ли много она вкладывала в это мероприятие, не слишком ли многое ставила на него?
Два десятилетия она посвятила своему отпрыску, практически забыв о себе. Для нее в эти годы не существовало ни секса, ни романтики, ни каких-то увлечений, ни интеллектуального развития. В определенном смысле она была так же заброшена, как, скажем, эта высохшая пеларгония – горстка ломких листьев и стеблей, пародия на растение, в котором больше не текли живительные соки. Она встряхнула корни несчастного цветка, и на землю со стуком посыпались твердые комья. Кейт никогда не была так близка к тому, чтобы невзлюбить Алекса, как в это мгновение, когда пыталась проморгаться от пыли и боролась с желанием чихнуть.
Но, разумеется, его вины в этом не было. Не было смысла в том, чтобы винить дитя, рожденное от союза наивности и самонадеянности. Ответственность за все несла она. Она и Дэвид. И их юность. И давление старших.
Всеобщее увлечение Дэвидом Гарви было заразительным, и она заразилась им так же, как в свое время заражалась ветрянкой, корью, свинкой. Он вошел в нее, столь же неразборчивый, как вирус, столь же легкомысленный в отношении последствий. И одна ночь определила весь ход двадцати двух последующих лет ее жизни.
А теперь, совершенно для нее неожиданно, оказалось, что те последующие двадцать два года стали двадцатью двумя годами прошлого. Как будто вся ее жизнь развернулась на сто восемьдесят градусов. Она чувствовала себя главным персонажем театральной постановки, где в какой-то момент свет над ее головой погас, во мраке сменились декорации, костюм, макияж, и вот свет снова зажегся, и она – постаревшая, поседевшая, в иных обстоятельствах – вновь предстала перед публикой (разумеется, скучающие зрители встретили ее раздражающим покашливанием, шуршанием конфетными обертками, недовольным стуком складными сиденьями). В программке было указано: «Много лет спустя». И: «В другой части леса».
Пришло время отпустить Алекса. Таково было его желание, она была уверена в этом. В глубине души она осознавала, что он оставался с ней только ради нее, а не потому, что ему этого хотелось. Эти несколько недель она ощущала напряжение его невысказанной неудовлетворенности, видела, как оно заполняло собой его добрые глаза, поднимаясь откуда-то изнутри, как по системе капилляров. Но она должна его отпустить и ради себя самой. Ей необходимо было создать пространство для секса, романтики, развития, увлечений.
Ого, чудесная перспектива вырисовывается!
– Теперь сад снова выглядит замечательно, – сказала Джанет, отсчитывая деньги для Кейт.
– Только обязательно ухаживай за ним, хорошо? – в очередной раз попросила ее Кейт. – А то опять все засохнет.
– Конечно. Я просто забываю. Прости… Но я постараюсь, обещаю. Вот увидишь. Следующий раз, когда ты приедешь… потому что ты должна приехать. Например, на ужин. Я познакомлю тебя с Полом. Ему бы хотелось узнать, кто это такая Кейт Гарви. Он всегда говорит, что ты творишь чудеса.
– Разумеется, я буду очень… – неуверенно пробормотала в ответ Кейт.
Рада? Она боялась, что нет. Она знала, что определенные супружеские пары, до полусмерти надоевшие друг другу, любили приглашать к себе одиноких женщин. Они усаживали гостью и с притворной скромностью призывали ее позавидовать их дому, их упорядоченному быту, их преувеличенному согласию. При каждом удобном случае они употребляли местоимение первого лица во множественном числе, говоря «мы», «нам», «наше», щеголяя своим супружеством перед одиночкой вроде Кейт, которой (бедняжка!) суждено было до конца жизни говорить «я» и «мне». Со снисходительной улыбкой они настойчиво угощали такую гостью, будто неизвестно было, где в следующий раз ей доведется поесть. Они рассказывали о домашнем благоустройстве, о расширении, о совместном отдыхе за границей, об их надежде переехать когда-нибудь за город… Слишком часто Кейт опекали таким вот образом, в том числе Джон и Джеральдин, которые то и дело начинали проявлять к ней преувеличенный интерес, но потом милосердно оставляли на время в покое.
Однако Джанет, сделав столь неопределенное приглашение, тут же взмахом руки отменила его. (Подумав, она решила, что Пол, может, не будет так уж рад сидеть за одним столом с наемной работницей.)
– Хотя боюсь, – пошла она на попятный, – тебе слишком далеко добираться. И у тебя наверняка все дни расписаны.
– В общем, да… – усмехнулась Кейт, засовывая банкноты в задний карман джинсов, откуда потом она сможет достать их только с огромным трудом. – Не забывай удалять засохшие цветки, как я тебе показывала, – напомнила она через плечо, когда Джанет провожала ее до машины. – Только не просто обрывай их, а обламывай на стыке.
Когда она ехала домой, то приоткрыла окно, чтобы ветер сдул ее излишне решительный настрой. Кейт отказалась от своего недавнего решения, от своих высоких побуждений, от замысла освободить бедного Алекса от обязательств. Боковым зрением она увидела, как ее намерения пролетели над придорожной деревушкой.
Вместо этого она решила, что Алексу просто чаще надо выбираться из дому по вечерам. Дома в Тутинге ему нечем было себя занять. Очень хорошо. Она была готова к такому повороту событий: в строительной компании у нее были сбережения, на которые можно будет купить ему машину.
И к тому времени, когда Кейт свернула на Лакспер-роуд, эта идея уже четко оформилась в ее голове, она даже определилась с моделью машины (для Алекса она бы предпочла «фольксваген-битл» – хорошо сконструированный, надежный, но не слишком быстрый, неопасный).
Она припарковалась, как всегда неумело, натолкнувшись на крутой поребрик, и вышла из машины.
Перед ее калиткой стояла девочка с лохматой собачонкой. Ее тонкие руки, большие глаза, поношенное платье были такими трогательными, что она казалась сошедшей с картины художника-сентименталиста. Она была олицетворением бездомного детства. Ее портрет в газетах, несомненно, поспособствовал бы всплеску благотворительности. Но это была не бездомная сирота. Это была всего лишь…
– О, Джуин, – ласково окликнула ее Кейт. – Какой приятный сюрприз! Ты давно ждешь? А я работала. В Путни. И я не ждала… Тебе надо было сначала позвонить, мы бы договорились о времени. До шести я редко бываю дома. – На ее лице появилось выражение озабоченности; сощурившись, она пригляделась к лицу Джуин. Аллергия? Или девочка плакала? Если так, то легко догадаться, в чем дело. Наверняка рассорилась со своей невозможной матерью.
Слегка раздувшись от тщеславия, от удовлетворения, что, по крайней мере, с родительскими обязанностями она справлялась лучше некоторых, Кейт была уже готова, метафорически выражаясь, принять Джуин под свое крыло. Она усадит ее, нальет колы и скажет: «Ну, рассказывай тетушке Кейт, что там у тебя стряслось». Она будет сама терпимость и здравомыслие, выступая в защиту Элли, такой трудолюбивой, такой талантливой, такой увлеченной своим делом, у которой, разумеется, было доброе сердце, какой бы самолюбивой, легкомысленной или высокомерной она порой ни казалась.
Джуин нагнулась, чтобы взять на руки своего пса – лающий и брыкающийся комочек. Она прижала его к груди, словно защищая от кого-то, покачала его немного, потом застыла на секунду неподвижно, собираясь с духом, собирая разгулявшиеся эмоции. Она подняла голову и посмотрела на Кейт почти с вызовом. Когда она наконец заговорила, в ее голосе были слышны обвинительные ноты.
– Кейт, – произнесла она хриплым неровным голосом, – мне кажется, ты должна это знать.
– Что? – Кейт невольно сделала шаг назад, словно отодвигаясь от чего-то, что может вот-вот взорваться. Она непонимающе смотрела на Джуин. В первый раз ей пришло в голову, что девочка, может, была не в себе.
– Мне кажется, ты должна знать, – повторила Джуин. Она закусила дрожащую губу, потом судорожно вздохнула. – Ты должна знать, – торопливо закончила она, – что происходит под твоей крышей. Прямо у тебя под носом. Думаю, у тебя есть право знать, что делает Наоми.
Глава пятая
Кейт встала в очередь в ту кассу, где обслуживались покупатели с малым количеством покупок. Это была очередь для тех, кто, как и она, расплачивался наличными, кому для покупок хватало корзинки и у кого не было никакой личной жизни. Не для нее теперь были большие тележки, нагруженные разнообразной бакалеей, изысканной гастрономией и громкоголосыми малышами в бейсболках. Она была одинокой. Ручки корзинки больно впивались ей в пальцы. И это унизительное стояние в очереди для одиноких ей приходилось испытывать ради того, чтобы приобрести скучнейшие товары первой необходимости (жидкость для мытья посуды, туалетную бумагу, корм для кошек, растворимый кофе), а не что-нибудь более интересное (козий сыр, каперсы, высушенные на солнце томаты или итальянское белое вино).
«Люди в депрессии, – сказала она себе, – никогда не должны ходить в супермаркеты». В ее нынешнем состоянии (не то чтобы в депрессии, но как минимум в расстроенных чувствах) это решение показалось ей почти таким же мудрым, как конфуцианские заветы.
Столпотворение в магазине чуть не довело ее до слез. Она раздраженно топталась вокруг полок и холодильников, все подступы к которым были захвачены совещающимися семьями. Она подпрыгивала от нетерпения, пока они выбирали одну из двух идентичных банок с фасолью или решали, какую марку нежирного молока предпочесть дюжине остальных. Она шипела и кидала убийственные взгляды на хозяев тележек, перегородивших все проходы и мешавших ей пройти. В то же время с координацией движений у нее сегодня было что-то не в порядке, и она непрестанно билась об острые углы, натыкалась на твердые препятствия. И где-то между десертами и морожеными овощами она не выдержала. Окруженная вареньями, соусами, консервированными рисовыми пудингами, она остановилась и сказала вслух: «Я больше не могу», – и действительно не могла сдвинуться с места целую минуту.
Теперь, стоя в очереди в кассу, она закрыла глаза и стала слушать, как где-то неподалеку пронзительно ныл ребенок: «Хочу жвачку, хочу жвачку». И она задумалась, не существовало ли перечня признаков, по которым можно было определить, что у человека вот-вот случится нервный срыв.
Прошло три недели с тех пор, как ее мир развалился на кусочки. Три недели, как Джуин Шарп (то ли из добрых, то ли из злых побуждений, а может, просто не совсем осознавая, что делала) приехала сообщить то, что Кейт хотела бы услышать меньше всего на свете.
Наоми и Алекс. Алекс и Наоми. В ее мозгу эти имена отталкивались друг от друга подобно одноименным полюсам. И аналогичным образом разлетались в разные стороны ее сжимающееся сознание и невозможная правда (слово «немыслимый» казалось уместным как никогда).
– Ты врешь! – заорала она тогда на улице, не обращая внимания на невольных слушателей (Уилтоны, выходящие из «субару», все как один обернулись и неодобрительно посмотрели на нее). Джуин, с заходящимся лаем Маффи на руках, испуганно съежилась, вжалась в кусты бирючины.
– Я не поверю в это, – затем провозгласила Кейт, – пока сама не услышу все от Алекса.
И она услышала все от Алекса.
Ее обманула подруга, ее обманул родной сын. Даже ее собственный дом, казалось ей, был на их стороне, пряча тайных любовников в укромных уголках, давая им кров, скрывая их деяния, храня их секрет. И она мстила ему за это: топала вверх и вниз по лестнице, входила и выходила, хлопала дверями, стучала кулаком по вероломным стенам.
– Ты не можешь, – сказала ей Наоми, – привязать его к себе завязками фартука. – И несправедливость этих слов, смехотворный, оскорбительный образ, беспредельная наглость возвращались к Кейт снова и снова с такой силой, что перехватывало дыхание.
Кейт всегда держала себя в состоянии готовности, предвидя всевозможные беды (болезнь, несчастный случай, смерть), она всегда была готова встретить боем обычное, стандартное несчастье, но она совершенно не предполагала, что с ней может стрястись такая страшная катастрофа. Она скорее бы поверила, что у Алекса появилась страсть к наркотикам, но никак не страсть к Наоми. Она скорее допустила бы алкогольную зависимость, но не зависимость от Наоми. Может быть, она бы даже предпочла – нет, не может быть, а точно, – она предпочла бы узнать, что он гомосексуалист. Привязанность ее сына к этой мерзкой женщине была столь же отвратительна, сколь и непостижима.
– Мы так и думали, что ты тяжело это воспримешь, – проинформировала ее Элли, таким образом ловко ставя себя в один ряд с участниками сговора.
Тот факт, что она узнала об этой связи на целых двадцать четыре часа раньше, чем бедняжка Кейт, доставлял ей ни с чем не сравнимое удовольствие. Конечно, она отругала Джуин на чем свет стоит за неблагоразумие, пропесочила девчонку от души, но потом, поднимаясь по лестнице, чтобы сделать эпиляцию в области бикини, не удержалась от того, чтобы не расспросить дочь о том, кто что сказал, кто как отреагировал и тому подобное.
– Это совсем не трагедия, как ты себе это рисуешь, – урезонивала она Кейт. – Это маленький романчик, не более того. Он окончится сам собой, вот увидишь.
– Тебе не понять, – горько упрекнула ее Кейт.
– Ну так объясни.
Но Кейт не могла бы объяснить, даже если бы захотела, как много она потеряла. Она лишилась не только каждодневного общения – той самой близости – со взрослым сыном, который теперь жил с Наоми («сожительствовал», как выразилась Элли Шарп) в чужой квартире. Она лишилась и всего его прошлого, в котором она уже выстроила для него совсем другое будущее. Надежды, мечты, амбиции теперь, задним числом, нужно было перекраивать. Ее воспоминания были обесценены. И Алекс стал чужим.
С момента его рождения у нее бывали моменты странного неузнавания. Бывало, он лежал в своей кроватке, глядя на электрическую лампочку, или бежал со смехом за мячом, или склонялся сосредоточенно над моделью самолета на столе, и она вдруг задумывалась: «Кто ты? Что ты? Почему ты есть?» Наверное, это было чем-то сродни тому, как написанное тобой слово, например «удивлять», «лесть» или «февраль», неожиданно выпрыгивало из страницы, ударяло тебя по глазам, и ты начинал сомневаться, а существовало ли вообще такое слово. Хотя нет, это было нечто большее: Алекс был для Кейт чудом, и поэтому неизбежно на нее время от времени снисходило ощущение волшебности происходящего.
Но в тот вечер она столкнулась с новым и чужим Алексом. Она узнала то, о чем раньше и не догадывалась – то, что в нем живут и горячий гнев, и холодный вызов. Прямой, очень высокий, он обратил на нее взгляд, полный неприязни. А потом он покинул ее.
Она всегда знала, что однажды ей придется проводить его, увидеть, как он постепенно уменьшается в размере, уходя от нее по широкой и прямой дороге. Но он ушел внезапно и окончательно, не оставив после себя ничего, что смягчило было горечь разлуки: он просто свернул за угол и тут же пропал из виду.
И пусть Элейн Шарп и ей подобные примут к сведению, что для нее, Кейт, это действительно было такой трагедией, какой она себе ее рисовала. Для нее это было бесконечно трагично. Вот и все, что требовалось понять.
Одна Джеральдин отреагировала с должным беспокойством.
– Как, твой Алекс? – уточнила она, задыхаясь от возбуждения, пыхтя в телефонную трубку. – Наша Наоми? Но это же…
– Да. Немыслимо.
Значит, было что-то в генах Гарви (так, наверное, думала Джеральдин), в генах ее распутного брата, в генах помешанного на сексе племянника, что погубило обоих и что неизбежно погубит ее сына.
– Я бы с радостью убила ее, – сказала Кейт, и эти слова были чистой правдой (за исключением, может, только слов «с радостью»).
Три недели. Двадцать один день. Пятьсот с чем-то часов. И в эту пятницу все в ней так же восставало против связи сына и Наоми, как и в тот вечер, когда она только узнала о ней.
Она говорила себе, что ей следовало бы догадаться – потом она говорила себе, что она догадывалась. Лучше так, чем понимать, что была идиоткой. Должно быть, на подсознательном уровне она заметила интимность случайного соприкосновения рук, налет чувства вины в двух встретившихся взглядах. А может, это только сейчас, вспоминая подобные мелочи, она видела в них скрытый смысл.
– Уходи, – сказала она, – уходи, уходи немедленно, убирайся вон! – Данное распоряжение относилось только к Наоми. Но, разумеется, послушный велению долга (хотя долг в данном случае был избирателен, поскольку верность обеим женщинам означала бы предательство по отношению к обеим же), Алекс тоже ушел.
– Кейт, Кейт, – умолял он ее, стоя в дверях, на короткое время снова превратившись в прежнего Алекса, ее Алекса. – Я не хотел огорчать тебя. Только вот… – «Только вот я люблю ее» – эти слова остались милосердно несказанными, но за них говорил весь его вид. Тогда он продемонстрировал исключительную, на взгляд Кейт – бесстыдную, преданность мужчины женщине.
Теперь они ежедневно говорили по телефону: несвязно, отрывочно – мать и сын. Он отказывался навещать ее без Наоми. А Кейт, не забывшая и не простившая фразу про «завязки фартука», отказывалась принимать их вдвоем. Она предупредила, что не может ручаться за свою сдержанность в случае, если увидит их вместе. Ах, значит, он считает, что она ведет себя неразумно? Ну так она покажет, что значит действительно вести себя неразумно!
А тем временем жизнь продолжалась. И конвейерная лента подвезла к скучающей кассирше те предметы и вещи, которые Кейт, живя, расходовала. Она по-прежнему пила кофе, мыла посуду, ходила в туалет. По-прежнему надо было кормить Пушкина и Петал – эти двое не давали забыть о себе.
– Одиннадцать семьдесят два, – сказала кассирша.
– Ой. – Кейт потянулась к сумке, которая должна была висеть на плече придающим уверенность грузом, но ее там не было. – Я… – Все ее существо сконцентрировалось вокруг сердца. Она превратилась в розу, ярко-красную, туго свернутую в центре, мягкую и безвольную по краям. – Наверное, я оставила ее в машине, – призналась она в отчаянии. И сказала себе: «Я схожу с ума, вот в чем дело. Я уже на пределе».
Был призван администратор торгового зала, и ее покупки, вдруг ставшие такими жалкими, были отложены в сторону до ее возвращения. И не из-за чего было так смущаться. Такое случалось сплошь и рядом. (Об этом ей сообщил помощник кассира, для которого подобные казусы были развлечением; но стоящие в очереди покупатели, недовольно перешептывающиеся и переминающиеся с ноги на ногу, не разделяли этого благодушия.)
Расстроенная и запыхавшаяся Кейт добежала до оставленного на парковке «фиата» – в самом дальнем углу, подальше от переполненной машинами зоны у входа в магазин.
Асфальт около машины был покрыт осколками стекла, похожими на россыпь фальшивых драгоценностей. Окно со стороны водителя было разбито, а сумка, забытая ею на переднем сиденье, – исчезла. В сумочке лежали ключи от дома, кредитные карточки, наличные деньги на неделю. Там же, в бумажнике, лежали дорогие ее сердцу детские фотографии Алекса, которые она всегда носила с собой. И квитанция из химчистки. А еще мятые бумажные салфетки и счет из центра садоводства на гвоздики для Джонсонов.
Отчаяние переполнило ее. Она села прямо на асфальт и заплакала.
К ней подходили люди, привлеченные чужой бедой; другие же, наоборот, сторонились, негодуя на такую несдержанность. Для Кейт они были всего лишь ногами. «Что случилось?» – спросила пара коричневых мокасин у пары джинсовых босоножек. Кто-то (кажется, начищенные башмаки) набрали на своем мобильнике 999.
На плечо Кейт опустилась чья-то утешающая ладонь.
– Что украли?
– Все, – ответила бы она, если бы только могла найти слова. – Все.
– Может, надо позвонить кому-нибудь? Мужу? Другу?
Женщина в босоножках, хозяйка утешающей ладони, присела на корточки. Ее лицо, как на пружине, покачивалось перед Кейт.
– Сыну, – проговорила Кейт. – Ох, нет, только не ему. – И она, сама того не желая (или просто не имея сил подумать о ком-либо еще), назвала телефон Элли Шарп.
Джеральдин Горст рассеянно пригладила волосы на голове – примерно таким жестом гладят маленькую и не очень симпатичную собаку. Почему все часы в доме показывали разное время? Она закусила губу, чтобы сдержать раздражение.
Внезапный порыв ветра ворвался сквозь приоткрытую стеклянную дверь, принеся с собой яркий свет вечернего солнца, и надул парусом занавески. Он подхватывал со стола бумаги Джона, страницу за страницей, и швырял их в воздух. Свадебная фотография, стоящая в золоченой рамке на буфете, комично покачалась и упала.
– Крикни Люси еще разок, а? – попросила Джеральдин Джона, который бросился собирать разлетевшиеся документы. – Сколько она еще будет возиться? – В семь тридцать они должны были быть в Тилстоне, где давали «Йомена-гвардейца» [30]30
Оперетта английского композитора Артура Салливена (1842–1900), работавшего в содружестве с английским драматургом Уильямом Гилбертом (1842–1911).
[Закрыть]. Она задумывала этот поход в театр как семейное мероприятие, купила четыре билета, заранее предвкушая, как хорошо будет смотреться их сплоченная и впечатляющая группа. («Это Горсты», – будут шептаться зрители, толкая друг друга в бок при их появлении.) Но Доминик презрительно отнесся к ее затее и сказал, чтобы на него не рассчитывали. По зрелом размышлении Джеральдин пришла к выводу, что, наверное, это было к лучшему: существовал риск, что Доминик повел бы себя в театре вызывающе. Особенно если вспомнить его заявление, что Салливен и Гилберт – «полный отстой». Потом Люси сказала, что так и быть, она поедет в театр, но только при условии, что они возьмут с собой Джасинту. Кого? Клеменси Чепмен? Даже имени этого не произносите! Клеменси Чепмен может идти к черту. Люси не было никакого дела ни до Клеменси Чепмен, ни до Сары Брук.
Джон тут же вышел в коридор, чтобы позвать дочь. Он был рад возможности хотя бы на короткое время исчезнуть из поля зрения раздраженной жены. Она была обижена на него, а когда Джеральдин обижалась, это было заметно. Поездка в Шотландию, предполагаемое отсутствие Джона большую часть времени, возросшее бремя хлопот и обязанностей Джеральдин стали ядром, притянувшим к себе все ее недовольство и возмущение. И об этом недовольстве и возмущении она давала знать ежеминутно, ежесекундно. Будучи несгибаемой, целеустремленной женщиной, она целиком отдавалась тому, чтобы до всех донести свои чувства. И отвлечь ее могла только новая причина для неудовольствия. Шотландский кризис не будет забыт до тех пор, пока ею не овладеет идея отремонтировать ванную или переделать кухню или пока она не осознает потребность полностью сменить свой гардероб. И у Джона уже не было надежды на то, что когда-нибудь она будет всем довольна.








