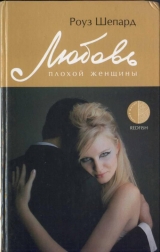
Текст книги "Любовь плохой женщины"
Автор книги: Роуз Шепард
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Бормоча смиренные извинения за свое странное поведение и невнятные объяснения, она снова скользнула в примерочную и торопливо натянула на себя новое платье.
Клетчатая юбка от Феррагамо и черный свитер отправились в пакет. Золотистокожей девушке не хватило бы и месячной зарплаты, чтобы купить такие наряды.
– Держите, – сказала Наоми, выходя из-за занавески, встрепанная после переодеваний. Она сунула в руки опешившей продавщицы пакет со своими вещами и выбежала из магазина.
Если бы кто-нибудь спросил у Наоми Маркхем, как добраться от Оксфорд-стрит до Фулхема, то она ответила бы: «Солнышко, возьми такси». Теперь она еще смогла бы добавить: «Или сядь на электричку линии «Виктория», на Виктория-стэйшн пересядь на линию «Дистрикт» (Уимблдонской ветки) и поезжай до станции Фулхем-Бродвей. Это просто».
В наступившей темноте Алекс сначала не мог разобрать, что за сумки или пакеты были свалены на ступеньках перед входом в его дом. Однако, сделав шаг назад, забрав с собой свою тень, пропустив вперед луч грязно-желтого света от уличного фонаря, он увидел, что на его неуютном крыльце скорчилась человеческая фигура. А приглядевшись поближе, увидев молочную кожу, блестящие белки глаз, он понял.
И он ощутил даже не боль, а мощный удар, оглушительный взрыв эмоций в груди, от которого у него перехватило дыхание. Но придя в себя немного, он спросил небрежным тоном, голосом, который дрожал лишь самую малость:
– И что ты здесь делаешь?
Как долго она ждала? Наоми не могла бы сказать. Казалось, темнота уже несколько часов назад выползла из щелей в асфальте, медленно вскарабкалась вверх по стенам, но небо было светлым до последнего мгновения. Она промерзла до костей (лондонские парки могут-таки проснуться в великолепной глазури инея). Или это от страха зубы так звонко стучали у нее внутри черепа?
Она страшилась его прихода – страшилась больше, чем если бы он вообще не появился. Может, он встречается с кем-то – с какой-нибудь юной девочкой. Может, он вернется очень нескоро. А может, он придет вместе со своей новой девушкой. И как тогда Наоми будет выглядеть, сидя на крыльце под дверью? Какой жалкий вид у нее тогда будет!
Наоми была очень хороша в том, что теперь называется «самый неблагоприятный сценарий»: она мастерски придумывала наиболее плачевные варианты развития событий. И так живо стояла перед ее глазами нарисованная ею же картина, в которой Алекс склонялся над ней и смеялся, держа руку на плече восемнадцатилетней красавицы, что когда он действительно появился, то Наоми забилась в угол и не могла произнести ни слова.
Потом она пришла в себя и произнесла, заимствуя у Алекса нейтральный, разговорный тон, хотя это и потребовало определенного напряжения голосовых связок:
– Мне предложили работу. Я хотела, чтобы ты знал.
– Что-нибудь хорошее?
– Ну, как сказать… Для начала двести тысяч.
– А, понятно.
– Я отказалась.
– Что ж, наверное, ты поступила правильно. Э-э… так что ты тут делаешь, Наоми?
– Я только подумала… – Она протянула руку, и Алекс услужливо помог ей встать на ноги. Их разделяло всего несколько дюймов, ее лицо было поднято к его лицу. Его дыхание обвевало ее щеки, а она всматривалась в его черты, ища указание на его чувства, и она могла бы умереть, просто умереть от любви к нему. – Я почувствовала, – говорила она, а слезы делали ужасные вещи с ее тушью. – То есть мне показалось, что это было бы единственно верно. Я вспомнила, что тот кирпич для курицы был подарен нам обоим.
Глава одиннадцатая
– Приезжай-ка ты на Новый год ко мне, – решила Элли, проглатывая очередной пончик и слизывая кристаллы сахара с пальцев, – ты, несчастная, одинокая, доведенная до отчаяния женщина. Мы не можем допустить, чтобы ты куксилась дома одна, никому не нужная, под бой часов. «Побольше кружки приготовь и доверху налей» – а, что ты на это скажешь? «Мы пьем за старую любовь, за дружбу прежних дней!» [59]59
Отрывки из песни «Старая дружба» Роберта Бернса в переводе С. Маршака.
[Закрыть]И устроим танцы под звон курантов «Биг Бена».
– Я не одинокая, – возразила Кейт, которая раздраженно слонялась по комнате. Наконец она плюхнулась на диван, потянулась к заварному чайнику, но тут же отпрянула при виде собственного большеносого, угрюмого лица, отразившегося на шоколадной глазури чайника. – И не собираюсь впадать в отчаяние, хотя все равно спасибо. Все эти новогодние мероприятия – абсолютная бессмыслица. Очередная выдумка, чтобы не так грустно было жить, если хочешь знать мое искреннее мнение.
– Не хочу. У меня достаточно своих мнений, искренних и не очень. Некоторые даже считают, что у меня их слишком много. Нет, мы организуем классную вечеринку, – продолжала Элли, отмахиваясь от возражений Кейт. – И вообще, я думаю пригласить всю нашу компашку. Старых приятельниц. Это будет ночь сближения, закапывания топоров войны. И заодно отметим мое новоселье, это ведь первая гулянка в Шлосс-Шарп со времени ремонта. Может, стоит пригласить и моего горе-уборщика Тревора. Пусть он и не очень привлекателен с дерматологической точки зрения и не может похвастаться художественным талантом (ему бы придерживаться более авангардного направления – делать гипсовые слепки дыр, проделанных мочой в снегу, например, – а не упрямо изводить краски), зато новосельем я обязана именно ему.
– Бедный Тревор, – с чувством проговорила Кейт, – ты никак не можешь простить его.
– Ерунда. Все давно забыто и прощено. Подумаешь, небольшой пожар. Кроме того, юный Покок оказал мне огромную услугу, правда сам того не зная. Он, образно говоря, дал мне наводку.
– Дал – что? Эй, Элли, что ты сейчас сказала? Про нашу «компашку»? Ты ведь не собираешься…
– Разумеется, собираюсь. Позову всю нашу старую компанию. Горстов, да. И Алекса с Наоми.
– Тогда на меня не рассчитывай. Я просто не могу. Ты и сама должна понимать, – умоляла Кейт. В этом-то вся проблема с Элли Шарп и состоит, гневно думала она про себя, ее лучшие свойства являются ее же худшими качествами (или наоборот?). Порою трудно бывает отличить ее добрые намерения от не самых добрых. – У меня до сих пор в голове не укладывается, неужели они снова сошлись? Бессмыслица какая-то. Я была уверена, что у него уже прошло это наваждение. Я так надеялась, что все пойдет как надо.
– А я не могу поверить, что ты сих пор трахаешься с Джоном.
– Прошу тебя, выбирай выражения, – поморщилась Кейт.
– Какие выражения? Хотя, должна признать, немного секса после двадцати лет целомудрия тебе пошло на пользу.
– С чего ты взяла, что я была целомудренна? – от негодования Кейт буквально потрескивала.
– Да ты же сама мне сказала. Ты поделилась этим со мной в своей откровенной, задушевной манере. Ты сказала: «Элли, я прожила жизнь богобоязненной монашки».
– Ничего подобного!
– Ну, может, ты сформулировала это слегка по-другому. Тем не менее ты дала мне понять, что у монахинь ордена кларисок больше развлечений, чем у тебя. Урсулинки по сравнению с тобой ведут просто разгульную жизнь. Но я бы и так увидела разницу, ты так изменилась со времени своей интрижки с Джоном. Ты вся лучишься довольством, прямо-таки светишься в темноте. И помолодела лет на десять. Раньше ты выглядела, скажем прямо, как пожилое чучело. Теперь другое дело. У тебя даже волосы стали блестеть. Должно быть, это из-за спермы.
– Из-за чего? О, Элли, в самом деле!
– Итак, решено. Новый год встречаем у меня. Устроим праздник на целую ночь. Вы, миссис Гарви, тоже приглашены, и никаких отказов. В конце года мы избавимся от всех обид и печалей. Так, раз уж мы об этом заговорили, а как ты будешь отмечать Рождество? А, знаю! Будешь терзаться и страдать в одиночестве.
– Я буду вполне счастлива.
– Ну, разумеется. И зажаришь себе индейку, да? С начинкой и гарниром? Или для твоей уединенной трапезы подойдет более скромная птица? Я слышала, что бекасы очень вкусны.
– Ты у нас известный эксперт по отстрелу дичи.
– Пиф-паф! Ты убита!
– Отстань от меня, Элли, слышишь?
– Нет, не отстану, потому что меня это волнует. – Элли вдруг крайне обеспокоилась участью своей подруги, а также участью ее сестер по несчастью, попавшихся на удочку мужчин. Ее обуяла ярость. – Получается, такова доля любовниц – в праздники сидеть дома одной, да? Рождество, день рождения, банковские каникулы, – а «другая женщина» моет голову. День святого Валентина, День святого Суизина, День избиения младенцев и Обрезание Господне, – а она плачет над тарелкой супа из пакетика. Вознесение, Успение, День независимости, – она ждет телефонного звонка. День матери, День отца, Троица, Вербное воскресенье, Национальный день борьбы с курением, – она сидит с терпением памятника и улыбается своим страданиям.
– Пусть будет по-твоему, – сказала Кейт со вздохом, покорно смиряясь с правдой и заодно с потерянным утром.
Элли заявилась без предупреждения полчаса назад с пакетом выпечки для «второго завтрака», как она выразилась. Кейт уже собиралась выходить, но Элли поймала ее на крыльце, развернула обратно и предложила наесться до отвала. Этим она сейчас и занималась, а в перерывах между булочками отчитывала Кейт за то, что та не очень-то налегала на принесенное угощение. Элли была в отличной форме, из нее била энергия, она излучала не свойственное ей доброжелательство, поэтому Кейт рискнула спросить:
– Как работа?
– Работа? Да как обычно, все в порядке.
– Но мне казалось, что у тебя были… то есть, насколько я поняла, тебя пытались…
– Небольшая проблема локального характера. Ничего такого, с чем бы я не справилась. – Блестящими от жира и сахара пальцами Элли отмела идею о своей неспособности противостоять трудностям, потом втянула носом воздух и шумно выдохнула: – К Рождеству все закончится, как говорили про американскую войну за независимость.
– Где-то я уже это слышала. Кстати о «другой женщине»: как твои дела с Мартином Керраном?
– Батюшки, что за древнюю историю ты вспомнила! Финито. И обращаю твое внимание на то, что никто не пострадал. Потому что мы не были влюблены, понимаешь? Все наши проблемы из-за любви, а не из-за секса. Именно из-за любви и твои проблемы, если хочешь знать мое мнение.
– Не хочу. Я совсем не хочу знать твое мнение, Элли. – Кейт съехала с дивана на пол, стащив вместе с собой диванную подушку, и уныло оглядела комнату. В последнее время она периодически видела свой дом другими глазами. Раньше она любила его за достаточность, но теперь вдруг почувствовала, что для дома, как и для человека, одной лишь достаточности было недостаточно, как ни парадоксально это звучало.
Планировка и дизайн дома номер двадцать восемь стали казаться ей скудными, жалкими. Архитектор, должно быть, предвидел – или может, он так сам решил, – что по этому адресу никогда не будут жить по-настоящему исключительные люди. И он искусно подчинил этому решению будущих жильцов. Они никогда не возвысятся. Они будут знать свое место. Все в доме было совершенно убогих размеров, и так вышло не случайно, а было следствием злого умысла того архитектора. Ну а бесплатное приложение в виде глупого балкончика на фронтоне, эта бессмысленная железная мишура, несомненно, была чистой воды издевательством с его стороны.
В том же ключе Кейт пересматривала и свою жизнь, которая теперь тоже выглядела мелкой и ничтожной. Два ее самых больших приключения – беременность до замужества и роман с родственником и к тому же мужем ее подруги – уже выглядели не пикантными или дерзкими, а просто банальными. Банальной была и ее любовь к Джону, и да, именно эта любовь была сутью ее романа, хотя Кейт не собиралась признаваться в этом Элли.
– Кроме того, – добавила Кейт, отскребая обгрызенным ногтем засохшее пятно соуса с рубашки, – я, может, уеду куда-нибудь на Рождество. Или вообще уеду. Из Лондона. Лондон мне ужасно надоел, по правде говоря.
– Если человек устал от Лондона, – проницательно заметила Элли, – это значит, что он устал от Лондона. И куда же ты планируешь уехать?
– Не знаю. – Кейт пожала плечами, защищаясь. – Может, во Францию. Там я смогу найти работу.
– В декабре? Какую, например? Сбор крыжовника? Ты несешь полную ерунду, моя дорогая Кейт. На самом деле ты не собираешься свалить за границу, так ведь? Или ты хочешь сбежать от проблем? Так это тебе не поможет, потому что свои проблемы ты увезешь с собой, милочка.
– Это не так. Проблемы я оставлю здесь. По крайней мере, я оставлю Джона, и он сможет спокойно жить.
– А он хочет жить «спокойно», как ты выразилась? Мне казалось, что он хочет жить с тобой. Он хочет оставить Джеральдин. Разве не так?
– Но этого не хочу я. То есть хочу, но…
– Но не можешь справиться с чувством вины.
– Цена слишком высока. Я не хочу нести ответственность за разрушенные жизни нескольких человек: и Джеральдин, и ее детей. Потому что на них это обязательно скажется, особенно на Люси. Она такая ранимая.
– Они переживут, – сказала Элли, не проникшись резонами Кейт. – Знаешь, в чем твоя беда? Ты – моральный трус.
– О да, полностью согласна. Да, Элли, так в чем же дело? Что-нибудь случилось? По какому поводу ты приехала? Мне ведь час назад надо было быть на работе.
– Браки распадаются. Один из трех, по последним подсчетам. Это происходит сплошь и рядом.
– Я договаривалась с Джанет на половину десятого.
– Зачем? В такую мерзкую погоду в саду нечего делать.
– Как раз наоборот, сейчас самое время, пока все живое спит, заложить новые клумбы и бордюры. И мне надо было кое-что посеять. И обрезать кусты. И вообще мне нужны деньги.
– Как это ужасно, что тебе приходиться жить в таких стесненных обстоятельствах.
– Ничего подобного. У меня не стесненные обстоятельства. Я просто зарабатываю, как и все остальные, вот и все.
– А вот мне платят сумасшедшие деньги почти ни за что: за то, что раз в две недели я крашу ногти на ногах. В этом смысле мне будет очень стыдно видеть, как покинет нас эта Дон.
– Так она уходит? – удивилась Кейт.
– Ага. И очень скоро, – уверила ее Элли.
– И как она к этому относится?
– О, она еще не знает. Для нее это будет сюрпризом. Мой рождественский подарочек.
– Что-то я не понимаю.
– Конечно. Ты и не поймешь. Слушай, ты не хочешь эту последнюю плюшку? Жаль ее выкидывать, придется съесть, хотя я знаю, что она отправится прямо на мои бедра. Кстати, я где-то прочитала, что сахар очень помогает от приступов паники. Кейт, как только почувствуешь панику, тут же набивай рот пирожными.
– На самом деле я не очень люблю сладкое. И поэтому мне, в отличие от тебя, не приходится придумывать себе оправдания.
– Как тебе будет угодно. – Элли повертела плюшку в руках, рассматривая ее, вглядываясь в ее смородиновые глазки. – Наверное, я могла бы уйти от них, потребовав компенсации. Да-а, вот бы они разорились! Я бы подогнала к кассе мебельный фургон, загрузила бы трофеи и удалилась в направлении заката. Но если приходится выбирать между сумкой Фортуната [60]60
Фортунат – герой немецкой книги «Фортунат» (1509), которому фея предложила сумки с богатством, мудростью, силой, здоровьем, красотой и долголетием, и он выбрал богатство.
[Закрыть]и удовлетворением от вида Дон, собирающей свои пожитки в черный мешок для мусора, то выбор однозначен.
– Ты так уверена?! – поразилась Кейт.
– Да, все это решено и определено. Ну или почти. Подробности услышите позднее. При нашей следующей встрече. Только вряд ли мы увидимся до Нового года. У меня как раз начался сумасшедший водоворот вечеринок. Слушай, Кейт, я бы рада остаться на весь день и предоставить в твое распоряжение оба свои уха, чтобы ты могла излить мне свои беды и печали, но к двенадцати мне надо быть в офисе.
Кейт уже открыла рот, чтобы возразить против такого злостного искажения фактов, но слов, соответствующих случаю, не нашлось, и рот пришлось захлопнуть.
– Ты бы прислушалась к тому, что я тебе говорю, – выдала последнее наставление Элли, оборачиваясь, сопротивляясь Кейт, выпроваживающей ее на крыльцо. – Не усложняй. Получай удовольствие. Не давай воли чувствам. До тех пор пока ты все держишь под контролем, нет никакой нужды прекращать отношения с Джоном, ты согласна? Так, мне надо бежать. Пока. Веди себя хорошо. И не делай ничего, что не стала бы делать Элли.
Три минуты – это почти ничто, если ты опаздываешь на поезд. Этого времени едва достаточно на то, чтобы сварить перепелиное яйцо. Трехминутный секс не доставил бы большого удовлетворения, закончившись, едва успев начаться. За три минуты никто не сумел бы пробежать милю… кажется. И все же три минуты ожидания, когда произойдет химическая реакция, сто восемьдесят секунд наблюдения за «окошком результата» (станет ли оно фиолетовым, не перевернется ли вся твоя жизнь) – это поистине бесконечно, мучительно долго.
Наоми учащенно дышала, вчитываясь в листок с инструкциями. Требование подержать абсорбирующую полоску в моче в течение десяти секунд вызывало у нее отвращение. Потом влажную полоску надо было вынуть и ждать, барабаня пальцами по краю раковины, ждать, пока истечет положенное время. Наоми оглядела крохотную ванную, попробовала отвлечься, но ее внимание неизбежно возвращалось к тесту, к волшебной палочке, которая внезапно – да, как по волшебству – стала менять цвет. Фиолетовая черточка расползлась, вылезла за границы «окошка результата» и, как и было обещано в инструкции, достигла отметки «положительный результат». Кровь прилила к лицу Наоми, и она почувствовала, что тоже изменилась в цвете.
В ее моче в некотором количестве присутствовал хорионический гонадотропин, если потемневшая полоска говорила правду. Другими словами, Наоми была в интересном положении. Ей надуло ветром. В самом конце ее репродуктивного периода ее печка испекла булочку.
«Кому я могу позвонить, – спрашивала сама у себя инструкция, – если у меня есть вопросы?» И тут же давала себе ответ: Сюзан Скотт из гинекологической исследовательской лаборатории в Фолкстоуне, Кент, в рабочее время.
Сюзан Скотт? Неужели существовала реальная женщина с таким именем? Наоми оно казалось искусственным, придуманным специально, чтобы вызвать у звонящих ассоциации с квалифицированной, чуткой женщиной неопределенного возраста. Вероятно, роль Сюзан Скотт играл целый департамент. Или команда. Ею был тот, кто оказывался рядом с телефоном, когда раздавался звонок. Может быть, у них в исследовательской лаборатории висело расписание: сегодня очередь Карлины играть роль Сюзан, завтра – очередь Тасмин, послезавтра – Фионы.
И даже если эта Сюзан Скотт была конкретным человеком, чем бы могла она помочь Наоми Маркхем, которая ожидала ребенка то ли от своего юного любовника, то ли от его гнусного отца? Какое утешение или совет могла предложить Сюзан Скотт очень-очень плохой женщине, которая имела сексуальный контакт с двумя Гарви, отцом и сыном?
Наоми теперь узнавала ребенка. Он – да, непременно он – как будто всегда был внутри нее, в одном из уголков ее мозга, как понятие, как идея в форме младенца. Будучи молодой женщиной, двадцати – двадцати с небольшим лет, она предполагала, что однажды с ней случится материнство, так же, как случается средний возраст, но это произойдет не с ней, а с другой Наоми, которой она пока не знает. И еще она думала, что к тому времени она будет жить в доме, очень похожем на дом ее матери: в старинном здании с лабиринтом комнат, с центральной лестницей, ведущей из передней в два разных крыла, и с узкой, кривой черной лестницей в кухне, с огородом и садом, с садовником по имени Нельсон и с буйными зарослями дикого винограда, покрывающими весь фасад. А сама Наоми превратится в респектабельную замужнюю даму (ей смутно виделась безликая пара – она сама и ее спутник жизни, похожие на сахарных жениха и невесту со свадебного пирога), в настоящую помещицу с парой собак, предпочтительно далматинцев. Она представляла, как та, другая Наоми будет носить туфли на низком каблуке, строгие пиджаки, «Гортекс», жилеты и юбки с встречными складками, она представляла себя повзрослевшей и приспособившейся к жизни.
Но годы шли, а этого все не случалось. Наоми так и не вышла замуж, не повзрослела, она не носила «Гортекс» и все еще не приспособилась к этой жизни. И тогда воображаемый ребенок был убран куда-то в подсознание и забыт. Причем забыт настолько, что само его существование стало казаться невозможным, и Наоми постепенно становилась все менее и менее аккуратной в отношении мер предосторожности и то поленившись, то в пылу страсти не вставляла колпачок (из всех средств контрацепции она могла пользоваться только колпачком). С Алексом это воспринималось как сладчайший риск. Ну а к встрече с Дэвидом она просто оказалась неподготовленной.
– Алексу будет приятно, – произнесла Наоми вслух, однако слово «приятно» не совсем ей понравилось. Будет вне себя от радости? И такая формулировка не подходила. В ней было что-то от бульварной прессы, она вызывала ассоциации с теми «чудо-младенцами», которые родились вопреки всевозможным невзгодам и чьи преданные родители неизменно говорили, что «они вне себя от радости». Возможно, что точного слова, чтобы описать то, что почувствует Алекс, не существовало. Наоми точно знала: это будет такое большое и такое богатое чувство, что его нельзя будет понять и объять все сразу.
Это-то и было хуже всего, этот ужасный обман. Потому что как ни называй чувство Алекса – радостью ли, удовольствием, в основе его будет лежать предположение, что ребенок от него. Но уверенности в этом не было. Ребенок мог быть и от… Наоми не сразу осознала это. Возможные последствия привели ее в ужас, она схватилась за край раковины и прижалась лицом к холодному фаянсу. Малыш может оказаться братом Алекса. Или его сестрой. Нет, не сестрой. И кто бы ни был отцом ребенка, он вырастет похожим на Алекса, и Алекс может так никогда и не узнать правду. Да и она тоже.
Даже Наоми, не очень сильно разбирающаяся в этических вопросах, догадывалась, что ее дилемма была слишком сложна, слишком запутанна и для достойной, многоопытной Сюзан Скотт.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что раковина была грязной; сливное отверстие шептало что-то непристойное о водопроводных трубах. В ожидании, пока пройдет тошнота, Наоми прикидывала, не будет ли иметь терапевтического эффекта легкая уборка или немного работы по хозяйству.
Потом она задумалась о прерывании беременности. Может, прекратить все прямо сейчас? Решить все проблемы разом? Нет, ей не вынести потери ребенка Алекса. Этот ребенок должен быть рожден. Ее ребенок. «Из двух неправд не слагается истина», – убеждая себя, проговорила Наоми в резонирующий фаянс.
Более того, интуитивно Наоми знала, что эта ее беременность – первая и последняя в ее жизни. Это нежданное, неожиданное событие превосходило все надежды, оно лежало в области самых несбыточных желаний.
Наоми со стоном выпрямилась, дрожащими руками уложила использованный тест обратно в пластиковую упаковку и затем в коробку. «Узнай сегодня», – побуждала ее надпись на коробке, и Наоми, грешная, узнала. Она могла бы избавиться от улики, выбросить ее в мусор, но от реальности не избавишься.
В вопросе определения отцовства неоценимую помощь могла бы оказать простая арифметика. Надо только вспомнить дату наступления последних месячных и все такое. Она пропустила… сколько? Два цикла? Три? Наоми была такой хрупкой, весила так мало, что менструация была для нее нерегулярным явлением, не подчиняющимся никаким графикам и циклам. И вообще, будет лучше, если правда останется не узнанной (разумеется, это зависело – о, какая ирония! – от того, какова эта правда).
Наоми прижала кончики пальцев ко лбу, закрыла глаза, словно пыталась этими внешними проявлениями мыслительного процесса стимулировать собственно мыслительный процесс. Бесполезно. Ее мозг ничего не мог ей предложить. В этот момент она была способна только на физическую реакцию; ее тело, с секретным грузом, с новой жизнью внутри, уже вступало в свои права.
Заверещал телефон, и Наоми, как во сне, прошла в коридор, куда сквозь щель почтового ящика проникала яркая полоска свежая струя зимнего воздуха, и затем в спальню, чтобы ответить.
– Это ты, – слабым голосом проговорила она в ответ на приветствие Алекса. – О, Алекс, это ты.
– Да, это я, – подтвердил он, удивленный тем, что его звонок вызвал такую бурю чувств. – У тебя все в порядке?
– Ну-у… – Наоми тяжело, насколько это возможно для столь изящной женщины, села на неубранную кровать и стала наматывать на палец телефонный шнур. – Да, пожалуй, все в порядке.
Решение должно быть принято сегодня. Она должна выбрать честный путь, признаться в измене – пусть с риском потерять Алекса, потерять счастье. Пусть огромной ценой, но прямоту отношений и достоинство нужно сохранить. Или она должна сказать ему только половину правды – что она беременна, что внутри нее растет ребенок Гарви. Она должна надеяться на возможность счастья для всех, должна продолжать обманывать, должна строить семью на вопиющей лжи.
Ее тайная вина будет ее наказанием; она будет смотреть, как растет ее дитя, и никогда не будет уверена. Ей придется молить небеса еще горячее, чтобы Дэвид молчал. И не только Дэвид. Ведь был еще Доминик, несносный нахальный сынок Джеральдин, который мог видеть и не мог не слышать, что в то кошмарное утро Дэвид был в ее комнате. В то утро, когда жизнь, какою ее знала Наоми, окончилась. Сообразительный не по годам, Доминик наверняка догадался, что Дэвид зашел не просто поздороваться.
Со вздохом Наоми обвела взглядом привычный беспорядок, царивший в спальне. Квартира была очень маленькой, но даже с ребенком им хватит здесь места. Это было ее великим открытием: достаточности по определению было достаточно. А иметь достаточно значило иметь все.
– Ты любишь меня? – робко спросила она Алекса.
– Можешь в этом не сомневаться, – ответил он.
С какой радостью Алекс принял ее обратно, с какой готовностью простил ее; более того, он умолял ее простить его, хотя никогда не причинял ей боли намеренно. Он лишь пытался заставить Наоми найти смысл ее существования. Ну а если и теперь ее существование было бессмысленно – теперь, когда в ней зрела новая жизнь, – то значит, смысла в нем и быть не могло.
Наоми посмотрела в окно и увидела двух, трех, четырех скворцов. Они взлетели с калины и стали описывать круги в неприветливом небе. «Одна – к горести, – вспомнила она старую примету, правда, не про скворцов, а про сорок, – две – к бодрости. Три – к девчонке, четыре – к мальчонке».
– Я имею в виду, со всеми моими недостатками…
– Я люблю тебя. Что еще могу я сказать?
– Несмотря ни на что?
– Несмотря ни на что, Наоми. «Со всеми бородавками» [61]61
Перефразируется известный приказ, который Кромвель отдал своему портретисту: писать портрет со всеми бородавками.
[Закрыть]и тому подобным.
– Я тоже люблю тебя.
С куста взлетело еще три птицы.
«Пять – к серебру, – мысленно считала Наоми, – шесть – к золоту. Семь – к тайне за темным пологом».
Она сделал быстрый и глубокий вдох, зажмурила глаза и сверху еще прикрыла их свободной рукой.
– Алекс, у меня будет ребенок.
Что за зловещая болезнь: она не проявляла себя ничем, кроме маленького противного выроста! Коварное заболевание без какой-либо видимой патологии.
Джеральдин Горст чувствовала себя необыкновенно здоровой. Глаза были яркими (не слишком ли яркими?). На пухлых щеках цвели розы. Язык, высунутый перед зеркалом, был малинового цвета с нежнейшим бледным налетом. Термометр вводил в заблуждение, регистрируя соответствие норме. Аппетит не только не покинул Джеральдин, а напротив, стал неутолимым, словно внутри нее таилось что-то чуждое – грубое и прожорливое, то и дело требующее печенья, пирога, горячего тоста с маслом.
Самым отчетливым симптомом заболевания (помимо того неуловимого уплотнения, которое то нащупывалось, то нет) было ощущение глубокой перемены в организме. Что-то было не так. Джеральдин столкнулась с понятием смертности.
В ее теперешнем состоянии приступ боли был бы облегчением. Если бы где-нибудь ныло, тянуло, кололо, она бы сфокусировалась на конкретном месте, и ей было бы легче. Но вот эта лживая болезнь, маскирующаяся под крепкое здоровье, была просто невыносима.
Джеральдин была так поглощена своим тайным знанием, что на весь остальной мир, на близких и родных почти не обращала внимания. Нужды семьи она удовлетворяла лишь из чувства долга, не принимая их близко к сердцу. Случалось детям затеять перепалку – Джеральдин молчала. Но странное дело: несмотря на это, они стали ссориться гораздо меньше. Целые дни проходили без истерик Люси, без шуточек Доминика. В Копперфилдсе установился внушающий опасение мир. На домашнем фронте царило зловещее спокойствие.
Наконец-то они повзрослели? Или они интуитивно чувствовали ее беду? Может, они – на сознательном уровне или на подсознательном – беспокоились за нее? Джеральдин очень хотелось, чтобы это было так.
Вчера вечером Люси без пререканий и отговорок убрала и вымыла посуду и даже сделала кофе. Чем это можно было объяснить?
Джон в эти последние несколько недель тоже был внимательнее и заботливее, чем обычно. Небольшими проявлениями нежности он давал ей понять, что по-прежнему предан ей. Джеральдин предполагала, что он очень тревожился за нее. И все же она не мола заставить себя рассказать о том, что вселяло в нее такой ужас.
Джеральдин сидела на диване и нервно мяла руки, сплетала и расплетала пальцы. В то время, как у нее над головой миссис Слак двигала мебель (в спальне шла генеральная уборка: скрипели половицы, визжали колесики), она рисовала свой неотвратимый конец.
Больше уже нельзя было откладывать тот страшный день, когда ей придется пойти к врачу, после чего ее болезнь станет, так сказать, официально признанной. Это нежелание обращаться за помощью было нетипично для Джеральдин, оно свидетельствовало о серьезности ее опасений. С кабинетом доктора Невилла она была хорошо знакома, а доктор Невилл, в свою очередь, был хорошо знаком с анатомией Джеральдин. За прошедшие годы ему довелось ощупывать и осматривать практически все части ее тела. С помощью стетоскопа он частенько прослушивал ее дыхание, шумные вдохи и выдохи, величавое биение ее сердца. Они вместе шли по бескрайнему полю фармакопеи: сотни рецептов были выписаны, сотни лекарств применены. «Миссис Горст, – любил шутить доктор Невилл, – не понимаю, зачем вы спрашиваете у меня совета по этим вопросам. Вы же знаете о болезнях больше меня!» Джеральдин могла бы закрыть глаза и в малейших подробностях представить цветочный узор на занавесках в его кабинете; она отлично помнила этот рисунок и очень его не любила.
Джеральдин испытывала глубокое доверие к ортодоксальной медицине и придерживалась той точки зрения, что о малейшем недомогании следовало сообщать врачу. Она считала, что ее терапевта должно живо интересовать, каково ее самочувствие в каждый момент времени. Если от горячих ванн у нее кружилась голова, а от сыра на ночь урчало в животе, если от малины появлялась сыпь, если от капусты ее пучило, а от яиц крепило, то он должен был взять это на заметку. Вот поэтому-то медицинская карточка Джеральдин была пухлей, потрепанной книгой.








