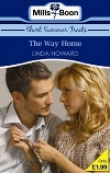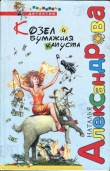Текст книги "Компания чужаков"
Автор книги: Роберт Чарльз Уилсон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
Глава 30
7 сентября 1968 года, Англия
Поезд вез Анну в Кембридж. Она купила на станции газету и впервые в жизни порадовалась, читая «Гардиан»: на первой же странице среди основных новостей из-за рубежа сообщалось, что доктор Салазар спешно доставлен в лиссабонскую больницу Круш Вермелью. Диктатор упал в обморок, обследование установило наличие внутричерепной гематомы и тромба в оболочке мозга. Ну да, усмехнулась Анна, португальцы не могут же просто сказать – кровоизлияние в мозг. Статья завершалась коротким интервью с главным специалистом по внутричерепной хирургии: профессор пояснил, что главе государства понадобится операция для устранения тромба.
Солнце прорвалось из-за туч и залило вагон ярким светом. Анна закурила с таким чувством, будто воскуряет жертвенные благовония за погибель фашистского режима и прекращение колониальных войн в Африке.
Льюис Крейг жил в Тринити-колледже, в квартире с видом на двор. Он курил сигары, швейцарский сорт «Виллигер». Анна учуяла их запах еще с первого этажа и заранее представила себе квартиру: хаос бумаг и книг, смысл которого ясен лишь самому хозяину. Однако квартира оказалась неожиданно опрятной, никаких разбросанных бумаг. Блокноты на пружинах складывались на книжную полку, их набралось уже несколько сотен, рассортированных по пачкам с цветными ленточками. И другие проявления эксцентричности, присущие преподавателям математики, как то: носки под сандалии, протертые до блеска серые брюки, заканчивающиеся повыше лодыжки, твидовый пиджак с заплатами на локтях и галстук, украшенный свежими пятнами яйца и бекона, оказались чужды Льюису Крейгу. Он быстро лысел, но уцелевшие волосы были коротко подстрижены, подчеркивая форму головы, большой, квадратной. На вид профессор был силен и подтянут, ни унции лишнего жира. Судя по тому, как пиджак – не твидовый, а от хорошего костюма – обтягивал его грудь и плечи, профессор регулярно упражнялся с гантелями.
Анна застала его врасплох: Крейг отдыхал в кресле, задрав черные туфли на стол. Едва она закрыла за собой дверь, как профессор уже вскочил, обогнул стол и навис над ней – несколько даже угрожающе. Анна протянула ему руку, его пальцы на ощупь казались жесткими и мозолистыми, словно пальцы крестьянина. Склонившись над рукой Анны, профессор поцеловал ей пальцы. Анна почувствовала легкий аромат одеколона, смешанный с запахом табака. Не выпуская руки своей гостьи, хозяин провел ее через комнату и усадил на кожаный диван. Сам он уселся напротив, на краешке кресла. Вблизи было видно, что профессору уже за пятьдесят, но он хорошо сохранился.
– Жуан Рибейру писал, что равных вам нет, но забыл упомянуть, что речь идет не только о ваших способностях.
– О вас он мне тоже много чего не рассказывал. – Взмахом руки Анна отмела мужскую лесть. – Например, как вы познакомились.
– Жуан приезжал на симпозиум по простым числам. И я, перед тем как перебрался в Принстон, читал в Лиссабоне курс лекций по диофантовым уравнениям.
Он не спускал глаз с лица Анны. Приподняв мускулистые плечи, так что голова почти утонула между ними, он подался вперед, сильно упираясь ногами в пол, как будто вот-вот прыгнет на нее. Знакомая металлическая пружина сворачивалась и разворачивалась в животе. Вот уже двадцать с лишним лет никто не смотрел на Анну с таким откровенным мужским интересом. Все мысли разбежались, она с трудом вспомнила, о чем еще надо спросить.
– На днях мне кто-то говорил, что вы работали в корпорации РЭНД, – сказала она.
– Работал. Два года. Что-то вроде искусственного парника, столько мозгов под одной крышей, так и дымятся… Похоже на то, как мы во время войны работали с Аланом Тьюрингом. Докторскую в военные годы пришлось отложить, так что к середине пятидесятых я попал в Принстон, потом в РЭНД, в Санта-Монику. Знаете, как говорится: на Западном побережье существует только два типа погоды – солнце и туман. Я скучал по здешнему климату. Ничего нет лучше крепкого морозца, когда солнце еле-еле просвечивает сквозь голые деревья.
– А я скучаю по зеленому лету, по запаху свежескошенной травы…
– Кто вам сказал, что я работал в РЭНД?
– На похоронах матери. Не помню, кто именно.
– Соболезную. Об этом Жуан не писал.
– Я ему еще не сообщила.
– Жуану сейчас нелегко. Впрямую он об этом не говорит, но между строк прочесть можно.
– Может быть, теперь дела пойдут на лад. Вы читали сегодняшнюю газету?
– Насчет Салазара? Пишут, что он не сможет вернуться к работе.
– Это и для меня лично благая весть, – сказала она и почувствовала первый укол совести, первую, такую знакомую спазму вины.
– Ну да, ваш муж и сын сражаются в Гвинее. Жуан писал, что вы, может быть, навестите меня… и вот вы здесь.
Они заговорили о математике. Время летело незаметно, разговор поглотил обоих. Крейг вел себя агрессивно, отметал многие ее аргументы грубоватым «это и так всем известно», однако Анна оказалась изворотливым противником и всякий раз, когда профессору удавалось прижать ее к мату, отвлекала его неожиданным ходом, внезапно приоткрывшимся решением. В итоге им удалось составить тезисы для намеченной исследовательской работы и Крейг посулил найти ей место на одном из женских факультетов.
На обратном пути вагон заполонили американские туристы, возвращавшиеся, как нетрудно было понять, из Шотландии: всю дорогу они спорили о том, какая расцветка пледов лучше подходит для того, чтобы перешить их на клетчатые пиджаки. Пожалуй, лучше всего выйдет из цветов клана Мак-Леод. Анна едва верила своим ушам, прислушиваясь к этой болтовне, пока ей не показалось, что сама она таращится на попутчиков, как глупая провинциалка. Поднялась и вышла в проход покурить. Разум ее заполонило физическое присутствие Крейга, их интеллектуальная близость и запах его сигар, льнувший к ее пальто. Анна высунулась из окна, обратившись затылком к встречному ветру, длинные черные волосы упали ей на лицо, скрывая окрестный пейзаж. Две серебряных полосы вились из-под заднего вагона, убегая назад, к Кембриджу, и Анна вновь почувствовала старинную тягу, мощную, как гравитация. Она повернулась в другую сторону, лицом к движению, зажмурилась: резкий порыв ветра выжал слезы из глаз. Теперь волосы относило назад, они струились горизонтально, как хвост кометы, и Анна торжествующе рассмеялась: жизнь набирала обороты, будущее устремилось ей навстречу, как этот ветер. Что-то будет!
На следующий день шел обложной дождь; Анна, словно узница, сидела в сумрачном доме в Клэпэме и ждала звонка, но телефон молчал. Под вечер дождь угомонился, неожиданной лаской в комнату проник солнечный луч. Анна решила прогуляться на кладбище и обнаружила на могиле матери среди уже знакомых букетов два явно дорогих венка, оба без подписи, только название цветочного магазина в Пимлико. Она прошлась среди надгробий, высокие каблуки вязли во влажном грунте, а потом согрелась чаем в кофейне в Старом городе. Съела пирожное, размышляя, не преувеличивает ли она взаимное притяжение, возникшее, как ей показалось, между ней и Крейгом, не сочиняет ли «роман». Да он, вероятно, женат. Подумаешь, нет кольца, кто в Англии сейчас носит обручальные кольца? Анна повертела на пальце собственное кольцо – золотой ободок уже нелегко будет снять, не пройдет через сустав. С какой стати Крейгу проявлять интерес к сорокалетней женщине, когда в кампусе полным-полно сексуально продвинутых двадцатилеток? И она побрела домой, то и дело оскальзываясь на влажных осенних листьях и еще каком-то размокшем от дождя мусоре.
Телефон зазвонил в тот самый момент, когда Анна открывала дверь. Промчавшись по невысокой, всего в пять ступенек, лестнице, Анна сбилась с дыхания. Крейг сообщил, что кафедра математики дала добро и готова предложить ей место аспирантки в Гиртоне, анкеты ей уже высланы, жилье подыскивается. Ее ждут в Кембридже к началу октября.
По такому случаю Анна выпила перед ужином джин-тоник и запила баранью отбивную померолем из запасов Роули. Она легла спать в состоянии приятного опьянения, а проснулась в состоянии малоприятного похмелья.
Свингующий Лондон шестидесятых вернул ей молодость – немыслимые фасоны одежды, безумное разнообразие мод во всем, в том числе в музыке, – это после португальской-то монотонности, а сколько всего можно купить! Анна запаслась зимней одеждой, сходила к Биба, нацепила впервые в жизни джинсы, стала курить «Житан» и отведала первый свой гамбургер в забегаловке «Уимпи Бар». Жуткая гадость, булочка словно из ваты слеплена. Практическими делами Анна тоже не пренебрегала, поручила риелтору найти жильцов и сдать дом в аренду.
Университетские анкеты прибыли в один день с письмом Жуана Рибейру. Португальские цензоры вскрыли письмо и прочли его, один уголок конверта – это бросалось в глаза – был заклеен повторно. Чтобы расшифровать код, который они с Жуаном использовали при переписке, пришлось одолжить в библиотеке томик стихов Фернанду Песоа.
Дорогая Анна,
благую весть ты уже получила, но по состоянию этого конверта нетрудно угадать, что, в то время как больничные врачи копаются в мозгах вождя нашего Нового государства, заведенные им меры безопасности никто не отменял. Мы-то много на что надеялись, однако пока что ничего не меняется. Власть перешла в руки Марселу Каэтану, человека более умеренного, чем наш давний друг, но стоит ему занять место наверху, и он убедится в своей полной зависимости от дружков из большого бизнеса, церкви и армии. Итак, боюсь, никаких перемен не предвидится. Первая же его речь была обращена к ультраправым: он заявил, что португальцы, привыкшие к тому, чтобы ими руководил гений, вынуждены теперь привыкать к правительству из обычных людей. Был у нас жеребец Салазар, теперь явилась ослица, отпрыском этого брака будет бесплодный лошак. Хотелось бы мне ошибиться с прогнозом, хотелось бы, чтобы завтра же прекратились колониальные войны и Португалия заняла свое место среди цивилизованных стран Европы.
Мне пришлось позволить уличному умельцу выдрать мне еще три зуба. Парень сказал, что по совместительству он сапожник, так что я отдал ему в починку старые башмаки. Пусть уж приведет меня в порядок с головы до ног.
Я думаю о тебе и желаю тебе преуспеть.
Жуан Рибейру
Анна понюхала бумагу и конверт, надеясь уловить аромат моря, жареной макрели или только что разлитого по чашечкам крепчайшего кофе – бика. Посмеялась над собой: подцепила португальскую заразу, меланхолическую тоску по невозвратному – саудадэш, но от письма пахло лишь безнадежной тоской Жуана Рибейру, с потом его ладоней в бумагу впиталось его отчаяние, сдерживаемое лишь чувством юмора да расположением к людям.
Ручка Анны медлила над заполняемой анкетой: один вопрос она все никак не могла решить, а тут еще намеки в письме Жуана. Зазвонил телефон. Анна выбежала в неотапливаемый коридор и схватила трубку, имени звонившего не расслышала, поняла только, что говорят из консульства Португалии, кто-то спрашивает разрешения встретиться с ней. В чем дело, хотела бы она знать? Однако на том конце провода ответить не пожелали. При личной встрече, сеньора Алмейда. Хорошо, сказала она, и повесила трубку, только тут сообразив, что человек из консульства заранее знал не только ее телефон, но и адрес.
Не прошло и часа, как явилась некая физиономия с оттопыренными ушами, представилась как сеньор Мартинш. Росточком не выше пяти футов, в черном подпоясанным плаще – школьник, да и только. Она предложила выпить по чашечке кофе. Мартинш пригладил усы, начесал их так, что рта вовсе не было видно. Может, так у дипломатов принято, чтоб не понять, откуда исходят их слова. Затем посланец придал своему лицу столь строгое и скорбное выражение, что Анна испугалась не на шутку. Ей хотелось опрометью выскочить из комнаты. Поздно: сеньор Мартинш уже извлек из кармана плаща конверт и выложил его на свои плотно стиснутые колени. Анна увидела свое имя и адрес, надписанные знакомым почерком Луиша. Сеньор Мартинш опустил глаза, собираясь с духом. Английские слова посыпались горохом, еле внятные, исковерканные стиснутыми зубами.
– Мой печальный долг требует уведомить вас, сеньора Анна Алмейда, что ваш сын, лейтенант Жулиану Алмейда, погиб в бою четыре дня тому назад в Гвинее.
Долгое молчание. Слова сеньора Мартинша проникли в ее сознание не обычным путем, отведенным для слов. Она их не слышала. Жестокие слова ударили Анну в лицо, как вырванным из мостовой камнем мятежник бьет в лицо жандарма. Ударили и проникли глубже, калеча все внутри. Это не были слова человеческого языка, это была боль. Сеньор Мартинш не выдержал молчания, слишком явственно представлялась ему травма, нанесенная столь прямым и поспешным сообщением. Он счел своим печальным долгом добавить подробности:
– Ваш сын вел патрульный отряд через лес, и на них напали партизаны.
Сеньор Мартинш не поленился даже повторить эту ценную информацию, и Анна кивнула, прислушиваясь к тому, как рикошетят слова внутри ее тела.
– Партизаны обстреляли отряд, ваш сын шел впереди и был ранен в шею и грудь. Сражение продолжалось больше часа, другие бойцы не могли прийти на помощь лейтенанту. К тому времени, как им удалось отбить нападение, ваш сын умер от потери крови. Приношу свои искренние соболезнования, сеньора Алмейда.
Эти слова были уже не черно-белыми, проступили краски и звуки. Анна видела все как бы собственными глазами: зеленый лес, скрипят деревья, скрипят солдатские ботинки. Первые глухие выстрелы, и смерть разливается в воздухе. Красная кровь на шее и груди, красная на фоне зеленой формы. Жулиану падает в высокую траву, пули теперь пролетают над ним, он видит выше темного полога леса белое небо, белое раскаленное небо, сначала невыносимо яркое, а потом заволакивающееся дымкой и меркнущее, – жизнь вытекает из его тела с каждым биением пульса, Африка всей тяжестью легла на еще бьющееся сердце.
– Приношу свои соболезнования, – твердил сеньор Мартинш, пел, словно заклинание. – Не в нашей власти смягчить этот удар. Нет ничего ужаснее для матери. Я… мы…
Ей следовало бы заплакать, рыдать, пока сердце не растает и не изольется наружу, но с каждым словом она все дальше уходила во тьму, где слез уже было мало. Что слезы! Мы плачем, стоит зашибить палец молотком, но, когда в душе разверзается бездна, тут не до слез. Руками, локтями Анна сжимала ребра – только бы остаться внутри себя. Маленький человечек все бормотал какие-то слова, но Анна держала себя, она так сосредоточилась на этой задаче – сохранить хоть какую-то цельность, когда ее рвут пополам, – что из нового залпа слов до нее долетели только одиночные пули:
– Считал себя виновным… товарищи-офицеры… никакой глупости… служебный револьвер, из которого, боюсь, он… депрессия… гордился… ужасная трагедия… двое верных сынов родины. Он просил передать вам это письмо, сеньора Алмейда.
Письмо повисло в воздухе. Нельзя было оторвать руки от ребер, принять это послание. Сеньор Мартинш, совсем уж растерянный, оставил конверт на подлокотнике кресла.
– У вас есть тут родственники? – спросил он, заглядывая ей в глаза так, как будто Анна была заперта в ящике и он тщетно пытался разглядеть что-то через щель.
– Моя мать умерла в конце августа, – ответила она. – Больше у меня здесь никого нет.
– Нет родных? – обеспокоился сеньор Мартинш. – И друзей нет?
– Наверное… кто-то еще есть в Лиссабоне.
– А друзья вашей матери? – настаивал он. – Нельзя оставаться наедине с такой потерей.
Только одно имя подвернулось ей на язык – имя Джима Уоллиса. Сеньор Мартинш тут же набрал номер, забормотал в трубку. В ожидании Джима Уоллиса сеньор Мартинш оставался с ней, разгуливал по комнате, поглядывая на письмо, которое так и лежало, невскрытое, на подлокотнике кресла.
Анна снова увидела себя в тот момент, когда она высунула голову из вагона поезда. Так вот оно, будущее, навстречу которому она устремлялась! Ветер тогда ослепил ее, и события будущего расплылись в туманной дымке. Она знала одно: что-то грядет. И когда повернулась лицом к хвостовому вагону, упавшие на глаза волосы почти заслонили от нее две прямые серебряные линии рельс. Это теперь Анна различала четкий и строгий рисунок, неотвратимость античной трагедии: история матери и смерть отца, гибель Юлиуса Фосса под Сталинградом и самоубийство его отца, провал Карла Фосса и расстрел, смерть их сына, самоубийство того, кто считал себя отцом Жулиану. Ложь порождает ложь, говорила ей мать, чтобы уберечь первую свою неправду, ты громоздишь все новые выдумки. Но трагедия повторяется вновь и вновь. Родовое проклятие. Уж чего она не ожидала, так это что ей суждено превратиться в персонаж трагедии, в нервную тетку, живущую одиноко в огромном холодном доме и не смеющую носа высунуть на улицу в страхе перед гневом богов: как бы не разразило громом. И вот, пожалуйста, она – героиня Еврипида или там Эсхила. Вестник явился, сеньор Мартинш соболезнует ей – матери и жене, утратившей разом сына и мужа, оставшейся в одиночестве. Анна обозлилась: в героини трагедии она отнюдь не просилась – и решительным жестом вскрыла конверт, пусть Луиш сам говорит за себя.
Дорогая Анна,
час поздний, я много выпил, но алкоголь свое дело не сделал. От выпивки меня прошиб пот, слова, в которых я и так не был силен, расползаются во все стороны, а боль приглушить не удалось, острые, как у алмаза, грани впиваются в меня, и ни один угол не притупился.
Вокруг ночь, шебуршат насекомые, тишина. Мои друзья, мои товарищи-офицеры пошли спать. Они думают, что я справляюсь с потерей. Но я не справляюсь.
Мы с тобой расстались в ссоре, потому что ты говорила, что эти войны – зло. Я понимал это раньше, еще в Анголе, а теперь понимаю отчетливо, но уже слишком поздно, я потерял все – моего сына и тебя тоже, ведь ты никогда не простишь мне. Вы двое были для меня всем в жизни, и без вас будущее не имеет никакого смысла.
Никогда не думал, что я способен на такое. Я всегда любил жизнь, наслаждался ею. Наверное, если бы я смог отложить это, я бы постепенно отговорил себя от непоправимого и продолжил жить – невыносимой жизнью. Но этой ночью, когда жара давит на стены, и мир расплывается за пологом противомоскитной сетки, и ты так далеко, а его нет и никогда не будет, я не могу больше, нет ни сил, ни мужества. Прости меня хотя бы за это, за то, другое, ты не простишь.
Твой муж Луиш
Она убрала письмо в конверт и оставила его лежать на подушке кресла. Сеньор Мартинш прекратил расхаживать по комнате и всерьез задумался над особенностями английской расы. Если бы он попытался облечь свои чувства словами, понадобились бы такие слова, как «жалость» и «восхищение». Почему эти люди так сдержанны, почему не позволят себе взорваться? Почему не выронят ни слезы? Будь эта женщина португалкой, она бы… она бы упала в обморок, рухнула в слезах на колени, завыла… Но это стиснутое молчание, застегнутый на все пуговицы стоицизм! Как они это выдерживают? Хладнокровие, вот что это такое, холодная кровь. В эмоциональном плане англичане – рептилии. Однако эта мысль тут же вызвала у достойного сеньора Мартинша раскаяние. Очень уж несвоевременная мысль. Эта женщина… ее утрата… немыслимое страдание. И мать у нее тоже умерла.
Но сеньор Мартинш ошибался. Сам того не ведая, бродя по этой комнате, он ступал по вулкану. Какие-то пласты сдвигались в душе Анны, разверзались бездны, клокочущая ярость раскаленной лавы рвалась на поверхность, руки, сжимавшие колени, дрожали от сейсмической деятельности внутри.
– Благодарю вас, сеньор Мартинш, – трясущимися губами выговорила она. – Благодарю вас за то, что лично известили меня, за ваше сочувствие. Со мной все будет в порядке. Вам пора возвращаться в консульство.
– Нет-нет. Я дождусь мистера Уоллиса. Я настаиваю.
– Мне бы хотелось побыть какое-то время одной. Будьте так любезны…
Она выпроводила его за дверь. Маленький сеньор направился к своей машине и там остался стоять, наблюдая за окнами дома. В гостиную Анна не вернулась, темная столовая показалась ей более приветливой. Она склонилась над столом; рвотные позывы судорогой сводили тело, но отраву, пропитавшую все ее существо, невозможно было выблевать. В глазах потемнело от боли, чисто физической боли, Анна как-то боком рухнула на стул и вместе с ним упала на пол. Не вставая, яростно отпихнула от себя стул, пинала его вновь и вновь, пока не сломала об него каблук.
– Ублюдок… ублюдок… ах, ублюдок мелкий! – сквозь стиснутые зубы выплевывала она, самой себе удивляясь, что помнит столь подходящие к случаю слова. Ободрившись, вскочила на ноги, схватила стул за спинку и со всего маху треснула об стену. Спинка и две задние ножки остались у нее в руках, и это оружие Анна обрушила на другой стул, на этот раз ножки отвалились. Анна принялась бить спинкой об стену, любуясь разлетавшимися во все стороны щепками. Покончив со спинкой, взялась за сиденье и две ножки. Добила. Постояла с минуту, переводя дыхание, прислушиваясь к тонким отголоскам дребезжания фарфора в буфете. Распахнула дверцы буфета, достала тарелку, хлопнула об стену, за ней вторую тарелку, третью, волна садистического наслаждения затопила разум. Она бросала тарелку одну за другой; мышцы быстро устали, заныли, но эта боль пьянила, как наркотик, и поощряла бросать тарелки с еще большей силой. Как раз в ту минуту, когда руки уже готовы были бессильно повиснуть, а сердце и легкие – разорвать чересчур тесную грудь, чей-то мокрый плащ облепил Анну со всех сторон, Уоллис зашептал ей в ухо какие-то неразборчивые, заведомо бессмысленные слова.
Ее перенесли в спальню, в комнату матери, уложили в постель. Пришел врач, осмотрел ее и дал сильное успокоительное, а уходя, оставил валиум про запас. Анна лежала, вытянувшаяся, неподвижная, как фигурка в своей коробочке на подушке из ваты. Снаружи ничего не проникало в сознание, и внутри все онемело, ни мысль, ни чувство не оформлялись, не прорастали булавочным острием.
Она плыла на этой волне день за днем, пока однажды не очнулась средь бела дня в присутствии незнакомой ей женщины. Возвращение к реальности далось физическим усилием, словно Анна ползла по туннелю, цепляясь скрюченными пальцами за стенки. Женщина представилась: жена Джима Уоллиса. Анна попыталась вспомнить, что с ней случилось, но что-то не пускало ее, отталкивало. Между ее нынешним состоянием и ближайшим прошлым – обитая войлоком стена. Она знала, что произошло: все еще напряженные и ноющие мышцы плеча напомнили ей; она могла вспомнить и увидеть, как отлетают от стены осколки битой посуды, но вспомнить слепящую боль той минуты уже не могла, и это показалось ей горчайшей из потерь. Мысль о погибших сыне и муже пробуждала в ней печаль, неутолимый, но тихий плач, однако того исступления больше не было, а именно этой остроты чувств и не хватало. То была правильная, даже целительная боль, а теперь Анну словно раскололи надвое, отделили не только от краткого момента умопомешательства, но и от всей прожитой жизни. Воспоминания сохранялись, такие же четкие и неприкосновенные, как и в те недели, когда умирала мать, но теперь эти воспоминания относились даже не к биографии, а к истории. Сначала такая оптическая перемена испугала Анну, потом она поняла, что это – защитный механизм жизни, краткая передышка после смертоносного артиллерийского обстрела.
Вечером Уоллис сменил жену. Они обменялись парой слов в коридоре за дверью. Смену сдал – смену принял. Все в порядке. Уоллис присел на край кровати, взял Анну за руку. Внизу со стуком захлопнулась дверь.
– Я снова тут, – сказала Анна.
– Похоже на то.
– Долго я… отсутствовала?
– Три дня. Так врач велел. Решил, так будет лучше, ведь и твоя мама только что…
– Мне все еще дают успокоительное?
– Дозу снизили, вот ты и вернулась к нам, хотя, наверное, чувствуешь себя еще несколько странно.
– Да, немного… немного странно.
Она как будто следила за собой со стороны, когда одевалась, и потом, когда они ужинали вместе, прислушивалась к стуку вилок и ножей. Все вокруг проступило четко и узнаваемо, но как будто изменилось освещение. Уоллис расспрашивал ее о планах на будущее, но с оглядкой, как будто боялся, что она собирается сделать… Как бишь это у них называется? Наделать глупостей, вот именно. Сделать непоправимую глупость. Как странно, а ей и в голову не приходила такая возможность – покончить с собой. Вероятно, сам собой включился инстинкт выживания, унаследованное от матери упорство.
– Не знаю, – отвечала она на расспросы Джима. – Перед тем как это случилось, мне показалось, что жизнь набирает обороты, куда-то движется. Я все-таки постараюсь поймать это движение.
– Скажи только слово, и я добуду тебе работу.
– Где?
– В Компании, разумеется, – сказал он. – Дикки так и не нашел достойную преемницу Одри. Всякий раз, когда мы берем новенького, Дикки только головой качает и приговаривает: «Незаменима. Она была незаменима».
– Спасибо, но вряд ли мы с Ричардом Роузом… Ты ведь знаешь. Лучше уж я займусь математикой в Кембридже.
– Но мы будем рядом, Анна. В любой момент, если тебе что-то понадобится…
Тут она кое-что вспомнила, навела на резкость. То-то она увязла, пытаясь заполнить университетскую анкету.
– Кое-что вы можете сделать для меня прямо сейчас, – сказала она Джиму. – Вернуть мне имя, вернуть то, кем я была. Я хочу снова стать Андреа Эспиналл.