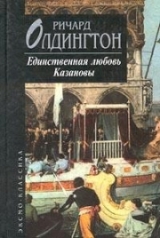
Текст книги "Единственная любовь Казановы"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
После беседы с маркизом Казанову отправили в резиденцию кардинала, где его поджидал библиотекарь отец Бернадино, высокий ученый муж лет сорока. Он принял Казанову с изысканной любезностью и благовоспитанностью, все еще отличающими римских духовных лиц, выходцев из хороших семей, но держался холодно, сдержанно, что больно укололо Казанову. Он сразу понял, что неблагоприятные вести о нем – по крайней мере частично – восприняты в Риме на веру и что многое зависит от того, сколь хорошее он произведет впечатление и сумеет ли, ведя себя с осторожностью, удержать его. После краткой официальной беседы Казанова почтительно попросил разрешения осмотреть знаменитую библиотеку и коллекции кардинала.
На лице отца Бернадино появилось удивленное выражение, тем не менее он тотчас провел Казанову в библиотеку – просторную комнату с расписным потолком и сводами, где стены были от пола до потолка уставлены книгами. Окна выходили во двор, искусно разгороженный самшитовыми посадками, чтобы выгоднее смотрелись стоявшие меж них статуи и скрижали с латинскими надписями. Другие древние скрижали, а также бюсты императоров и поэтов стояли в библиотеке, славившейся также своей большой коллекцией римских монет.
Отец Бернадино стал показывать Казанове эти сокровища со сдержанностью, какую защиты ради проявляет знаток перед невеждой и нахалом, но Казанова, внимательно слушавший его пояснения, то вставлял какое-то соображение, связанное с историей империи, то цитировал Вергилия или Луцилия [56]56
Луцилий, Гай (ок. 180–102 гг. до н. э.) – римский поэт, оказавший значительное влияние на Горация.
[Закрыть], а то мигом расшифровывал неразборчивую надпись, – и сердце библиотекаря было покорено. Отбросив холодность, он начал живо рассуждать об исчезнувшем мире античности, который был для него более живым, чем люди, среди которых он ходил и дышал.
Когда Казанова уже стал прощаться, отец Бернадино, секунду помедлив, положил руку на его локоть и сказал:
– Ваша жизнь здесь, возможно, будет сначала трудной. У вас есть враги. Позвольте дать вам совет: держитесь внешне открыто, но скрывайте свои мысли – это лучше всего вам послужит и продвинет дальше всего.
Эти слова вспомнились Казанове на другой день, когда он предстал перед кардиналом Аквавивой. В Венеции Казанова знал патрициев и прелатов, но венецианская аристократия тех времен была малообразованна, а прелаты (за исключением архиепископа) были часто скромного происхождения. Даже кардинал-архиепископ никогда не казался Казанове фигурой столь величественной – аристократом от рождения и одновременно принцем церкви, – как кардинал Аквавива.
Кардинал протянул ему для поцелуя руку с перстнем, предложил присесть и сразу приступил к расспросам. Как бы между прочим он мягко высказал одно пожелание, которое Казанова воспринял как приказ.
– Вам надо избавиться от своего венецианского акцента. Я прослежу за тем, чтобы вас представили одному почтенному семейству из Сиенны, – сказал он. А немного погодя произнес: – Вы хорошо знаете классику, но ваши познания в области теологии оставляют желать лучшего. – И еще: – Можете вы писать стихи на латыни?
Казанова гордился своей способностью слагать гекзаметры и элегии и быстро создал шестистрочную эпиграмму, содержащую искусный, но полный грубой лести комплимент кардиналу, равно как и неизбежную шутку, связанную со значением его имени – «живая вода». Кардинал с бесстрастным лицом прочел строки и заметил:
– Не было нужды льстить мне. Вы ведь еще не при дворе. И в третьей строке ошибка в количестве слогов. – Он помолчал, как бы обдумывая что-то, и сказал: – А пока будете работать у меня временным секретарем и займетесь моей перепиской на французском языке. – И после еще одной небольшой паузы с обаятельнейшей улыбкой добавил: – Отец Бернадино сказал, что будет рад видеть вас в библиотеке, когда вы захотите.
После чего кардинал позвонил в маленький золотой колокольчик – сигнал к тому, что посетителю пора уходить, – и протянул Казанове руку с перстнем, который тот, как положено, поцеловал. Беседа была окончена.
Большинство людей – даже достаточно толстокожих – почувствовали бы себя уязвленными холодностью этого приема, явно указывавшей на то, что Казанова тут нежеланный гость и что принимают его исключительно из уважения к могущественному покровителю. И большинство людей либо с досадой тут же ретировались бы, либо, более сдержанные, повременили бы, а затем нашли более или менее веский предлог, чтобы расстаться с церковью, что было бы им охотно облегчено. Но не таким был Казанова. Тщеславие было столь глубоко присуще его натуре, что он принял из ряда вон выходящее решение убедить кардинала в неправильности суждения о рекруте из Венеции. И вот в течение некоторого времени можно было наблюдать весьма странное зрелище: Казанова регулярно являлся в присутствие, умеренно ел, не играл, много работал и посещал лишь одно или два высокочтимых семейства.
Такой переход к поведению по всем правилам кажется более невероятным, чем он есть на самом деле. Казанова ведь был еще молод; он был более чем напуган неприятными последствиями своей последней любовной интрижки – последствиями, которые могли бы быть очень серьезными; невзирая на свои успехи за игорными столами в «Ридотто», он еще не стал профессиональным игроком и по-прежнему держался циничной точки зрения, которую излагал своим венецианским друзьям, а именно: что церковь – единственный возможный путь к успеху для бедного умного мужчины, не принадлежащего к аристократам. Сколь бы ни были обоснованны эти соображения, взятые порознь или вместе, они не могли долго скрывать то обстоятельство, что суровый образ жизни, который стал вести Казанова в надежде на будущее материальное вознаграждение, был чистым лицемерием с его стороны.
Более того: чтобы следовать какое-то время подобным курсом, требовалась такая концентрация духовных сил и лицедейства, какую Казанова способен был мобилизовать лишь в самом крайнем случае. Не было у него рассудочной холодности, которая позволила бы ему осуществить такую программу.
Совершенно ясно, что эта несостоятельная попытка Казановы вывернуть свою натуру наизнанку, став послушным молодым левитом, была обречена на провал. Рано или поздно он неизбежно должен был снова стать самим собой, и если произошло это раньше, а не позже, виновата в том оказалась, как всегда в жизни Казановы, женщина.
Каждый вечер кардинал и его брат-маркиз поочередно устраивали у себя так называемые conversazione [57]57
Беседы (ит.).
[Закрыть], когда разные люди собирались у них просто побеседовать и провести время за неизбежными кофе и мороженым. Более или менее одна и та же компания собиралась в обоих дворцах: римские священники и аристократы, несколько художников, поэтов, ученых и cognoscenti [58]58
Знатоков (ит.).
[Закрыть]и порою двое-трое именитых иностранцев. Дамы были, как правило, пожилые, одетые в черное, так что молодая и красивая женщина по имени донна Джульетта особенно выделялась на этом фоне. Какими отношениями была связана донна Джульетта с Аквавива-ми, так никогда и не выяснилось да и не обсуждалось, но она, несомненно, сама была маркизой, и принимали ее как почетную гостью.
У донны Джульетты было продолговатое лицо итальянки с юга, густые черные волосы и черные глаза с длинными ресницами, что в северных странах считается «типичным» для Италии и итальянской красоты, хотя на самом деле в результате смешения рас в Италии существуют разные типы. В обычных обстоятельствах такая женщина, столь отличная от венецианок, мгновенно вызвала бы интерес у Казановы, но под влиянием вновь обретенного, хоть и непрочного аскетизма он вел себя чуть ли не грубо, избегая донну Джульетту и не обращая внимания на то, какими взглядами его одаривали ее блестящие черные глаза. Заметив такое отсутствие внимания и обидевшись, она в свою очередь изображала – а может быть, даже и испытывала – полнейшее безразличие к этому самому высокому, самому интересному, самому живому и, пожалуй, во многих отношениях самому умному мужчине во всем собрании. Однако она поглядывала на него, а он поглядывал на нее, когда каждый из них считал, что другой чем-то занят.
– Красивый малый этот Казанова, – с самым невинным видом заметил в один из вечеров кардинал донне Джульетте. – И как нелепо он выглядит в сутане – точно кавалерийский офицер на маскараде.
– В самом деле, ваше высокопреосвященство? – откликнулась она с холодным пренебрежением, обманувшим даже Аквавиву. – Я этого не заметила. Да разве можно замечать людей такого сорта?
Кардинал употребил слово «маскарад», ибо, очевидно, невольно подумал о предстоящем карнавале. В последние дни Римской республики Цицерон и другие наиболее утонченные сенаторы покидали Рим на то время, когда плебс наслаждался сражением гладиаторов с дикими зверями, а ныне духовенство и наиболее привередливые представители высших классов (в том числе оба Аквавивы) уезжали на свои виллы во Фраскати или Альбано на время народных гуляний и бесшабашного карнавала, тогда как аристократы помоложе, в особенности дамы, предпочитали остаться и поразвлечься, облачившись в причудливый костюм и скрыв лицо под маской. Так мало изменился Рим по сути своей, хоть и кажется, что сильно изменился внешне.
Карнавал в Риме не был непрерывным, как в Венеции, а проходил в строго определенные сроки, установленные духовными властями, которым очень хотелось бы вообще его отменить, но приходилось терпеть из-за популярности карнавала в народе, который, пожалуй, цеплялся за него тем больше, чем больше он не нравился правителям. Так или иначе, карнавал разражался в Риме каждый год столь бурно, что изумленные чужестранцы сравнивали его с древними сатурналиями [59]59
В Древнем Риме – народный праздник по окончании полевых работ в честь бога Сатурна.
[Закрыть], только карнавал здесь ждали с большим нетерпением и получали куда больше удовольствия из-за его контраста с обыденностью. Серьезный, мрачный город Рим, по словам одного иностранца-современника, в период карнавала превосходит Париж оживленностью и весельем. Главную улицу – Корсо – заполняют беспечные толпы весельчаков в масках и затейливых костюмах – пешие или в экипаже, – и все швыряют друг в друга маленькими шариками из белого сахара, именуемыми конфетти.
В то утро Казанову разбудили крики и пение, кошачье мяуканье, гиканье и звуки жестяных труб, и он, еще не вполне проснувшись, спотыкаясь, подошел к окну. Даже после Венеции зрелище, представшее глазам Казановы, мгновенно вывело его из состояния сна. Никогда он еще не видел подобного разнообразия причудливых костюмов. Тут были солдаты и сатиры, короли и черти, мавры и турки; женщины, одетые мужчинами, и мужчины – женщинами; дети с длинными бородами, вышагивающие на негнущихся ногах, и старики, пытающиеся – куда менее успешно – изображать младенцев с сосками и трещотками. Дамы вырядились простолюдинками из castelli и campagna [60]60
Замков и деревень (ит.).
[Закрыть]; горожанки облеклись в непривычные одежды монахинь или весталок; жены лавочников пытались изображать герцогинь и принцесс – словом, все старались выглядеть тем, кем никогда не были или давно перестали быть. Среди них крутились вечно популярные герои комедии дель арте – Тарталья и Бригелла, Скарамучча и Коломбина, Арлекин и Панталоне, нелепые и забавные, как на офортах Калло [61]61
Калло, Жак (1593–1635) – французский гравер и живописец.
[Закрыть].
Казанова, высунувшись из окна, в изумлении смотрел на это зрелище. Кто-то из толпы заметил его и крикнул:
– Эй, ты там! Убери дурной глаз!
Голос был женский, исполненный насмешки и задора. До этой минуты Казанова намеревался, как истый пуританин, держаться вдали от толпы, но этот веселый задорный голос, смех и пение и гудение рожков оказали на него свое действие. Он отпрыгнул от окна с такой стремительностью, точно мимо его головы просвистела пуля, кинулся к сундуку, вытащил оттуда венецианскую маску и бауту и, перепрыгивая через три ступеньки, сбежал вниз. У дверей он столкнулся с маской в костюме неаполитанской рыбной торговки и чуть не сбил ее с ног.
– Эй, ты! Дзордзе! Неуклюжая деревенщина! – возмутилась маска. – Надо же смотреть, куда ты идешь!
Легкая дрожь пробежала по телу Казановы при звуке этого голоса, ибо, несмотря на маску, он мгновенно понял, что голос принадлежит донне Джульетте. Казанова сделал вид, будто не узнал ее.
– Прошу прощения, – грубовато сказал он, нажимая на свой венецианский акцент, – а чего еще вы можете ждать, пытаясь пролезть во дворец?
Рыбная торговка рассмеялась и с издевкой присела в реверансе.
– Ах, венецианский патриций! – не без иронии воскликнула она. – Прошу извинить меня, сиятельнейший! Проходите. Ни к чему бедной рыбачке задерживать ваше сиятельство!
Где это, говорят, что-то устлано добрыми намерениями? В один миг Казанова отбросил все свои с таким трудом приобретенные добрые намерения и решения, схватил рыбную торговку за руку, а другой рукой обвил ее талию.
– Неаполь и Венеция! – весело воскликнул он. – Мы здесь с вами оба – чужестранцы. Давайте вместе веселиться на карнавале.
– Но я же не знаю вас.
– Нет, знаете. Вы же сказали, что я из Венеции – и это правда; что зовут меня Дзордзе – и это действительно так; вы только не добавили, что я ваш преданный поклонник, а именно таковым я и являюсь.
– Но вы же меня не знаете.
– Вы уверены в этом? А если даже и не знаю, что из того? Разве щиколотки у вас не тонкие, руки не изящные, а черные глаза не горят? И… давайте не будем тратить время на болтовню, когда жизнь, смеясь, бурлит вокруг нас!
Взявшись за руки, они выбежали на Корсо, где на них мгновенно налетели проказливые маски – заплясали, закружили их, осыпали конфетти и исчезли. Кто-то протрубил прямо в ухо Казанове, оглушив его; какой-то предприимчивый, но неизвестный поклонник попытался засунуть пригоршню конфетти донне Джульетте за лиф; потом их снова закружили в танце – и все с самыми лучшими в мире намерениями.
Так их кружило и несло по Корсо, пока они, крепко держась друг за друга, не достигли широкой пьяцца-дель-Пополо в северном конце Корсо. Большая площадь была заполнена пестрой толпой, возбужденно и шумно праздновавшей карнавал, и Казанова не без труда прокладывал путь себе и своей спутнице назад, на Корсо. Приплясывая и разбрасывая конфетти, они медленно пробирались сквозь поток экипажей и пешеходов и уже находились почти напротив дворца Аквавивы, как вдруг услышали зычные голоса, призывавшие народ расступиться и дать место лошадиным бегам, а папские сбиры начали теснить толпу и перегородили боковые улицы.
Бега были одним из самых долгожданных событий карнавала, поскольку в другое время года они не разрешались. Эти своеобразные бега едва ли встретили бы одобрение у современного жокея или любителя бегов, ибо устраивались на самом Корсо, и лошади бежали сами по себе. С полудюжины быстроходных лошадей без наездников были выстроены на Пьяцца-дель-Пополо в конце Корсо и пущены по улице – они мчались бешеным галопом, подхлестываемые криками зрителей, собравшихся у всех окон на Корсо и на всех боковых улицах, а также шарами с острыми шипами, которые висели по бокам у лошадей и подгоняли их, подобно острым шпорам. Владелец победившей лошади получал штуку красной материи в качестве приза, но, конечно, привлекала зрителей волнующая атмосфера бегов и возможность заключать пари, тем более что в городе обычные бега были запрещены.
– Где же нам укрыться? – в ужасе воскликнула донна Джульетта при виде того, как излишне ретивый полицейский огрел маску палкой. – Ох, вы только посмотрите на эту скотину!
Казанова мгновенно оценил открывающуюся возможность.
– Сюда, сюда! – воскликнул он и потащил ее сквозь толпу к боковому входу во дворец Аквавивы.
В дверях донна Джульетта приостановилась и слегка отпрянула от него.
– Я хочу посмотреть на бега, – сказала она.
– Вы ничего не увидите из боковых улиц – там полно народу. Мы все сможем увидеть из моей комнаты.
– Но ведь там кто-то может быть… слуги…
– Все уехали во Фраскати или стоят на балконах. Пошли же!
Он взял ее за руку, и они на цыпочках стали подниматься по лестнице большого дворца, где обычно полно было вассалов и визитеров, а сейчас она была пуста, и на ней царила тишина – лишь слабо доносилось эхо карнавала. Казанова оказался прав: те несколько слуг, что остались во дворце, толпились на больших балконах in nobile; его же комната, да и весь этаж были пусты. Донна Джульетта с интересом осмотрелась. Комната была довольно большая, но строго обставленная – с узкой низкой кроватью, примитивным умывальником, комодом, гардеробом и большим письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Донна Джульетта просто поверить не могла, что Казанова прожил зиму в таких условиях: камина тут не было, а одна маленькая жаровня на углях не в состоянии была обогреть холодные как лед каменные стены и кафельный пол.
Казанова же давно приучил себя относиться к своему жилищу с философским безразличием и сейчас, всецело занятый своими чувствами, даже не замечал обстановки, к которой успел привыкнуть. Часа, проведенного на карнавале, прикосновения женской руки, взгляда смеющихся глаз, хотя и сквозь маску, было вполне достаточно, чтобы улетучился весь его аскетизм, приобретенный за долгие месяцы упорных усилий. Сбросив маску и домино, Казанова рухнул перед донной Джульеттой на колени и стал покрывать ее руки поцелуями.
– Это еще что такое, синьор? – усмехнулась донна Джульетта, пытаясь вырвать у него руки. – Мы же пришли сюда, чтобы смотреть на бега…
– Ах, сударыня, вы ведь знаете, что я влюблен в вас!
– В меня?! – воскликнула она. – Да вы даже и не знаете, кто я!
– Вы что, считаете меня круглым идиотом, донна Джульетта? Думаете, я не узнаю вашего голоса и ваших глаз, хоть вы и в маске, как движений вашего тела, хоть оно и запрятано в лиф и юбки крестьянки?!
Донна Джульетта перестала отнимать у него руки. Этот диалог заинтересовал ее куда больше, чем бега, о которых она тут же забыла, и она позволила Казанове подвести ее к единственному удобному сиденью в комнате – его кровати, на которую он тотчас уселся рядом с ней.
– Ваша любовь, видимо, очень хрупкое растение, – сказала донна Джульетта, удерживая Казанову на расстоянии вытянутой руки и все еще отбиваясь от него словами. – Неужели час или два, проведенные на карнавале, могли взрастить такую пылкую страсть?
– Вы смеетесь надо мной, донна Джульетта. Вы же знаете, что я влюбился в вас с самого первого дня, как только увидел.
Донна Джульетта рассмеялась.
– Вы избрали странный способ показать мне это! Вы же всегда избегали меня, вид у вас был вечно суровый, как у отшельника, а если вынуждены были ко мне обратиться, то едва смотрели на меня.
– Вот уж неправда, – возразил Казанова, – вы прекрасно знаете, что я смотрел на вас, когда только смел: вокруг ведь столько любопытных глаз и сплетников! А потом – чего же вы хотите? Вы были такой холодной и далекой, как усопшая королева, высеченная из алебастра…
– Вы в самом деле так думаете? – Донна Джульетта улыбнулась. – Значит, я умею актерствовать лучше, чем полагала.
– И разве вы не вынуждали меня тоже актерствовать? – пожаловался Казанова. – Я вынужден был вести себя, как деревенский священник, тогда как…
– Кстати, аббат, – прервала она его, – как эта сцена сочетается с сутаной, которую вы должны бы носить?
– Да я ее выброшу к черту за один ваш поцелуй.
– Поцелуй?! А еще чего вы потребуете, дон Джакомо?
– Снимите маску.
– Зачем?
– Чтобы я мог поцеловать вас, а затем показать, что будет дальше.
– Говорят, вы распутник.
– А вы ожидали, что я девственник?
– Вы и со мной поступите так же вероломно, как поступали с другими.
– Ах, дайте мне возможность доказать обратное!
Время для препирательств кончилось, ибо маска была снята. Казанова схватил донну Джульетту в объятия и – по его словам – «запечатлел на ее прелестных губках, нежных, как роза, страстный поцелуй, который она наиблагосклоннейше приняла».
Минуты бежали в обрывистых восклицаниях и новых встречах губ. Цоканье копыт слышалось все ближе и ближе, грохот железных подков пронесся мимо дворца и быстро заглох, перекрытый оглушительными криками толпы. Двое, сидевшие на краешке кровати, казалось, даже и не слышали всего этого шума, и лошади, под предлогом любования которыми, во всяком случае, донна Джульетта находилась здесь (хотя это и не объясняло, почему она сидела на кровати), пронеслись мимо, а она даже и не попыталась взглянуть на бега. Вскоре руки Казановы, став смелее, встретили на своем пути лишь обычное препятствие – белый лиф крестьянского платья и черный корсет, обнажившие округлые сокровища, которые они должны были бы скрывать, и красную юбку, которая поднялась много выше колен донны Джульетты…
Казанова кинулся к окну, чтобы закрыть ставни и помешать любопытному оку из верхних окон дворца, расположенного на другой стороне Корсо, заглянуть в комнату. Толпа мальчишек и юнцов, с гиканьем и криками мчавшиеся за лошадьми, уже исчезла из вида. По улице снова поехали кареты и возобновилась битва конфетти. Держась за крюк ставни, Казанова взглянул вниз, и в поле его зрения попало лицо молодой женщины в одной из медленно двигавшихся карет. Она сняла маску, и сопровождавший ее мужчина помогал вытряхнуть конфетти из ее черных волос. Она смеялась, но смех сменился выражением удивления и удовольствия, когда она узнала того, кто глядел на нее из окна. А Казанова смотрел ей вслед и, с трудом веря своим глазам, увидел, как она прижала палец к губам, словно предупреждая его быть осторожнее, а потом незаметно для своего спутника дважды поманила, предлагая следовать за ней. Диким, хриплым голосом Казанова выкрикнул одно слово: «Анриетта!» – и выскочил из комнаты, оставив на своей кровати полуголую красавицу, которая из женщины, готовой стать его любовницей, в одну секунду превратилась в злейшего его врага.






