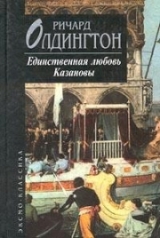
Текст книги "Единственная любовь Казановы"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Казанова не двигался, прижав ухо к двери, пока все звуки, связанные с огнем и с шуршанием платья, не прекратились и снова не воцарилась тишина, казалось, возвестившая, что донна Джульетта вернулась в свое кресло. Казанова сосчитал до десяти, глубоко перевел дух, потом легонько постучал в дверь и, не дожидаясь отклика, смело открыл ее и вошел. Женщина, сидевшая возле лампы, произнесла:
– Это что еще такое… – Затем подняла взгляд, увидела его и побелела. – Джакомо! – воскликнула она. – Ты?! Как же ты… – И потом: – Что случилось?
Ибо он стоял, застыв, уставясь на нее, и лишь все больше и больше бледнел, тщетно пытаясь что-то сказать; наконец странно безжизненным тоном он произнес:
– Анриетта.
5
Вот вам доказательство – если оно требуется кому-то, – что тюрьма плохо влияет на человека. Она может чрезвычайно обострить ум для решения какой-то одной или двух непосредственно стоящих задач, но вообще притупляет, а главное – затуманивает чутье. Разве Казанова, с презрением называвший солдат головорезами, не унизил себя, согласившись стать полицейским шпионом? Не будь Казанова сломлен полутора годами тюрьмы, проведенными по большей части в одиночном заключении, он никогда бы не согласился предать в безжалостные руки венецианских правителей любую женщину, а тем более ту, которая чуть не стала его любовницей. Его падение особенно проявилось в хитроумной затее, с помощью которой он проник на постоялый двор, тогда как прибавь он один-два цехина – и ему скорее всего был бы открыт туда доступ и не надо было бы расковывать лошадь, которая теперь в случае необходимости уже не способна была ему служить…
Однако ничто не указывало так ясно на состояние его ума, покалеченного тюрьмой, как то, что, обнаружив именно эту женщину на маленьком захолустном постоялом дворе, он выказал лишь возмущенное изумление. Мозг его забился о стены возникшей перед ним проблемы, как испуганная птица, которая, залетев в комнату через открытое окно, не в состоянии теперь отличить отверстие от прозрачного, но прочного стекла. И подобно тому, как встреча с инквизитором в ту минуту, когда Казанова уже считал себя свободным, вызвала у него шок и он потерял сознание, так и эта новая и по-своему не менее удручающая встреча вызвала у него головокружение. Неожиданное появление женщины, которую он больше всего хотел увидеть и меньше всего ожидал встретить здесь, пробудило в нем бурю чувств и лишило последнего ума.
Однако сердце бывает порою – только порою – лучшим советчиком, чем мозг. Взволнованный вопрос Анриетты: «Что случилось?» – означал, помимо всего прочего: «У тебя такой расстроенный вид, и ты так бледен – ты сейчас не упадешь в обморок?» Но вместо ответа, не давая своему обычно активному и изобретательному уму времени что-то придумать, Казанова поступил так, как поступил бы любой обычный влюбленный, у которого от волнения сковало язык: он быстро шагнул к Анриетте, обнял ее и поцеловал. И она, вольно или невольно поддавшись этому знакомому объятию, тем самым признала, что по-прежнему любит его. Этим слиянием губ двое виноватых друг перед другом, но страдающих влюбленных оплатили огромный долг, накопившийся за полтора года неведения и горя, – мгновенное забытье и восторг поцелуя перечеркнули время и разлуку, словно ее и не было.
Анриетта прикрыла глаза, чтобы полнее насладиться минутой, и хотя она была, пожалуй, больше взволнована, чем он, именно она вернулась из хрупкого рая любви к жестким фактам реального мира. Она так быстро высвободилась из его объятий, оттолкнувшись от его груди ладонями, что он не успел даже попытаться ее задержать.
– Я считала, что ты все еще в тюрьме! – воскликнула она, и в глазах ее был страх. – Как тебе удалось бежать? И как, как, как ты узнал, что я здесь?
– Я этого не знал, – медленно произнес Казанова, постепенно прозревая весь смысл происходящего, – так заря, появившаяся из-за горизонта, освещает пустыню. – Но вопрос скорее стоит так: почему ты здесь?
– Собственно, – мужественно парировала она, хотя в глазах усилился страх, – вопрос этот можно задать и тебе: почему ты здесь?
– Почему? – повторил Казанова, по-прежнему медленно, ибо все грани этой ситуации лишь постепенно открывались ему. – Мне, пожалуй, стоит рассказать тебе немного о себе, и тогда… тогда ты сможешь немного просветить меня на свой счет.
Он с минуту смотрел на нее с изумлением и возродившимся желанием, к которому примешивалось чувство страшной неловкости. Ни один из них не подумал сесть – оба стояли друг против друга в свете и тенях, отбрасываемых двумя мирно горевшими свечами, которые казались такими чинными в сравнении с бурей, бушевавшей в их сердцах и душах.
– Я действительно бежал из тюрьмы, – с трудом произнес Казанова, облизывая пересохшие губы, в то время как Анриетта, нервно сжимая и разжимая руки, смотрела на него расширенными зрачками. – Мы с Марко сделали подкоп, вышли в канцелярию дожа и оттуда выбрались на площадь, а там обнаружили, что нас одурачили – все это время за нами следили, и нас тотчас арестовали…
– Ах! – Анриетте сразу стало его жаль. – И это после всех усилий и такого мужества! Казанова передернул плечами и продолжал с невольным сарказмом:
– Возможно, нас не следует так уж жалеть.
Через два-три дня… или больше? Возможно, через шесть дней я научился забывать в тюрьме о времени… Так или иначе, меня выпустили…
– Выпустили?! – Удивление, исчезнувшее было из ее глаз, вернулось.
Он медленно кивнул, внимательно глядя на нее, но не сказал ничего.
– Выпустили? – с недоумением повторила она. – Но почему? Каким образом?
Он нагнулся к ней, и кипевшие в нем чувства растянули его губы в улыбке, похожей на оскал, – он показался ей самим сатаной, и она невольно отшатнулась – не только при виде его лица, но и от его слов, прозвучавших для нее страшной пощечиной.
– Меня выпустили, – медленно произнес он, – меня выпустили и послали сюда – в это местечко, в эту гостиницу, в эту комнату, чтобы я вывез отсюда женщину, которая, по их словам, является австрийской шпионкой!
Вот теперь, когда все было сказано, Казанова почувствовал облегчение. Удивило же его и отнюдь не огорчило то, что ему было безразлично, действительно ли Анриетта является шпионкой, как он грубо ее назвал. Это открытие, понял он, было важнее всего остального и показывало, что он любит ее, а она – его. Анриетта, естественно, понятия не имела об этой внезапной перемене в его чувствах и восприняла его слова как изобличение. Она покраснела.
– Значит, ты готов был купить себе свободу ценой того, чтобы подвергнуть пыткам и лишить жизни женщину?
Вот сейчас Казанова до конца осознал, насколько – мягко говоря – некрасиво выглядит его поступок в глазах мира, особенно женской его половины, которая для Казановы составляла больше половины прелестей этого мира. И подобно большинству людей, когда им вдруг напоминают, что они менее идеальны, чем изображают себя, Казанова нашел прибежище в гневе. Однако он не успел и слова вымолвить, как глубокую тишину нарушил отдаленный цокот копыт – лошади мчались в их направлении.
– Ой! – вскрикнула Анриетта, побледнев, и в отчаянии всплеснула руками. – Если он обнаружит тебя здесь, мы оба погибли!
– Кто?
– Фон Шаумбург.
– Так вот с кем ты здесь тайно встречаешься – и притом ночью – у себя в спальне! – ревниво воскликнул Казанова.
– Ты просто идиот! – Анриетта топнула ногой в досаде на его дурацкий эгоизм. – Да неужели у тебя не хватает ума понять, что он вовсе не мой любовник, никогда им не был и никогда не будет? Неужели ты не можешь себе уяснить, что я все это время работала с ним – занималась этими проклятыми фортами?..
Присущий Казанове здравый смысл прочистил ему мозги, прогнав бредни.
– Он будет обыскивать комнату? – поспешно спросил Казанова, услышав, что цокот копыт на улице внезапно прекратился.
– Нет. А что?
– Спрячь меня в этом шкафу, если барон – не твой любовник.
– Но хозяева гостиницы скажут ему, – простонала она, ломая руки, – он им платит…
– Хозяин ничего не знает, – возразил Казанова, – а хозяйке плачу я. Она будет молчать ради собственной шкуры. Так что быстро, быстро! Я слышу его шаги.
К Анриетте вернулись мужество и способность действовать – она втолкнула Казанову в большой стенной шкаф, который был некогда альковом, затем, сразу все вспомнив, прокралась к столу и села, так что когда фон Шаумбург постучал и она тихонько откликнулась, приглашая его войти, стоявшие на столе две свечи горели совершенно ровным пламенем. Глаза фон Шаумбурга, неизлечимо настороженные от долгой привычки, тотчас это отметили. К счастью для Анриетты и Казановы, дверь шкафа, оставленная чуть приоткрытой для воздуха, была полностью в тени и казалась продолжением стены, иначе этот самый осмотрительный из дипломатов-лисиц обследовал бы и шкаф, как возможную западню…
Лишь только барон вошел, Анриетта поднялась и присела в реверансе. Он взял ее руку и формально, вежливо поцеловал, затем придвинул к себе стул и сел напротив нее.
– Что вы тут изучаете? – спросил он, указывая на лежавший на столе документ.
Вместо ответа она протянула ему бумагу.
– Шифровка? – спросил он, выжидающе подняв брови, и, просмотрев несколько строчек, добавил разочарованно и осуждающе: – Но это всего лишь отчет о различных ваших поездках по нашим поручениям. Вы считаете разумным хранить его – даже в зашифрованном виде? Зачем вам это, собственно, нужно?
– Это служит мне напоминанием, – спокойно ответила Анриетта, – о том, сколь мало у меня вначале просили и сколь много я фактически сделала, а с другой стороны, сколь много мне вначале обещали и сколь мало я получила – вернее, просто ничего…
Барон нахмурился, но продолжал держаться вежливо.
– А нам обязательно сейчас в это вдаваться? Время не терпит…
– Я хочу вам напомнить, – сказала Анриетта, у которой были свои основания заставить его говорить, чтобы Казанова услышал то, чего он не знал и чему в большей мере поверит, если это будет исходить из уст фон Шаумбурга, чем самой Анриетты. – Когда ко мне обратился ваш эмиссар – тому теперь уже три года, – он сообщил мне некоторые, так сказать, факты и сделал определенные предложения…
– Да, но… – попытался прервать ее фон Шаумбург.
– Я была сиротой и мало что понимала, – упорно продолжала Анриетта, – и я обожала маму и чтила ее память. Я не хотела ни денег, ни поместий, хотя мне это было обещано. Но мне было также обещано нечто более для меня дорогое: что в дополнение ко всему я получу неоценимую возможность быть представленной ко двору, как дочь своей матери, а это будет означать отмену решения об изгнании и лишении ее и ее потомков всех титулов. Я не настолько глупа, чтобы отрицать, что меня вовсе не порадует возвращение владений и положения при дворе, на которые я имею все права, но именно желание добиться полного восстановления в правах, учитывая, как сильно была уязвлена гордость моей матушки, и побудило меня пойти на это… на эту службу, назовем это так.
– Ну и? – воспользовавшись паузой, произнес не слишком вежливо фон Шаумбург.
– Ну и, – продолжала Анриетта, – мне было сказано: достаточно для этого выполнить одну опасную миссию – о, признаю, вы не скрыли, что миссия опасная. Это должно было занять две-три недели. С тех пор я выполнила десятки и десятки миссий, мне поручают все новые и новые, и я ничуть не приблизилась к награде, которая – разрешите вам напомнить – была мне обещана под честное благородное слово.
– Вы что же, отрицаете, что вам хорошо платили все эти годы? – спросил он, насупясь.
– Платили – да, – возразила она, – как платят тайному агенту, который за деньги идет на риск. Но так не награждают даму, которая выполняет опасную миссию ради великой императрицы. Я служила больше ради того, чтобы восстановить свое доброе имя, чем ради…
– Я вам вот что скажу, – прервал он ее со свойственной немцам бесцеремонностью. – Хотя вы, безусловно, работали внешне лояльно и…
– Внешне! – высокомерно в свою очередь прервала его Анриетта.
– Ну, ну, прошу меня извинить, – неуклюже стал оправдываться он, – скажем: лояльно и энергично, тем не менее, к несчастью, факт остается фактом, что крепости по-прежнему находятся в руках Венеции, а не в наших.
– А разве в том моя вина? – живо прервала его Анриетта. – Не объясняется ли это непродуманностью ваших планов? Можете ли вы хоть в малейшей степени возложить вину на меня!
– Что ж, да, по-моему, могу, – спокойно, но грубовато произнес он. – Это подводит меня ко второму пункту нашего разговора и одновременно возлагает всю вину на вас.
– То есть как это?
– А, в частности, так, что императрица, – сказал он, – едва ли станет принимать любовницу венецианского авантюриста.
– О-о! – Анриетта съежилась от оскорбления и прямого указания на того, кого она меньше всего хотела бы обсуждать. – Зачем вам понадобилось примешивать его? – спросила она, хотя могла бы и не спрашивать.
– Затем, – решил до конца использовать свое преимущество фон Шаумбург, – что наши планы с того момента, как у вас началась с ним связь, пошли вкривь и вкось. Откуда мы знаем, что он не принадлежит к несметному полчищу мерзавцев, работающих на венецианскую тайную полицию?
– Лучшим ответом на это является то, что они арестовали его полтора года назад и с тех пор держат в тюрьме…
– Не знаю, – медленно и задумчиво произнес фон Шаумбург, – не знаю. Во всяком случае, эти венецианские мерзавцы ничуть не постесняются применить насилие и даже засадить в тюрьму самого преданного своего слугу, если это служит их цели.
– Так ли уж они отличаются в этом от других правителей? – с ехидством спросила Анриетта таким сладким тоном, что Казанова молча ухмыльнулся в своем укрытии.
Фон Шаумбург что-то пробормотал и подозрительно спросил:
– Венецианцы пустили слух, что он бежал два-три дня тому назад. Вы не видели его и никаких вестей от него не имеете?
Анриетта передернула плечами.
– Вы думаете, я сидела бы здесь, если бы имела?
– Значит, вы до сих пор его любите?
– А почему бы и нет? Разве моя личная жизнь не принадлежит мне?
– Безусловно, но императрица, – не без издевки добавил он, – едва ли станет награждать людей за их личную жизнь. Однако, между нами, я склонен считать сообщение венецианских властей фальшивым, и распространяют они его по привычке вечно плести всякие мерзкие и слабоумные интриги. Человека этого нигде не видели. В этом я могу почти поклясться, так как мои агенты начеку. Сказать по правде, я даже считался с возможностью застать его здесь и предосторожности ради прихватил с собой небольшой отряд.
– Вы что же, ожидали, что я выдам вам его?
– Ну что вы! – Фон Шаумбург даже снисходительно рассмеялся. – Но если бы он бежал из тюрьмы, я бы уж как-нибудь его нашел. Я склонен считать его человеком опасным: он ведь может выудить секреты У одного из моих самых ценных… сотрудников.
Анриетта пожала плечами, но и не попыталась опровергнуть его домыслы.
– Все это ничего не меняет в том, что вы не сдержали слова, данного мне, – твердо заявила она. – Почему же вы не сказали мне, что из-за моих отношений с Казановой императрица не станет меня принимать?
– Да разве здравый смысл не подсказал вам этого? – возразил он. – Но я приехал не для того, чтобы препираться с вами, фрейлейн. Я привез два документа, один из которых оставлю вам…
И, достав из кармана объемистый конверт, он протянул ей, – она бросила взгляд на конверт.
– Шифровка с новыми инструкциями! – с отвращением заметила она. – И о чем же они?
– Ничего нового или опасного, – стремясь ее утихомирить, сказал он. – Просто короткие визиты в Дзару, Триест и, очевидно, в Каттаро…
– Вы шутите! – резко воскликнула она. – Меня же видели в каждом из этих городов…
– Ах, но на сей раз вы поедете в военной форме и со спутником – мы дадим вам кого-нибудь поумнее.
– И вы серьезно думаете, что я по-прежнему могу сойти за мужчину? – спросила она.
Он окинул взглядом ее фигуру, которая по-женски округлилась, с тех пор как Казанова застал тоненькую девушку в постели на тосканской границе.
– Что ж, придется рискнуть, – сказал он. – На сей раз мы непременно преуспеем, и взгляните сюда…
Он издали показал ей документ, написанный по-латыни, но в руки не дал.
– Нет, нет, пока еще нет, – сказал он. – Это юридический акт, согласно которому вся собственность, которой ваша покойная матушка владела в пределах Австрийской империи, переходит к ее единственному дитяти – Анриетте. Вы восстановлены в правах подданной Австрийской империи, как я вам уже намекал, но приняты ко двору быть не можете…
– Ну а если… – Анриетта покраснела, зная, что Казанова слушает, – …если… наступит такой день, когда… когда Казанову выпустят… и мы поженимся?..
– Я забыл сказать, – заметил барон, вставая, – что есть одно условие. И состоит оно в том, что вы утрачиваете все права на указанную собственность, если выйдете замуж, или станете жить, или как-либо иначе соединитесь с вышеупомянутым Джакомо Казановой. Это условие вставлено по специальному указанию ее императорского величества.
– А теперь предположим, – сказала Анриетта, поднимаясь и встав перед ним, – предположим, что я швырну вам обратно ваши тайные инструкции и презрею ваши документы и условия?!
– Ну, в таком случае, – холодно произнес барон, – вы немедленно попадаете в наш список лиц, которым надлежит таинственно исчезнуть. Я на вашем месте не стал бы это делать, право, не стал бы.
Наступила долгая пауза – они в упор смотрели друг на друга. Затем Анриетта взяла конверт с инструкциями и сунула его за корсаж.
– Отлично, – с довольным видом сказал барон, – мы понимаем друг друга. Так что не будьте глупышкой. Выполните наши инструкции, и даю вам честное благородное слово, что владения станут вашими. Более того: мы найдем вам мужа – порядочного немца, который за хорошее приданое закроет глаза на вашу небольшую погрешность. И кто знает? Может быть, при следующем правлении вы и будете приняты ко двору.
Она по-прежнему не нашлась, что сказать в ответ на эту серию благожелательных оскорблений – лишь стояла потупясь. Барон взял ее руку и уже собрался поцеловать на прощание, как вдруг что-то вспомнил.
– Вам следовало мне напомнить, – оживившись, произнес он, – я чуть не забыл дать вам денег. Вот. – И, вытащив три мешочка с деньгами, он положил их на стол. – В каждом из них по двести золотых цехинов – вполне достаточно, чтобы вы могли покрыть свои расходы, приобрести себе костюм для любого обличья и подкупить тех, кто указан в ваших инструкциях. А теперь – adieu [84]84
Прощайте (фр.).
[Закрыть]. – Он небрежно поднес ее безвольную руку к губам.
– До свидания, – сказала она.
– И примите мой совет: забудьте, что человек по имени Казанова вообще существовал, – сказал он, направляясь к двери. – Из Триеста – этот город, как вы выясните, надо посетить последним – как можно быстрее возвращайтесь на австрийскую территорию и сразу же свяжитесь со мной…
И он ушел – пламя свечей заколебалось от ветерка, прошедшего по комнате от резко захлопнутой двери. Анриетта опустилась в кресло у стола и уставилась в пространство перед собой, со странной сосредоточенностью вслушиваясь в звук удаляющихся шагов фон Шаумбурга. Она услышала – а Казанова в своем шкафу менее отчетливо, – как барон соблаговолил обменяться несколькими звонкими гортанными возгласами с хозяевами, и те ответили высокому гостю велеречиво и подобострастно. Затем наружная дверь хлопнула и наступила тишина.
– Сиди там, где ты есть! – шепотом скомандовала Анриетта, услышав, что Казанова зашевелился. – Сиди совсем тихо, пока я не скажу.
Она произнесла это, не вставая из-за стола и делая вид, будто читает инструкции, которые она достала из лифа. Со двора донесся резкий свист, за ним последовало несколько менее резких – с разного расстояния и с небольшими интервалами, затем топот коней, снова пауза, во время которой они услышали голос фон Шаумбурга, но не слышали, что он сказал, затем постепенно замирающий топот коней и, наконец, полная тишина.
– Вот теперь можешь выходить, – сказала Анриетта и поднялась было ему навстречу, но тут же в нерешительности остановилась, свесив по бокам руки, опустив голову и ресницы, чтобы не видно было глаз.
6
Такой момент бывает в жизни мужчины только однажды: у Казановы была возможность поступить просто – и по его меркам даже благородно – и тем самым навеки закрепить свою власть над Анриеттой. Он должен был всего лишь повториться – воспроизвести свой пылкий поцелуй при входе в комнату, поцелуй, который сказал бы Анриетте: «Не обращай внимания на все это или на кого-либо из них – ты моя, а я твой», – и вопрос был бы решен. Ибо Анриетта была ведь Женщиной и в эту минуту прежде всего нуждалась в этом слабом утешении Женщины – Мужчине. Разве она не сыграла свою роль с готовностью и умением, достойными аплодисментов единственного на свете зрителя, чье мнение было ей важно? Спрятав своего возлюбленного, она спасла его от верной смерти, которой ему бы не избежать, будь он обнаружен; она доказала возлюбленному, что мужчина, с которым она беседовала наедине и который мог воспользоваться ее беспомощностью, не был и никогда не мог быть ее любовником, как утверждал в приступе ревности Казанова. Она сделала больше того: вынудила Шаумбурга частично рассказать и полностью подтвердить ее версию – рассказ этот показывал, пожалуй, что она была обманута, Казанову же она обманывала лишь там, где это было абсолютно необходимо для безопасности обоих, – да, она, безусловно, была врагом его страны – Венеции, но была лояльна по отношению к нему.
К несчастью, Казанова на время перестал прислушиваться к тому, что подсказывало ему сердце, а отупевший в тюрьме разум тщетно пытался вновь обрести прежнюю гибкость и, осмыслив, решить возникшую проблему. Ему не нужна была просто женщина – ему нужна была женщина, над которой он одержал бы победу в состязании умов. Вместо того чтобы подойти к Анриетте и заключить ее в объятия, он знаком указал ей на кресло, в котором раньше сидел фон Шаумбург, а сам сел на ее место.
Он понял – или решил, что понял, – теперь все, и воздадим ему должное: почувствовал в известной мере жалость и нежность к одинокой молодой женщине, которую побудили высокие и одновременно общечеловеческие стремления – ибо такого рода натуру легко побудить подобными стремлениями – взять на себя опасную и постыдную, до конца не понятую ею миссию. Раз взявшись, она уже не могла отступить безопасно и с честью для себя, а высоконравственные правители использовали ее и обманывали, идя на такие низости, до каких редко доходит самый гнусный человек. И она не лгала Казанове – разве что можно назвать ложью, когда человек утаивает существенную часть правды. Возможно, она и хотела ему все рассказать – но в какой момент их краткой и неспокойной совместной жизни могла она доверить ему столь важную тайну? Безусловно, не до встречи во Флоренции; во Флоренции же Казанова очень скоро дал ей повод разувериться в нем и отойти от него, а после Флоренции он едва вышел из своего рода испытательного срока, как был арестован…
Анриетта смотрела на Казанову с любовью, стремившейся победить разочарование, а он сидел и размышлял, упершись невидящим взглядом в стол, – слово «арест» поставило перед ним новую проблему или группу проблем. Обязан ли он все-таки своим арестом донне Джульетте? А не могли его арестовать, потому что… да и какая может быть иная причина, кроме той, что он был с Анриеттой, а инквизиторы знали, за что она взялась? Не спасло ли Анриетту от действительно жутких ужасов тюрьмы и комнаты пыток то, что он невольно сам шагнул в расставленную полицией ловушку и она преждевременно захлопнулась? И не по горькой ли иронии судьбы, к которой так обожал прибегать инквизиторский ум, его лояльность к родине подверглась такой проверке, что именно его послали обольщать собственную любовницу и попутно сделать открытие, что она – тайный агент, участвующий в заговоре, который должен нанести роковой удар высокочтимой Венецианской республике?
– Ну-с, – громко произнес Казанова, заерзав в кресле и подняв от стола взгляд, но не глядя Анриетте в глаза, – что же мы теперь будем делать?
– Да, – унылым бесцветным голосом с горечью отозвалась она, – и вправду, что же мы теперь будем делать?
Казанова перестал отчаянно сражаться с самим собой и впервые с тех пор, как вышел из своего тайника, по-настоящему посмотрел на Анриетту – и увидел, как она хороша. У него так и вертелось на кончике языка: «Пойдем в постель!», что – при всей бесцеремонности и грубоватости подобного предложения – было бы, несомненно, лучше невольно вырвавшегося у него:
– А нам неминуемо грозит опасность?
Вопрос этот объяснялся, пожалуй, не трусостью, как могло показаться, ибо он вырвался у Казановы случайно, – просто под влиянием внезапно вспыхнувшего желания Казанова потерял душевное равновесие и выразил мысль, которая, естественно, мелькала в уме у обоих. Но откуда было Анриетте это знать? Слегка отодвинувшись от него, она сказала:
– Как я могу на это ответить? Все зависит от того, что ты подразумеваешь под опасностью и что ты намерен предпринять…
Казанова понял, какая горькая мысль засела в ее мозгу – «Он может спастись, если отдаст меня в руки венецианцев», – а поняв, был ошеломлен. Что он такого сказал или сделал, чтобы она могла столь мерзко думать о нем? Повинуясь порыву – наконец-то он поступал как надо! – он перегнулся через узкий столик и сжал ее руку.
– Как же тебя покалечила жизнь! – с нежностью произнес он и с сожалением добавил: – И какой же я, должно быть, дал тебе повод не доверять мне – подлец я и дурак!
Она пожала плечами и отняла у него руку, не желая слишком скоро смягчаться.
– Нет нужды осуждать себя за то, что ты такой, каким тебя сотворил господь, – сказала она по-прежнему не без горечи, но уже мягче. – Я сама могу позаботиться о себе – во всяком случае, должна. Ты же не можешь не считаться с долгом перед своей родиной и с тем, что дал определенное обещание в обмен на свободу.
Теперь Казанова в свою очередь пожал плечами.
– Прекрасно, прекрасно! – с сарказмом произнес он. – Значит, мы должны погубить себя, чтобы – видите ли – сдержать слово, данное тиранам и бандитам. Ей-богу, Анриетта, ты выводишь меня из себя. Да неужели ты считаешь, что человек может быть связан обещанием, которое его вынудили дать? Или же что человек обязан быть лояльным по отношению к государству, которое причуды ради посадило его за решетку?
– Некоторые считают, что да.
– Значит, они круглые дураки, – решительно заявил Казанова. – Я никогда не принадлежал к тем, кто похваляется слепой преданностью этой абстракции – суверенному государству, рядящемуся в костюм Провидения. Меня вполне устраивало оставить его в покое, пока оно оставляло меня в покое, но когда Провидение решило мило развлечься и бросить меня в тюрьму и предоставить мне там гнить, ибо ему не нравится цвет моих глаз… Да если я скажу тебе, Анриетта, что твой мизинчик бесконечно дороже мне, чем все политические институты Венеции, включая ее владения за пределами Адриатики, это будет самым слабым, но самым искренним комплиментом!
Это был куда лучший способ завоевать женщину, чем упущенные поцелуи и презренный страх грозящей опасности. Анриетта наконец улыбнулась.
– Ты слишком прямолинеен, – сказала она, – и, пожалуй, немного несправедлив. Ты же все-таки сожительствовал – это слово они употребляют? – с опасной иностранной шпионкой.
– Они такие остолопы, что я не уверен, знали ли они это! – воскликнул он. – В любом случае это не имеет значения!
– Ты в самом деле так считаешь? – многозначительно спросила она. – Для тебя правда не имеет значения, что я – каковы бы ни были мои мотивы и под влиянием какого принуждения я бы ни действовала – в самом деле старалась выкрасть у Венеции эти крепости и передать их Австрии?
– Если венецианцы столь низко пали или настолько глупы, что их можно подкупить и выманить из бастионов, составляющих их собственную силу, пусть теряют эти бастионы – иного они не заслуживают, – нетерпеливо ответствовал он. – Да разве могли венецианцы любой другой эпохи быть повинны в таком?.. Но зачем мы теряем время на эти академические вопросы? Нам надо думать о собственной жизни. Я бы предпочел, чтобы ты никогда не имела ничего общего с этой грязной интригой… но ты была пешкой, девушкой, на чьих благородных чувствах решили сыграть. Так или иначе, теперь все это позади.
– Разве можно что-то изменить? – Она отказывалась ухватиться за надежду, которую он ей давал, хотя сердце у нее и подпрыгнуло от радости, ибо она понимала, что он имеет в виду. – Эти инструкции, что лежат на столе под твоей рукой, говорят о другом. Мне следует изучить их сейчас, чтобы уже завтра приступить к исполнению.
– Пф! – Лицо Казановы исказилось отвращением. – Ты хочешь сказать, что намерена?.. Но ты же это несерьезно. Так или иначе, я этого не допущу.
– Как же ты меня остановишь?
– Очень просто, – сказал он, уже не сдерживаясь, но и не пережимая. – Я буду держать тебя в объятиях до тех пор, пока ты не пообещаешь уехать со мной – и уже на сей раз без расставаний.
Анриетта невольно улыбнулась.
– Чему ты смеешься? – поспешил спросить он. – Что тут такого забавного?
– Не просишь ли ты меня пожертвовать ради тебя слишком уж многим? – заметила она, а глаза говорили, что вопрос задан не всерьез.
– Ничуть! – Он сделал вид, что отнесся к ее вопросу не легковесно, а воспринял его au pied de la lettre [85]85
Буквально (фр.).
[Закрыть]. – Даже если тебе и вернут твои владения, в чем я сомневаюсь, ты навеки останешься их рабой…
– Ты забываешь об огромной привилегии быть представленной ко двору… преемника ее величества… и о еще большей привилегии – ты об этом ведь слышал? – быть выданной «за порядочного немца, который за хорошее приданое закроет глаза на небольшую погрешность»!
– Будь он проклят за такую наглость! – сказал Казанова, не в силах удержаться от смеха, хотя это и возмутило его.
– А кроме того, – Анриетта вновь обрела серьезность, – если мы, как ты предлагаешь, уедем вместе, не станем ли мы предателями?
– Что?! За то, что мы отказываемся заниматься грязным шпионажем для них? В любом случае разве наша верность друг другу не важнее нашей верности их превосходительствам и ее величеству? Анриетта, мужчины и женщины любили друг друга и держались вместе с сотворения мира, и так будет, пока архангел Гавриил не протрубит в свой почтовый рожок или во что-то там еще. Через тысячу лет Венецианской республики и Священной Римской империи, возможно, уже и не будет, а влюбленные… и дети… будут по-прежнему. Почему я говорю – через тысячу лет? Венецианская республика и Римская империя, возможно, и века не продержатся.






