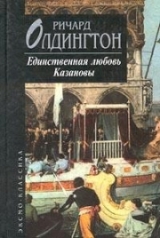
Текст книги "Единственная любовь Казановы"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
– Дорогой мой граф, – холодно произнес Казанова. – Вы обладаете вечной молодостью и забываете, что мои секунды сочтены Так что пошлите за деньгами сейчас же…
– Но здесь ведь нет банкира, – возразил граф.
– Пошлите моего слугу в город… или вашего… или обоих – я заплачу…
– Но банкир… он же сейчас спит!
– Дорогой мой! – в голосе Казановы звучало бесконечное презрение. – А для чего же и существуют бюргеры, как не для того, чтобы их будили, если это нужно людям благородным? Ну потешьте же мою причуду, возможно, одну из последних причуд вашего старого друга и врага! У меня есть вино – давайте проведем за ним ночь, а на заре, когда прибудут деньги, расстанемся вы, унося с собой знания, а я – снова в поискал непознанного, приключений и… Ах! Увидеть снова Италию, прежде чем умереть!
Граф передернул плечами, поразмышлял, помедлил, выслушал уговоры, куда более убедительные, чем произносит Арлекин у Гольдони, и наконец сдался. Распоряжение банку было написано, слуга графа отослан с бумагой, а слуге Казановы было приказано в величайшей тайне собрать вещи и приготовить лошадей и карету, чтобы в любую минуту выехать…
– Ваше здоровье, граф! – весело произнес Казанова, поднимая бокал с шампанским, засверкавший в свете полудюжины высоких свечей. – За моего избавителя! – И, осушив бокал, поставил его на стол.
– Благодарю, благодарю. – Граф глотнул вина – немного, но достаточно, чтобы его оценить. Затем с сомнением покачал головой. – Возможно, нехорошо я поступаю, – раздумчиво заметил он. – Что скажет ваш патрон, Джакомо?
– А фиг с… – веселым речитативом пропел Казанова. – Прошу прощения, что вы сказали?
– Ничего. Я лишь подумал о том, как цена мудрости будет растранжирена на безумства… тайны величайших духов – на женщин…
– Для таких утех слишком поздно, – произнес Казанова, сразу утратив свое веселое настроение.
Граф вопросительно посмотрел на него, приподняв брови, на лице его появилось сочувствие.
– А-а, – издал он и взял понюшку табаку, потом другую. – A-а. Одни советуют корни мандрагоры, другие – костный и обычный мозг, цибет со свечами, волосы волчьего хвоста, ласточкино сердце, член кита, фисташки, имбирь, белок… – Граф умолк, временно исчерпав запасы дыхания и эрудиции.
– Увы, – с невинным видом заметил Казанова, – молодость забывается, как и женщина, которую ты желал.
Граф рассмеялся.
– А в своей книге вы высказываете иную точку зрения, – сказал он. – Не вы ли рекомендуете диету?
– Какого дьявола! – воскликнул Казанова. – Зачем Вальдштейн показывал вам мой манускрипт?..
– Нельзя хранить гениальное втайне, – иронически заметил граф. – Предвижу, через сто лет за мной будут бегать, чтобы расспросить о вас.
– Это не примирит меня со смертью.
– Пусть мысль о будущей славе утешит вас сейчас, – любезно сказал граф. – Люди готовы были умереть за это.
– Ну и дураки, – мрачно изрек Казанова. – Год молодости стоит вечной славы.
– Не будем об этом, – заметил граф, явно намекая, что для бессмертного эта тема не представляет интереса. – Но есть один предмет, о котором мне хотелось бы вас расспросить.
– И что же это? – спросил Казанова, исподтишка бросая взгляд на часы и беря бокал.
– Женщины.
– А-а. – Казанова, даже не пригубив шампанского, поставил на стол бокал.
– А-а? – передразнил его граф. – Когда мы с вами познакомились, мсье Казанова, вы не терялись при обсуждении этого увлекательного предмета. И то, что вы говорите в своей книге, подтверждает вашу репутацию соблазнителя.
– Вы очень любезны, – безразличным тоном пробормотал Казанова.
– И все же… – Граф быстро сунул в нос одну за другой две понюшки табаку, что, видимо, должно было подчеркнуть его скепсис. – Простите меня за нескромность… но… вы ничего не приукрасили?
– В этом не было нужды, – задумчиво произнес Казанова, и в глазах его сверкнул былой задор.
– И однако же, – граф, казалось, размышлял вслух, – однако же, хотя у вас было столько приключений со столь многими женщинами и в столь многих странах, хотя вы так лихо перескакивали из одной постели в другую – а может быть, именно потому, – вы никогда по-настоящему не любили, верно?
– Что?! – воскликнул Казанова, наконец почувствовав подлинный интерес к беседе. – Да вся моя молодость и все зрелые годы сгорели на костре страсти…
– Несомненно, несомненно, но это не одно и то же, – холодно заметил граф, прерывая его. – Ну а ваши женщины… они были высоких достоинств? Они обладали шармом, сексуальным любопытством, чувственностью… но испытывали ли они к вам подлинную привязанность, преданность?
– Вы не знали меня или напрасно читали мою книгу… – возмущенным тоном начал было Казанова, но граф перебил его.
– …Вы всегда легко с ними расставались… а замечали ли вы и размышляли ли над тем, что и они без труда расставались с вами?
Казанова заерзал в кресле и со смущенным видом обвел глазами комнату. Ясно было, что эта мысль никогда не приходила ему в голову. Граф заметил произведенное его словами впечатление и с ехидством давнего друга использовал свое преимущество.
– Знаете, Джакомо, несмотря на все успехи вашей плоти – а, признаю, они были многочисленны и поразительны, – я уверен… – тут он на секунду умолк, чтобы сильнее всадить жало последующих слов, – я уверен, что ни одна женщина по-настоящему не любила вас…
– Что?! – От негодования глаза у Казановы чуть не вылезли из орбит.
– Да, – промурлыкал беспощадный граф, – я не верю, чтобы какая-то женщина была в вас влюблена. Не верю, что вы знали, как заслужить такой венец для своей страсти. О, да, вас тянуло к женщинам, вы действительно со смаком любили их, все связанное с женщиной вдыхалось вами, как духи, которые никогда не надоедали, – лишь бы запах менялся. Вы были чувствительны к женскому шарму, вам нравилось остроумие женщин, их веселость, отсутствие у них той дурацкой грубости, что делает столь отвратительными простолюдинов, вас зачаровывал блеск их волос, легкое касание их губ в поцелуе, бесконечная нежность их обнаженных рук, грудей и бедер, однако вы никогда по-настоящему не знали женщин, не знали, что у них есть сердце и голова…
– Что за глупости вы несете!
С трудом распрямив старческие суставы, Казанова поднял свое тощее тело с кресла и зашагал по комнате, сжимая и разжимая кулаки и бормоча под нос ругательства на венецианском диалекте, а граф смотрел на него со смесью ублаготворенного ехидства и опасения, как бы с ним чего не случилось.
– Да как вы можете сомневаться в том, что меня любили? – брызгая от злости слюной, выкрикнул Казанова. – Разве они не выполняли все, о чем я просил? Разве не приносили в жертву моей страсти самое дорогое, что есть у женщины?
– Несомненно! – Граф снова быстро сунул в нос двойную порцию табаку, что напомнило Казанове Вольтера: тот отличался таким же ироническим неверием. – Несомненно, если вы разделяете убеждения тупого мира, что мужчина преследует женщину, что он навязывает ей интимные отношения, побеждает препятствия, добродетель, долг, сопротивление… Но, дорогой мсье де Казанова, неужели вы никогда не замечали, что написанное выдает правду?
– Я вас не понимаю.
– Что ж, – милостиво улыбнулся граф, – сейчас скажу. В вашей книге содержится нечто поразительное, тем более поразительное, что вы, несомненно, не заметили этого.
– Чего же я не заметил в себе самом? – раздраженным старческим дребезжащим голосом спросил Казанова, несмотря на все старания держаться холодно и выглядеть иронично.
– А вот чего: не столько вы использовали всех этих женщин, сколько, милостивый государь, они использовали вас!
При последних словах графа Казанова перестал расхаживать по библиотеке и остановился. Затем снова заходил – тело его тяжело раскачивалось под влиянием внутренней борьбы с обидой и смятением. Ибо для донжуана, особенно итальянского, услышать, что он оказался игрушкой в руках женщин, а не они – в его руках, было невыносимо. Он был глубоко возмущен, ему хотелось в свою очередь сделать выпад против графа, сказать, что это – абсурд, парадокс, искажение фактов, продиктованное завистью. Он пытался успокоить себя, вспоминая женщин, которые шли на риск ради него, не боясь мучений, позора, заточения и даже смерти. Ради него? Нет, ради того удовольствия, какое он им давал, ради извращенного наслаждения, какое получает мужчина в погоне за женщиной легкого поведения, о которой все говорят и чье тело можно купить, но не изменчивое сердце, которое она скорее отдаст какому-нибудь сутенеру без гроша в кармане! Зато с телом Вакха! Женщины превратили его в проститутку и еще заставляли за это платить. И Казанове вдруг пришло в голову, что женщина, при всех своих недостатках, при своей отринутости церковью и законом, при своей слабости и неразвитом уме, пожалуй, не столь уж беспомощна, как кажется…
Он перестал ходить, точно зверь в клетке – ходьба утомила его, но не успокоила, – и неуклюже опустился в глубокое кресло напротив графа, который сидел и молча, без улыбки наблюдал за ним.
– Милостивый государь, – сказал Казанова, пытаясь, но без успеха, вернуть себе былую удаль, – вы наговорили сегодня такого, что глубоко оскорбило бы меня в молодые годы. Но я – увы! – достаточно стар и понимаю, сколь безумно поднимать вопрос о чести там, где ее нет…
– Мудрость приходит не сразу, – с улыбкой заметил граф, – но под конец все же настигает нас.
– Обычно слишком поздно, – произнес Казанова. – Только не надо думать, что вы убедили меня…
Граф слегка улыбнулся, но старые глаза Казановы даже при свете свечей заметили это.
– Вы улыбаетесь! – резко сказал он. – Но я в самом деле так считаю. Не приемлю я и вашего нелепого предположения, будто непроизвольно написал то, что хотел скрыть. Ни один писатель с таким утверждением не согласится. Но я готов признаться – если угодно, даже покаяться, – что не все в моей жизни происходило так, как я это описал, да и не все я предал бумаге. Но напиши я всю правду, даже вы признали бы, что по крайней мере однажды я любил и был любим за свои личные качества. Историю этой любви я вынужден скрывать.
– Что же могло помешать кавалеру де Сенгальту, – вежливо осведомился граф с легкой скукой в тоне, – рассказать правду о своей любви в манускрипте, предназначенном лишь для ближайших друзей и грядущих поколений?
– Отличный вопрос! – пылко воскликнул Казанова. – Но, милостивый государь, это не просто любовная история. Тут замешаны дела государственные…
Граф поднял брови.
– Дела государственные всегда становятся со временем известны, да и вы сами…
– В данном случае я дал клятву молчать под угрозой…
Граф слегка передернул плечами, но благоразумно промолчал.
– Уж не намекаете ли вы, что я давал клятвы и не держал их? – заметил Казанова, невольно улыбнувшись. – Признаюсь, так бывало. Но эту клятву я могу и должен сдержать. Весьма сожалею. Мне бы очень хотелось рассказать вам, как все было на самом деле… но я не имею права назвать имя дамы.
– Чего вы опасаетесь? Какое иностранное правительство может до вас добраться, пока вы находитесь под покровительством Вальдштейна? Если, конечно, – не без издевки добавил он, – вы – столь важная персона, что из-за вас стоит начать войну!
– Вы не венецианец, – сказал Казанова с легкой дрожью в голосе. – И вам этого не понять. Вас обманывает слово «республика», и вы полагаете, что в Венеции царит большая свобода, чем в монархиях. Да, конечно, у венецианцев нет короля, и ни один венецианец не может носить иностранного титула – разве что он человек маленький и ему, как подачку, дадут такой титул. Но правит Венецией – несмотря на внешний народный характер правления – тирания богатого, могущественного и очень ограниченного меньшинства с жесткой внутренней дисциплиной, которое осуществляет свою власть с помощью самой вероломной и бессовестной тайной полиции, обладающей почти неограниченными правами. Я, говорящий сейчас с вами, знаю изнутри Пьомби, венецианскую государственную тюрьму, где царит тирания Триумвирата, так что я знаю, о чем я говорю. С моей стороны неблагоразумно даже намекать на это. Вы и не представляете себе, как неумолимо мстителен Триумвират… вы не представляете себе, как всесильна полиция, как она умеет выследить и убить приговоренного венецианца. Они не часто прибегают к такого рода методам, ибо недостаточно сильны, чтобы бросать вызов более могущественным державам, но в данном случае – могут. За всей этой историей, связанной со мной, скрываются тайны, о которых я могу лишь догадываться, а о других даже и не подозреваю… Я старый человек, граф, но мне что-то не хочется умереть по приказу Триумвирата от руки убийцы.
Граф слушал эту длинную речь Казановы сначала со скептическим безразличием, затем с легким недоумением, затем с изумлением.
– Да неужели вы не слышали?
– Не слышал о чем?
– Разве вы не просматриваете газеты?
– Иногда, – Казанова состроил гримасу. – Но как можно реже. Что они могут нам рассказать – разве что о незаслуженной победе санкюлотов и черни!
– Ну, я-то считал, что вы будете первым, кто здесь об этом узнает. Как же могли вам не сказать? Какие тупицы эти богемцы…
– Но что же это за новость, которую мне следовало бы знать? – прервал его Казанова. – Уж не умер ли гражданин Бонапарт?
– Нет, друг мой, – с циничной улыбкой ответил граф. – Войска генерала Бонапарта заняли Венецию.
– Что?! Никогда не поверю!
– И тем не менее это правда: Светлейшая республика Венеция перестала существовать. У Бонапарта спросили, какие будут приказания, и он мимоходом бросил: «Эта республика прожила достаточно долго». После чего высокопринципиальные республиканцы, его лакеи, мигом уничтожили старейшую в мире республику, а сейчас грабят труп. Несомненно, чтобы приободрить другие республики, как сказал бы Вольтер. Но вот газета – прочтите, что тут написано.
Казанова машинально взял газету, провел раз-Другой рукой по лицу и уставился на страницу, явно ничего не видя, несмотря на то что надел очки с сильными стеклами. Граф с изумлением заметил, что в глазах старика стоят слезы, а губы что-то шепчут. Молитву? Нет.
– Паоло Анафеста – шестьсот девяносто седьмой; Марчелло Тельяни – семьсот семнадцатый; Орсо Ипато – семьсот двадцать шестой; Мастро Милее – семьсот тридцать седьмой; Орсо Диода-то – семьсот сорок второй…
Это был перечень тысячелетнего владычества венецианских дожей с датами начала их правления, которые каждый венецианский ребенок знает со школы…
Казанова перечислил позабытые имена, бормотанье затихло, и надолго воцарилась тишина. Внезапно полено в камине разлетелось на куски, взметнулся фонтан искр и на мгновение вспыхнуло пламя. Казанова поднялся, бросил в камин вылетевшую головешку, чтобы она не прожгла деревянный пол, затем, повернувшись спиной к графу, прошел в противоположный конец библиотеки и стал возиться с крышкой грубо сколоченного сундука, стоявшего в углу. Когда он вернулся, очков у него уже не было; улыбаясь как ни в чем не бывало, он нес новую бутылку шампанского.
– Прошу извинить мои дурные манеры, – сказал он и принялся открывать бутылку, – ваша новость потрясла меня.
– Это я должен просить у вас извинения за то, что принес такую весть. Но я считал вас слишком большим космополитом…
– Даже у космополита могут быть тщетные сожаления, – прервал его Казанова; пробка от шампанского хлопнула. – История Венеции не скоро забудется, хотя начало ей положили герои, а в конце были такие люди, как я.
– Во всяком случае… – начал граф, принимая из рук Казановы бокал. – Да, я с удовольствием отведаю этой великолепной ветчины… Во всяком случае, теперь вы можете уже не опасаться мести со стороны Триумвирата.
– Хотелось бы мне так думать, – уныло произнес Казанова. – Не очень-то приятно, взяв грязную газетенку, узнать, что твоей страны больше нет. Но давайте выпьем – да будет проклята чернь!
– От всей души!
– И раз уж я удерживаю вас здесь, хотя вы, несомненно, предпочли бы лежать сейчас в постели, – добавил Казанова, с превеликой ловкостью отрезая ломтики ветчины, – и раз мне теперь нечего бояться Совета десяти, или Триумвирата, или венецианских сбиров, так и быть, расскажу вам эту историю, которую мне пришлось изрядно исказить в моем манускрипте…
– Историю любви?
– Да, подлинную историю моих отношений с Анриеттой.
ЧАСТЬ I
«Quella zente che gá in bocca’l riso».
«Что за народ – смеется вечно; смеется во весь рот».
Венецианская народная песня
1
Тройная мгла окутывала Венецию – ночь, низкая облачность и пелена ледяного дождя, принесенного борой, порывистым северо-восточным ветром, который налетает на город с Адриатики, превращая в бурные горные реки тихие, окаймленные дворцами каналы. В перерывах между завываниями ветра те из горожан, кто не спал, слышали более зловещий звук – грохот воды, разбивающейся о водорезы у Лидо. При мысли об этой единственной защите города от наводнения тот, кто бодрствовал, читал молитву, а то и две в надежде, что водорезы выдержат, ибо при боре достаточно появиться в них трещине, чтобы всю Венецию накрыло кипящим покровом белопенных валов.
Был, правда, один венецианец, который, несмотря на грохот бури и связанную с ней опасность, мирно похрапывал, хотя постель его и не отличалась мягкостью. Молодой человек лежал в стоявшей на приколе гондоле, свернувшись калачиком в фельце, маленькой горбатой кабине, и спал, невзирая на глухие удары носа гондолы о причальный столб, плеск мелкой волны в канале и тяжелый стук дождя. Если бы кому-нибудь из бесчисленных полицейских шпиков (на чьей обязанности было с помощью любой подлости удерживать правителей у власти, но ни в коем случае не мешать развлечению граждан), если бы кому-нибудь из этих вездесущих паразитов взбрело на ум бродить в такую ночь и пришла безумная мысль сунуть голову в пришвартованную гондолу (а венецианские любовники готовы пустить в ход кинжал, если им помешают), ну, он просто бы решил, что гондольер предпочел заночевать на борту, вместо того чтобы добираться до дома, а то ведь наверняка промокнешь, да можешь и утонуть. Но шпик не разглядел бы в темноте, что гондольер был человеком состоятельным: на нем были шелковые панталоны, а на красивых туфлях – бриллиантовые пряжки. Более того, он спал в бауте – своеобразной комбинации белой маски с черным капюшоном, которую по законам Венеции могли носить все граждане во время карнавала, чтобы спокойно предаваться необузданным удовольствиям – при условии, что они не станут пытаться изменить форму правления в государстве.
Бора свистел и ревел; волны плескались и грохотали; гондола поскрипывала под стучавшим по ней дождем, но мужчина в маске продолжал мирно спать.
Внезапно послышалось шлепанье голых ног; полуодетая фигура без шляпы выскочила из темного проулка на набережную, прыгнула в покачивающуюся гондолу и настоятельно, но тихо позвала:
– Марко! Марко! Да где же ты?
Молчание. Полуголый мужчина ругнулся, поспешно отвязал гондолу от столба и принялся грести наугад, в кромешной тьме, под дождем и ветром, направляя гондолу к главной артерии Венеции – Большому каналу. Гондола уже плыла, но еще находилась всего в нескольких ярдах от берега, когда раздались шаги обутого человека и из того же проулка на фондамента, или набережную, выскочил другой мужчина. Белая рубашка и скрип весла выдали гребца, несмотря на бурю и темноту.
– Казанова! Злодей! Обманщик! Врун! Соблазнитель! Вернись!
Ответа не последовало; тем временем гребец, проявив чудеса силы и сноровки, сумел вывести гондолу на середину канала.
– Я вижу тебя, я тебя слышу! – кричал преследователь в пылу досады, топая ногами у края воды. – Предатель, убийца, насильник! Говорю – вернись!
Но гондола или, вернее, белая рубашка на гондоле – а это все, что мог разглядеть преследователь, – уже почти исчезла из виду, и теперь вместо грозных окриков раздался пронзительный вопль бедняги:
– Ах, Джакомо! Она же любит тебя! Мы все тебя любим! Только вернись и женись на ней, мы тебя простим!
Ветер отнес в сторону большую часть слов, и лишь «женись» и «простим» достигли слуха Казановы. Хотя у него и перехватывало дыхание от усилий, каких требовала гребля на тяжелой гондоле против ветра, Казанова расхохотался: чтобы Казанова связал себя и свою судьбу с распутной маленькой шлюхой из проулка, – да никогда! Ничего у них не выйдет!
Но смех Джакомо достиг ушей его преследователя и подтолкнул к действию.
– Сатанинское отродье! Чертово дерьмо! Грязный ублюдок грязной матери! Вот тебе! Вот!
Раздался треск двуствольного пистолета, желтая вспышка осветила темноту, и две пули просвистели мимо головы Казановы, словно металлический хлыст прорезал воздух. Напрягши всю силу своих мышц, Казанова сумел повернуть гондолу за выступ стены и выйти в более широкий канал, где ветер подхватил ее и понес под мост. Проклятия преследователя сразу заглохли, но выстрелы разбудили спящего, и он, встрепенувшись, закричал во всю мочь:
– Воры! Убивают! Помогите ради господа бога и Пресвятой Богородицы!
– Заткнись, Марко! – приказал ему Казанова. – И греби что есть мочи к замку Брагадина.
Препираться в гондоле, раскачиваемой бурей, было не время, и Марко, пробравшись на нос, взял второе весло. В Венеции даже аристократы умели грести и управлять гондолой так же лихо, как испанцы скакать на лошади, и знали запутанную сеть своих каналов так же хорошо, как деревенский парень знает все дорожки и тропки возле своего дома. Через полчаса гондола уже благополучно причалила к дворцу сенатора Брагадина, где часто останавливался Казанова. Оба приятеля промокли сейчас до костей. Марко чувствовал, как вода стекает по его ногам в туфли. Казанова потащил приятеля под арку входа с канала, где можно было поговорить, не повышая голоса.
– Я не хочу, чтобы твой дядя Брагадин видел меня, – прошептал Казанова. – Только на прошлой неделе он поучал меня, что-де веселье весельем, но нельзя терять ум. Так что давай тихонько проскользнем в дом и переоденемся в моей комнате.
Однако входные двери были заперты на засов от бури, а нижние окна забраны тяжелыми железными прутьями. Ничего не оставалось, как стучать; стук разбудил лакеев, которые начали ахать и охать по поводу того, в какую беду попали их молодые господа; тут из своего уютного салона появился сам сенатор Брагадин, дородный пожилой господин в непомерно большом парике, с обвислыми щеками, пухлым ртом и добрыми глазами; круглый животик сенатора обтягивал вышитый жилет с золотыми пуговицами, короткие ножки были обуты в туфли на красном каблуке, со сверкающими бриллиантовыми пряжками.
Сенатор в отчаянии вскинул пухлые белые, в кольцах руки, отчего манжеты из тонких кружев упали на сливовый бархат его камзола.
– Джакомо! Марко! Мальчики! – Он словно оплакивал их, что свойственно всем родителям и попечителям, которые рассчитывают видеть в своих потомках людей мудрее и лучше их самих. – Что случилось? Как вы попали в такую беду?
– Все из-за пари, – спокойно ответил Казанова, стараясь понять, сердится ли старик. – Двое гондольеров на traghetto [14]14
Переезд (ит.).
[Закрыть]поклялись, что пригребут к берегу быстрее нас, и вот мы…
– Пригребут быстрее вас?! – Сенатор опустил руки и хмыкнул. – Да вы себя видели? Такое впечатление, что вы взялись проплыть быстрее целого выводка водяных крыс…
– Это был вопрос чести, мы шли на веслах. Посмотрите на наши руки! – И Казанова протянул сенатору ладони в мозолях.
– Пф! Ручаюсь, какая-нибудь история с девицами, – отмахнулся сенатор, – я ведь вас знаю.
– Неужели нам именно сейчас надо признаваться в своих грехах, когда мы насквозь мокрые и умираем от холода и голода? – возмущенно спросил Казанова.
– Я лично не так уж и голоден, – вставил Марко. – Но я и не трудился так рьяно – и, несомненно, с таким удовольствием, – как Джакомо, все это время после обеда.
– Хо-хо, – издал сенатор, задумчиво поглядывая то на одного, то на другого. – Значит, я все-таки угадал? Ну-с, юноши, в дом. Дзордзе, Дзандзе! Высушите одежду синьоров! Тоньино, Феличе! Накормите синьоров! Холодную дичь, холодный язык, болонскую колбасу, холодную телятину и бутылку лучшего моего вина! И поторопитесь, паршивцы! А с вами, юноши, покончено.
Радуясь аппетиту, с каким утоляли голод молодые люди, сенатор наблюдал за ними и не преминул подметить, что Джакомо ел в два раза больше своего друга, а пил меньше. Ох, уж эти любители амурных похождений! Всегда воздержанны в вине. Выпивоха редко предается распутству – разве что погорланит непристойные песни да подмигнет девчонке, которая ему вовсе и не нужна… Что-то есть об этом у Ариосто [15]15
Ариосто, Лудовико (1474–1533) – итальянский поэт; среди его произведений выдающееся значение имеет поэма «Неистовый Роланд».
[Закрыть]– забыл, что именно…
– Насытились, юноши? – громко спросил он и, когда они кивнули и отодвинули стулья от стола, добавил, обращаясь к слугам: – Убери, Феличе. А ты принеси еще вина, Дзордзе. И оставь нас.
– Что-то я совсем сонный, – сказал Казанова, вставая, потягиваясь и зевая так, что сам почувствовал: переиграл. – Пойду лягу.
И он повернулся, чтобы выйти следом за Феличе, который уже уходил, откланиваясь на ночь, но сенатор задержал Казанову.
– Одну минуту, Джакомо, – сказал сенатор, как только слуга закрыл за собой дверь. – Расскажи мне все-таки, что на самом деле произошло?
– Я ведь уже сказал вам, ваше превосходительство, – дерзко ответил Казанова.
Сенатор покачал головой.
– И все же лучше расскажи мне, – спокойно сказал он. – Ты бы не вернулся в таком виде домой, не случись какой-то неприятности. Сколько раз тебе повторять, что в этом городе все – буквально все – становится известно полиции? Так что расскажи мне правду, сын мой. Мне ведь, может быть, придется рассказывать эту историю Совету десяти… а то и Триумвирату и самому мессеру гранде [16]16
Мессер гранде – Главный (или Красный) инквизитор Венецианской республики.
[Закрыть]. Ну кто поверит, Джакомо, твоей сказке про пари? В жизни не слыхал более неправдоподобной лжи, а я за свою жизнь слыхал немало лгунов, да простит их всех Пресвятая Дева!
– Ее зовут Мариетта, – сразу перестав прикидываться, торжественно произнес Казанова.
– Ах-ха! – издал сенатор, кивая, довольный своей проницательностью. – Которая же Мариетта? Я знаю двух, удостоившихся любезного внимания вашей светлости.
– Как будет угодно вашему превосходительству, – вставил Марко, – эта девушка – неаполитанка!
– Что?! – недоверчиво воскликнул сенатор. – Еще одна Мариетта? И к тому же неаполитанка? Клянусь Вакхом, разве такое возможно? Все неаполитанки говорят ведь на диалекте, и от них пахнет чесноком!
– Как будет угодно вашему превосходительству, – сказал Казанова, – но у меня есть достовернейшее доказательство, что она не прикасается к чесноку. А что до диалекта, то она восприняла от меня куда больше венецианского, чем я от нее – неаполитанского…
– Вот в этом я не сомневаюсь, мастер Аретино [17]17
Аретино, Пьетро (1492–1556) – итальянский писатель и поэт, создавший, в частности, 16 сонетов скабрезного содержания.
[Закрыть], – заметил сенатор. – Но скажи, ты привез ее сюда из Неаполя? Ты с ней там познакомился?
– Да я ее в жизни не видел, пока не столкнулся с ней и ее друзьями на Пьяцце в субботу, неделю назад.
Сенатор от восхищения слегка ругнулся:
– Вот чума! Быстро же ты работаешь, аббат. Ну а потом? Да ну же, Джакомо, – правду. Триумвират безжалостен к плутам.
Казанова с безразличным видом передернул плечами, однако повел свой рассказ, как надеялся сенатор, не без легкого стыда.
– Эта победа была совсем нетрудной, – сказал Казанова. – Я с первого взгляда увидел, что она… что я ей нравлюсь. Рот ее молил о поцелуях, а груди…
– Хватит об этом! – воскликнул сенатор. – Ты что, принимаешь нас за сводников? Продолжай.
– Ну, я сумел познакомиться с ее дядей… Оказалось, он так плохо играет в «фараона», что мне пришлось сплутовать, чтобы проиграть ему несколько дукатов. Затем последовало приглашение в дом. Я украдкой поцеловал Мариетту под лестницей, а от дядюшки услышал, что он приехал в Венецию судиться…
Марко, расхохотавшись, прервал его:
– Так вот почему ты не давал мне покоя, пока я не представил тебя моему старому родственнику-судье?
Сенатор и Марко обменялись взглядами и невольно подняли глаза к потолку, словно прося Всевышнего наставить их, как быть с этим человеком.
– Ну и, милостивые государи, – продолжал Казанова, словно не заметив этой молчаливой сценки, – что-то, по-моему, было сказано насчет этого малоприятного предмета – брака. Тут я отыграл свои дукаты и… м-м… прихватил еще немного. Сегодня вечером мне предстояло вкусить прелестей дамы, пока Марко дежурил в гондоле. Итак, я уже не один раз успел выказать Мариетте свою преданность, как внезапно послышался отчаянный стук в дверь. И в комнату ворвался дядюшка со свечой и с пистолетом…
– Так, прекрасно, – заметил сенатор, внимательно слушавший Казанову. – И что же ты сделал?
– Задул свечу, – бесстыдно объявил Казанова. – Выскочил в окно и побежал к гондоле, где и нашел преданного Марко, спавшего в фельце…
– А ты что же, черт побери, – возмутился Марко, – ожидал, что я буду стоять на улице под дождем?..
– И наш славный Марко не проснулся, – продолжал Казанова, – пока у этого старого идиота-дядюшки не хватило наглости пальнуть из пистолета…
Сенатор, до сих пор от души веселившийся и похмыкивавший, внезапно стал очень серьезным.
– Из пистолета?! – воскликнул он. – Вот чума! Да это же могли услышать даже при боре.
– А кроме того, – продолжал Казанова, – этот идиот мог пристрелить меня.
– Да при чем тут ты! – воскликнул сенатор. – Ты же не аристократ, а вот имя Марко занесено в Золотую книгу. Когда умрет Даниэль Вальери, он станет сенатором…
– Но дядюшка ведь понятия не имел о существовании Марко, – возразил Казанова. – Я же сказал вам: Марко спал в фельце…
– Какое это имеет значение, – совершенно серьезно заявил сенатор. – Он же мог ранить или убить будущего сенатора. Он – чужеземец, плебей! Вот чума! Джакомо, могу ручаться: донесение об этом будет у Триумвирата еще до зари, и – кто знает? – шпион может так изложить всю историю, что обвинит тебя. Ты не должен вовлекать Марко в подобные передряги. Ты ведь знаешь, как серьезно относятся наши правители к малейшей опасности, грозящей кому-либо из аристократов. Полиция не может тронуть Марко за нарушение спокойствия – иначе какой был бы прок от благородной крови? А у тебя, Джакомо, ты же знаешь, положение иное: ты привилегиями не пользуешься. Ну хорошо, хорошо, я встану до зари и выгорожу тебя перед Советом… Войдите, войдите! – произнес сенатор в ответ на неожиданно раздавшийся стук в дверь.
– Ваше превосходительство, – сказал Феличе, стоя в дверях и кланяясь, – посланец от Триумвирата…
– Клянусь богом, быстро сработано! – не без восхищения произнес Казанова.
– Сидите спокойно, юноши, – сказал Брага-Дин, поднимаясь с кресла настолько быстро, насколько позволяли его подагрические ноги, – и ждите меня. А я позабочусь о том, чтобы справедливость восторжествовала.
С полчаса Казанова сидел и зевал, тогда как Марко пытался заинтересовать его предстоящим карнавалом на воде, где будут и музыка, и мороженое, и достойные молодые дамы… Наконец появился сенатор, избавив Казанову от необходимости и дальше уклоняться от прямого ответа об участии в карнавале. Брагадин вкатился в комнату, похмыкивая и потирая руки.






