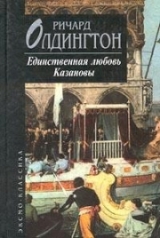
Текст книги "Единственная любовь Казановы"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
В глазах его появился волчий блеск, и он сказал:
– Я берусь за эту миссию. Когда надо начинать? И какие будут мне инструкции?
– Сначала вы должны выздороветь, – сказал инквизитор, вставая и сбрасывая крошки табака с одежды. – Как только доктор сообщит, что вы полностью поправились – скажем, дня через два или три, – мы проведем еще одну беседу и дадим вам дополнительные инструкции. Если вам удастся арестовать, или выкрасть, или… назовем это как угодно иначе… героиню (назовем ее так?) без скандала и живьем, вы получите награду в тысячу цехинов и конфиденциальную должность при правительстве… Вы хотели что-то сказать?
У Казановы чуть не сорвалось с языка, что вместо денег он предпочел бы право воспользоваться шпионской сетью республики, чтобы найти Анриетту, ибо в долгие часы бдения в тюрьме ему всегда казалось, что даже свобода не будет иметь для него цены без нее. А потом ему пришла в голову мысль, что, если он получит постоянную должность при правительстве, она сможет махнуть рукой на поиски своего неуловимого наследства и он сам сумеет снова ее найти…
– Нет, – сказал он вслух, – ничего… я только хотел спросить, будет ли эта должность постоянной?
– Конечно. – Инквизитор уже повернулся было, чтобы уйти, и тут же возвратился на прежнее место. Голос, которым он заговорил, звучал ровно и приятно, но в тоне чувствовалось страшноватое сознание своей власти. – Должен добавить: венецианские правители рассчитывают, что вы неукоснительно будете выполнять их приказания. Вы склонны к опрометчивым поступкам, Казанова, а потому я хочу по-дружески напомнить вам, что у правителей длинная и сильная рука… А пока прощайте.
4
«Два или три дня», – сказал Красный инквизитор, и можно ли удивляться, что для Казановы они тянулись бесконечно долго? Проведя полтора года в тюрьме – и все это время в одиночном заключении, пережив периоды надежды, страха и тяжкого труда, связанного с побегом, а затем впав в безграничное отчаяние от того, что его поймали в тот момент, когда успех был уже близок, – Казанова находился в крайне нервном состоянии и – что естественно – размышлял о том, не является ли посещение инквизитора, перемена отношения к нему со стороны Триумвирата, предложение об этой странной и трудной миссии и обещание в случае удачи последующих наград, – не является ли все это еще одной дьявольской формой пыток? Он усиленно старался убедить лекаря, продолжавшего ежедневно посещать его, побыстрее удостоверить, что он может тотчас отправиться в путь.
– Дорогой синьор, – сказал ему лекарь, пожав плечами, – я понимаю ваше нетерпение. С ним может сравниться лишь мое собственное желание видеть вас здоровым и выпущенным из этих мест, которые вызывают у меня дрожь – при всем, как вы понимаете, уважении к нашему доблестному дожу! Но я могу повлиять на наших инквизиторов не больше, чем самый жалкий рыбак из Маламокко, а они уже приняли решение о часе вашего освобождения или, вернее, о часе, когда вас поведут на последний разговор с Красным инквизитором. Назначен он на завтрашний вечер, в девять часов. А до тех пор я советую вам отдыхать, хорошенько кушать и успокоиться. Вы находились ведь на грани воспаления мозга…
– Хотелось бы мне им верить, – еле слышно прошептал Казанова.
– Зряшное дело им не верить, – возразил лекарь. – Да и почему, собственно? Судя по тому, какие мне даны указания, я пришел к выводу, что по каким-то причинам они хотят видеть вас здоровым и возможно более сильным, а хотеть этого они могут лишь в том случае, если вы для чего-то им нужны.
Здравый смысл слов лекаря в известной мере успокоил и убедил Казанову, хотя, когда ему не спалось – а такое было с ним не раз, – он по-прежнему доводил себя до кипения и никому не верил. Но, как и следовало ожидать, мысли его почти целиком были заняты женщинами. О Розауре он едва вспоминал – разве что иногда спрашивал себя, как-то там она, и надеялся, что все у нее хорошо. Мариетта же то и дело возникала в его мыслях. Почему-то особенно живо вспоминались ему часы, проведенные с нею во Флоренции, и он жалел, что так резко и эгоистично порвал с ней – в конце концов, судя по словам Анриетты, Мариетта вела себя очень деликатно и мило. А вот Анриетта…
Что ж, можно сказать, что в первые день и ночь, когда он лихорадочно ждал освобождения, буквально не проходило пяти минут, чтобы он не думал об Анриетте, порою же думал о ней непрестанно. В противоположность этому в первые месяцы заключения он старался об Анриетте не думать, ибо слишком уж бередили и терзали его воспоминания, а последние месяцы она вообще ушла из его мыслей в часы бдения, поскольку он был всецело занят планами побега. Теперь же он со все возрастающей отчетливостью и тревогой пытался представить себе ее судьбу и снова и снова искал ответа на вопросы, которые так часто не давали ему покоя в первые недели заточения. Как удалось ей бежать? Куда она отправилась? Что делала после их внезапного и трагического расставания? Удалось ли ей добиться того, чего она хотела? Не забыла ли она его? Не появился ли у нее новый любовник? Если он выйдет на свободу, как ему ее искать?..
Наутро второго дня после ухода лекаря Казанову посетил офицер стражи государственной инквизиции и вежливо сообщил, что Красный инквизитор встретится с ним в девять, после чего Казанова сразу уедет. Это сообщение, подтверждавшее слова лекаря, вполне могло быть просто частью замысла, если ему устраивают пытку надеждой, но, по счастью, Казанова предпочел принять информацию на веру и не терять на этот день присутствия духа. Перспектива скорого освобождения и недалекой встречи с донной Джульеттой при весьма любопытных обстоятельствах побуждала его думать больше о ней, чем об Анриетте.
Казанова уже давно пришел к выводу, что самым глупым шагом в его жизни было то, что он бросил донну Джульетту в такой интересный момент по мановению руки Анриетты. Правда, от этого эпизода отзывало романтикой, но Казанова нажил себе таким образом врага, и это затрудняло стоявшую перед ним сейчас задачу, хотя и давало ему серьезное основание для мщения. Однако, будь он менее импульсивен, останься он с донной Джульеттой и стань она его любовницей, – сколь многого можно было бы избежать! Анриетта никогда бы об этом не узнала, он придумал бы для донны Джульетты какой-нибудь предлог, чтобы вовремя уехать из Рима и успеть на свидание с Анриеттой, и ему не пришлось бы драться на тосканской границе или участвовать в этой странной и до сих пор загадочной для него истории, когда он встретил Анриетту в пути в мужском костюме…
И Казанова твердо решил, что, если и совершил подобную ошибку в прошлом, больше такого не повторит. Хотя он и ненавидел эту женщину лютой ненавистью, считая ее причиной своего долгого заточения и страданий, а также своей разлуки – быть может, навеки – с Анриеттой, тем не менее в качестве первого шага отмщения он задумал сделать донну Джульетту своей любовницей, а потом, пользуясь этим, привезти ее туда, где ее арестуют, и тогда уж Венецианская республика с лихвою отомстит ей и за него, и за Анриетту…
Он снова и снова гонял эти мысли по кругу, словно лошадь с завязанными глазами, когда часы на Калье-деи-Фаббри пробили девять раз, и в тот же миг молодой офицер с пунктуальностью военного вошел к нему в комнату. С офицером был солдат – не для того, чтобы охранять Казанову, а чтобы нести его вещи, – и офицер, любезно болтая с Казановой, повел своего узника по лабиринту переходов, лестниц и анфилад, пока они не подошли к двери, охраняемой двумя вооруженными людьми, которые остановили их и услышали в ответ пароль. Офицер постучал, чей-то голос ответил, и Казанова очутился лицом к лицу с Красным инквизитором, который снова был в своей официальной одежде и что-то писал, сидя за столом. Он тотчас любезно положил перо, пожал руку своей бывшей жертве и предложил Казанове присесть.
– Вы выглядите лучше, – сказал он.
– Надежда прекрасно тонизирует, – сказал Казанова с чуть кривой усмешкой, – хотя у меня было ее, пожалуй, слишком много.
– Вы считаете, что осуществление надежды лучше? Вы совершенно правы. Но хватит об этом. Если вы честно выполните свою миссию, но не преуспеете, вам нечего бояться, – вот только награды вы, естественно, не получите. Если же вы предадите нас, запомните еще раз: у Венецианской республики все еще длинная рука… У вас есть деньги?
– Два-три цехина, оставшихся от тех шести, которые сенатор Брагадин выделял мне на месяц.
– А-а! Он посылал вам деньги? Да, конечно, теперь припоминаю. Добрый ваш друг, но несколько придурковатый, совсем теряет голову, когда речь заходит о вопросах, в которых он понимает столько же, сколько и все остальные, – возможно, все люди таковы. Возьмите этот кошелек.
Казанова почувствовал, что кошелек тяжелый.
– Тут двести цехинов, – сказал инквизитор. – На ваши расходы и на возможный подкуп – запомните: подкуп почти всегда куда действеннее удара и, как правило, дешевле обходится. Вы уже продумали какой-то план подхода к… будущей узнице?
– Я придумал несколько вариантов, – с уверенностью произнес Казанова, – но не хочу связывать себя заранее ни с одним из них: взвешу возможности, когда увижу ситуацию, и соответственно стану действовать.
– Хорошо. Вот это нам нравится. Разумный человек тот, у которого есть голова на плечах и который умеет ею пользоваться и держать язык за зубами. Запомните это, Казанова. Что же до вашей добычи, то я не могу вам дать ее описание, кроме того, что мы узнали из перехваченного зашифрованного письма, которое мы переписали и, конечно, отправили по назначению, – по нашему разумению, это должна быть женщина. Название деревни и гостиницы тут написано, вам также дается карта и программа пребывания этой женщины. – Инквизитор протянул ему несколько сложенных листков. – Можете изучить их завтра, а потом уничтожьте. Вы меня поняли?
– Да.
– Вот ваш паспорт. Вы поедете под именем Джакомо Лучинно, как торговец винами, направляющийся в Вальтеллин для закупки нескольких бочек вина особого урожая для венецианских знатоков. Физические данные в паспорте в точности соответствуют вашим. Все ясно?
– Безусловно.
– Имя я поставил ваше. Мы считаем, это помогает лучше скрыть подлинную личность. Полуправда всегда намного обманчивее полноценной лжи. Тот же принцип будет применен и в отношении вашего выхода отсюда. Слухи о вашем побеге уже, конечно, не один день ходят по Венеции, приукрашенные и искаженные настолько, насколько может хватить воображения у ослов, которые такому верят. Различные небылицы на этот счет были напечатаны по всей Европе. Утверждать, что ничего не произошло, невозможно из-за того, как вы повредили дверь канцелярии, этого не скроешь. Сначала мы не говорили ничего, а потом, как только решили выпустить вас, сразу заявили, что вы бежали. Это тотчас бросило тень на рассказы о вашем побеге: никто ведь не верит, что правители в таких делах могут сказать правду. Прошло несколько дней, и за это время стало ясно, что все семьдесят три человека, именовавшие себя Джакомо Казанова, оказались самозванцами, а потому теперь все твердо убеждены, что это были нелепые россказни и никакого побега или попытки к побегу не было. Это, конечно, принижает вашу славу, но значительно поможет выполнению вашей миссии и, следовательно, обогатит ваш карман…
Казанова поклонился в знак признательности за столь высокую оценку и обещание.
– Когда вы вернетесь, мы, конечно, освободим Джакомо Казанову. Вам же пока придется действовать осторожно – в особенности до тех пор, пока не отъедете достаточно далеко от Венеции или любого места, где вас могут узнать. Сделайте вид, что у вас болит горло, и хорошенько закрывайте лицо. У тюремной пристани вас ждет гондола, а в Местре – почтовая карета… Есть какие-нибудь вопросы?
– Есть. Куда я должен привезти… м-м… будущего узника?
– Это указано в инструкции и на карте, которую я вам дал. Что-нибудь еще?
– Да. Как мне связаться с…
– Ни в коем случае, – быстро прервал его инквизитор. – В подобных делах никогда не пишут и ничего не передают, если этого можно избежать.
Наши люди – все отборные агенты – будут терпеливо ждать, пока вы туда приедете… мы уверены, с добычей. Прощайте.
Поклон Казановы был уже адресован темноволосой голове, склонившейся над столом, где горой лежали документы. Выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь, он почувствовал, как сердце у него ушло в пятки от страха при виде молодого офицера, которого теперь сопровождали еще двое. Неужели, спросил себя Казанова, инквизитор, несмотря на несомненную откровенность и доверие, снова сыграл с ним злую шутку и к двум другим добавил третьего, чтобы помочь его арестовать?
А третий мужчина, стоявший в глубине плохо освещенного коридора, шагнул сейчас вперед и, к стыду и восторгу Казановы, оказался Марко – Марко, которого держали в тюрьме только потому, что он был другом Казановы, а Казанове даже не пришло в голову поставить условием освобождение друга за ту весьма мерзкую услугу, которой от него потребовала инквизиция в обмен на свободу.
– Джакомо!
– Марко!
Друзья сначала схватили друг друга за руки, потом обнялись, пролив по обычаю южан легко подступающие слезы. Молодой офицер дотронулся до плеча Казановы.
– Пройдите в эту комнату, синьор, вы сможете минут десять побыть наедине с вашим другом. А затем пора будет двигаться в путь.
Поахав и поохав, что было естественно в их положении, Казанова прежде всего спросил:
– Как обстоят твои дела, Марко?
– Меня выпускают с компенсацией и своего рода извинениями при условии, что я проведу год в Падуе и что мой отец и Брагадин обязуются доставить меня в Венецию в любое нужное время.
– Можешь ты простить меня за те страдания, которые ты по моей вине здесь перенес?
– Это не твоя вина, – тепло проговорил Марко, – а вина этой подлой, насквозь прогнившей республики, которая…
– Тихо! – сказал Казанова. – Тебя могут услышать. Мы ведь еще не выбрались из ловушки, и я подозреваю, что именно такие разговоры с моей стороны и способствовали тому, что мы здесь очутились. А как старик сенатор? Ты видел его?
– Брагадин? Да, видел, и он выглядит точно так же, как в последний раз, когда мы его видели, – все причитает, что ты без достаточного благоговения вопрошал «Ключ Соломона».
– Старый осел! – рассмеялся Казанова и тут же насупился. – Но почему он не просил о свидании со мной?
– Просил, но ему не разрешили.
– Почему? А, неважно. Времени у нас мало. Еще один вопрос: есть у тебя хоть какие-то сведения или догадки относительно того, где Анриетта?
Марко покачал головой.
– Ни малейших. Мне стоило большого труда убедить ее бежать. Она все твердила, что хочет сдаться, что она – причина твоего ареста и что, если она будет у них в руках, тебя могут выпустить. Когда же наконец она согласилась покинуть территорию Венеции, то отказалась дать какой-либо адрес: сказала, что, если и когда тебя выпустят, она наверняка об этом услышит…
– Время кончилось, синьоры, – произнес голос молодого офицера. – Мне жаль нарушать вашу беседу, но у меня на этот счет есть приказ, которого я не могу ослушаться. Синьор Казанова, гондола готова.
Теплое прощание с Марко, затем коридоры, лестница, вдруг открывшаяся дверь – и Казанова почувствовал на своем лице дыхание свежего ночного воздуха Венеции. Молодой офицер, взяв его под руку, подвел в темноте к краю причала и шепотом объяснил, что его, Казановы, отъезд должен происходить тихо, в темноте, чтобы остаться по возможности в тайне. Он пожал Казанове руку, помог ему спуститься в фельце, и гондола неописуемо мягко заскользила по воде, унося узника от тех мест, где он познал столько горя и где столько мужества было потрачено зря.
Тому, кто никогда не сидел в тюрьме, нечего и пытаться понять тот поистине истерический восторг, какой постепенно овладевал Казановой по мере того, как гондола быстро продвигалась к Гвидекке, а затем направилась к континенту. Убийственное однообразие существования, бесконечно тянущиеся бесцветные дни, ужасные ночи, проведенные в тюрьме, все еще терзали его ядом воспоминаний, и он тихо заплакал в темноте при мысли, что наконец избавлен от всего этого, а также от сожалений о безвозвратно утраченных днях молодости. Ему казалось, что теперь ничто уже не способно причинить ему настоящую боль, что, пока он на свободе, вдали от этих жутких стен, он ни о чем не станет сокрушаться.
Однако так велико было его недоверие, что дважды, когда гондола по каким-то причинам слегка сворачивала – или ему казалось, что слегка сворачивала, – с курса на Местре, ему приходила в голову сводящая с ума мысль, что треклятая инквизиция играет с ним в кошки-мышки. Это подозрение исчезло, лишь когда он благополучно сошел на землю и был препоручен заботам проводника, принесшего ему два саквояжа, которые неведомо для Казановы были наполнены одеждой и прочими необходимыми вещами по приказу Триумвирата. Наблюдая за тем, как саквояжи укладывают в почтовую карету, которая должна была отвезти его в Гризон, Казанова мрачно подумал, что Триумвират в самом деле не забывает ни об одной детали, сколь незначительной она бы ни была. Вы только представьте себе, они продумали все, что требуется для удобства человека, которого мучили полтора года по ничем не подкрепленному подозрению!..
Такие и многие другие мысли и чувства одолевали Казанову, мешая ему заснуть под некогда такое знакомое, а сейчас такое восторженно-новое покачивание и подпрыгивание кареты, влекомой парой сильных лошадей. Всякий раз, как они останавливались на почтовой станции, он выходил из кареты: внешне – чтобы размяться, а на самом деле ради удовольствия снова почувствовать под ногами землю и иметь возможность обменяться словом с конюхом, или почтальоном, или сонным хозяином – с кем угодно, кто не был тюремщиком или инквизитором, или человеком, как-либо связанным со Свинцовой тюрьмой. А однажды он чуть не прочитал молитву, которую шептал в течение более года, – моление за всех тех, кто сидит в темнице, символе неравенства и тирании.
Он все-таки заснул под неумолчный стук колес, а проснувшись, обнаружил, что весь окрестный мир погружен в белый холодный туман, в котором вдруг возникали смутные очертания деревьев с мокрыми желтыми листьями, белых домиков и проезжающих мимо повозок. Потом в белом мутном воздухе появились очертания красного шара, который становился все ярче и желтее по мере того, как туман редел и уносился рваными клочьями, оседая в стылых низинах и на затененных склонах крутых гор, и наконец золотое солнце и голубое небо ясного осеннего дня победоносно возвестили свой приход. Казанова забыл о своей миссии и о своих обидах, о своей любви, о себе, наслаждаясь свободой и чуть ли не желая, чтобы все радости жизни свелись для него к этому бесконечному путешествию, уносившему его все дальше и дальше от венецианской тюрьмы.
Но днем, когда карета замедлила ход, везя его мимо гор с тенями провалов и ослепительных, покрытых снегом вершин и полей, а воздух становился все холоднее, Казанова вернулся к реальностям жизни и впервые занялся изучением карт и инструкций, которые дотоле лежали у него в кармане. Однако обычно плодовитый мозг его не выдавал ничего – то ли от спячки, в какой он пребывал в тюрьме, или оттого, что Казанове была крайне неприятна его миссия, или просто из упрямства, этого Казанова понять не мог. Так или иначе, вместо того чтобы строить планы, как заманить донну Джульетту и передать ее в руки венецианской тайной полиции, Казанова снова сунул бумаги в карман и задремал, слегка вздрагивая от холода, пока не стемнело и почтальон не объявил, что они добрались до деревни, ближайшей на главной дороге к тому месту, где Казанове предстояло найти донну Джульетту. И Казанова, выйдя из кареты, усталый, замерзший и одеревеневший, повел себя отнюдь не как добросовестный и очень старательный политический агент – он заказал себе лучшую комнату с лучшим камином, и лучший ужин, и лучшее вино, какие могла предоставить ему эта гостиница, великолепно поужинал, улегся в постель и заснул крепким сном.
Это была его первая ночь на свободе, ибо даже в карете, которая мчала его по тряской дороге в темноте, Казанова чувствовал власть Триумвирата, безмолвной и постоянной угрозой довлевшую над ним. Собственно, и наслаждаясь роскошествами, которых он был так долго лишен, Казанова ощущал эту угрозу, тем более что сама свобода, которой он снова с таким смаком вкусил, была обусловлена. Он должен оказать инквизиторам премерзкую услугу, чтобы завоевать ее, и, не знай он странного упорства в возмездии со стороны Венецианского государства, можно было бы подивиться, как его выпустили. Вполне возможно, решил он, это объяснялось желанием возместить ему заключение, позволить ему показать, что он лояльный гражданин, как он сам утверждал. Ну а роскошествам он так предался потому, что они были для него символом вновь обретенного достоинства, ибо кто может быть более жалким, чем узник, чье каждое движение и каждая минута жизни регламентированы бессердечными правителями? Нечего в таком случае удивляться, что Казанова предался роскошествам, доказывавшим его свободу.
Однако возможность поваляться утром в постели не принадлежала к их числу. Слишком много раз по утрам он лежал холодной зимой в своей тюрьме на жалкой постели, пытаясь согреться, слишком много дней он провел там, удрученный, снедаемый тревогой, стараясь скрыть гениально придуманные, но отнюдь не совершенные орудия бегства. А потому, коль скоро в постели он задерживался по тюремной привычке, здесь он рано встал, велел, изголодавшись, побыстрее подать себе завтрак, шутил с горничными, расспрашивал конюших и конюхов. Осенний холод уже пришел в эти горные районы, а потому приятно было завтракать у пылающего огня, не спеша, предаваясь мечтам. Впрочем, это было менее приятно, чем он предполагал, ибо он знал, что каким-то образом должен добраться до деревни, где скрывается донна Джульетта, и – вот тут была главная трудность – найти благовидный предлог, который объяснил бы его пребывание в маленькой захолустной харчевне, где пьют эль или вино и где хозяину наверняка заплатили, чтобы он никого не пускал.
Найти донну Джульетту было настоятельной необходимостью, но всякий раз, когда Казанова думал об этом, на него нападала странная апатия и инерция, как если бы вся его смекалка и умение строить хитроумные планы были исчерпаны побегом из тюрьмы. После завтрака, когда солнце пробилось сквозь туман и, как бы в знак раскаяния, принесло печальному осеннему миру в дар немного тепла, Казанова не спеша направился в деревню, прошел мимо церкви, винного погребка и кузницы и вышел за околицу на большую дорогу, которая вилась вверх, к снежным вершинам Альп. В стылом, пронизанном туманом воздухе печально звучали колокольчики коров, откуда-то издали донеслась стародавняя жалобная мелодия, которую кто-то играл на дудке. Чуть дальше Казанове попался стремительный альпийский ручей, и Казанова рассеянно покидал в него камешки.
Никаких идей у него это не породило; бесцельно побродив часа два, он медленно вернулся в деревню и, не зная, чем занять время и ум, постоял и понаблюдал за кузнецом, который снимал с лошади изношенные подковы, чтобы затем подрезать копыта и поставить новые. Вот тут Казанове пришла в голову одна мысль, и из унылого олуха он мгновенно превратился в деятельного человека, перед которым стоит определенная цель.
Он с легкостью завязал разговор с кузнецом и уговорил его продать по нелепо высокой цене пару крепких клещей, с помощью которых кузнец выдергивает гвозди из подков. Тщательно засунув клещи в карман, Казанова вернулся в гостиницу, заплатил за три дня вперед за комнату, а затем объявил, что ему нужно поразмяться и он хотел бы купить лошадь. Возвысившись было в глазах хозяина своей щедростью, Казанова тут же пал, ибо упорно желал купить весьма неказистое животное вместо действительно сильной лошади, которую предлагал ему хозяин. Но Казанове требовалась не отличная лошадь, а кое-что другое.
После обеда он прилег и поспал, а затем, к середине дня, отправился верхом за новыми покупками – не по главной дороге, а неподалеку от нее, – пока не потерял из виду деревню. Тогда он тщательно изучил карту, пересек поле, обнаружил проселочную дорогу, проехал по ней мили две-три и, расспросив шедшего в поля работника, скорее догадался, чем понял, так как тот говорил на труднодоступном диалекте, что нашел нужное место. И действительно, за поворотом дороги почти сразу оказался описанный ему постоялый двор, но Казанова, не привлекая к себе внимания и даже не взглянув из любопытства на то место, где скрывалась донна Джульетта, поехал дальше. Ехал он так, пока не добрался до леска, где росли осины и ивы, а рядом протекал ручей.
Его дальнейшие поступки могли показаться безумными, ибо человек разумный и здравый так себя не ведет. Сначала Казанова швырнул наугад шляпу, затем выпачкал грязью плащ и бок лошади. Взяв купленные у кузнеца клещи, он умудрился – немало попотев и вызвав изрядное фырканье со стороны своей до сих пор покорной лошадки – снять подкову с ее передней ноги. Затем, поискав вокруг, нашел острый кремень и, тщательно привязав лошадь, сделал несколько надрезов ей на коленях – так, чтобы побольше вытекло крови и создалось впечатление, что лошадь упала. После чего столь же безжалостно поранил себе лоб и руку, как следует перепачкал белый платок в крови, перевязал им голову кровавой стороной наружу и подвязал себе левую руку.
В этом более чем плачевном состоянии Казанова в сопровождении лошади, усиленно хромавшей без подковы, явился на постоялый двор и попросил дать ему комнату.
– Сегодня мы не принимаем гостей – у нас полно, – угрюмо буркнул хозяин и захлопнул перед носом Казановы дверь.
Но от Казановы не так легко было отделаться. Немного выждав, он обошел дом и позади его обнаружил краснощекую деревенскую женщину, которая кормила гусей. К ее-то жалости он и воззвал с присущим ему патетическим красноречием.
– Я не для себя прошу, сударыня, – сказал он, любезно обращаясь к ней с таким почтением, какое она едва ли часто встречала, – а ради этого несчастного животного, которое упало, и по его милости я разбил себе башку и вывихнул руку, но это не так уж важно, а вот старина Джузеппе, боюсь, сломал оба колена. Да разве могу я заставить несчастное животное в таком состоянии пройти еще шесть или семь миль? Упаси боже. По вашему лицу я вижу, что вы женщина добрая и, ручаюсь, понимаете животных. Разрешите мне оставить его здесь хотя бы до завтра…
И, произнеся это, Казанова положил ей в руку золотой. Женщина помедлила, посмотрела на него с нерешительной улыбкой, а потом сказала:
– Конюшня – вон там.
Пройдя в том направлении, какое указал ее палец, Казанова положил лошади подстилку и задал ей корм, старательно подражая тем, кто делает вид, будто любит лошадиное естество больше своего собственного, а затем вышел на маленький дворик. Наступили сумерки, и женщина стояла в дверях кухни.
– Вот и чудесно, – сказал Казанова, потирая руки, – теперь, когда мы накормили и укрыли самое для меня важное – лошадь, как насчет несчастного наездника? Вот чума! Я такой голодный, а вы, уверен, отличная кулинарка.
– Муж сказал, чтоб никого не принимать, пока она не уедет, – сказала женщина, покачав головой, и в испуге посмотрела на Казанову – так смотрит человек, выдавший тайну.
– Ах! Но я уверен, что последнее слово в большинстве случаев остается за его женой, – возразил Казанова и многозначительно подмигнул. – Не оставите же вы меня лежать под звездами, точно язычника, когда и я и вы – мы оба с вами христиане? – уже другим тоном продолжал он. – Все, о чем я прошу, – это поделиться со мной вашим собственным ужином и дать сухое местечко, где бы я мог лечь. Это вам… – И он положил ей в руку еще один золотой. – А вы не можете отправить вашего славного муженька купить что-нибудь и провести меня потихоньку в дом? В вашем кармашке завтра окажется еще один цехин, а муж никогда об этом не узнает.
Золото и лесть Казановы сделали свое дело, и добрая женщина начала думать: стыдно все-таки такого красивого, такого разговорчивого, такого уважительного мужчину – уж наверняка большого синьора, судя по тому, как он говорит и какой он щедрый, – оставлять на холоде только потому, что ее мужу вздумалось угодить этой выдре, что занимает две передние комнаты…
И вот получасом позже Казанова, укрывшись в тени, отбрасываемой конюшней, услышал – скорее, чем увидел, – как супруг, громко ругаясь, отправился куда-то по дороге, а через две минуты Казанова был уже в доме, где его провели в маленькую, но чистенькую комнату – снова под крышей, как в тюрьме, не без мрачного юмора подумал Казанова, заметив выступающий над окном скат.
– Я буду сидеть тихо, как мышь, – пообещал он. – И не пошевелюсь до утра. Да благословит вас бог!
Женщина простояла еще с минуту, шепотом наставляя его соблюдать тишину и тайну, и, хоть она и была такая некрасивая, не будь у Казановы спешного дела, он расцеловал бы ее. Но долг есть долг, и он дал ей уйти.
А теперь что? Казанова импровизировал – один шаг, затем следующий. Главное было попасть в дом. Теперь, когда эта цель достигнута, следующий шаг – отыскать донну Джульетту. Она, вполне возможно, вышла. А возможно, она не одна. Скорее всего велит ему уйти и позовет на помощь… Но надо рискнуть. Если он сумеет отыскать ее до того, как вернется мрачный хозяин, Казанове придется пустить в ход все свое обаяние, чтобы она не только разрешила ему остаться, но и нашла оправдание его пребыванию тут.
Он задул плавающий фитиль, который женщина дала ему, чтобы он мог раздеться и лечь в постель, предупредив, что через четверть часа надо задуть огонь, потому как может вернуться муж. Полагая, что она немного укоротила срок, Казанова решил, что имеет в своем распоряжении от двадцати минут до получаса, и медленно и бесшумно стал на ощупь спускаться по темной узкой лестнице. Так он добрался до площадки, откуда ступени вели на первый этаж, а вправо и влево шел коридор, куда явно выходили четыре или пять комнат постоялого двора. Казанова внимательно прислушался и ничего не услышал. Он осторожно пошел по коридору вправо, бормоча ругательства, когда под ногой скрипела доска, и прислушиваясь у каждой двери. Ничего.
Тогда он вернулся на площадку и стал обследовать другой коридор. И почти тотчас сердце его заколотилось, и он чуть не прищелкнул пальцами от удовольствия: из-под двери виднелась тоненькая, как иголка, но яркая полоска света – толстая циновка позволяла увидеть ее, лишь если стоишь рядом. Та самая комната! И раз есть свет, значит, донна Джульетта там. Положив руку на старинную щеколду, которая в этом допотопном доме заменяла ручку, Казанова стоял, затаив дыхание, и слушал. Глаза его сверкнули, когда гнетущую тишину нарушил треск падающего полена, потом тихий шорох юбок и позвякивание железных щипцов – кто-то стал подправлять огонь.






