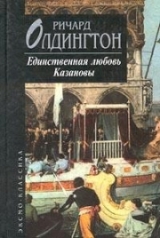
Текст книги "Единственная любовь Казановы"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Чино пожал плечами и отбыл, предоставив Казанове поздравлять себя с удачей и строить планы на будущее – планы, исполненные самых серьезных намерений, по сравнению с которыми розовые пасторальные мечты о жизни с Мариеттой выглядели унылой реальностью. Фон, на котором строились эти планы, их абстрактность и большая отдаленность во времени перемещали их в края, где бродят безумцы и влюбленные. Ближайшие же планы были более четкими и одновременно более здравыми – дело в том, что Казанова, невзирая на вчерашний поцелуй и последовавшие за ним непередаваемые слова любви (непередаваемые из-за своей эмоциональности и потому бессмысленности), был в достаточной мере уверен, что Анриетта побеждена и завоевана лишь наполовину. Подобно молодой красавице кобылице, позволяющей с помощью яблок и ласковых слов подманить себя к загородке и смотрящей на льстивого незнакомца широко раскрытыми блестящими глазами, Анриетта дала Казанове заманить себя, чему способствовали ее мечтания, надежды и женские чаяния, и если кобылица при малейшем неосторожном жесте вздрогнет, встанет на дыбы и, отбрасывая копытами черную землю, во весь опор помчится прочь, то так же и Анриетта вздрогнет и помчится прочь – и, по всей вероятности, бесследно исчезнет, если он будет слишком резко ее домогаться, попытается каким-то образом подчинить себе или испугает, превратившись из предмета мечтаний во вполне реального мужчину.
Конечно, она слышала, что он из породы лихих людей, он это знал и числил среди своих достоинств в качестве любовника; Анриетта захочет его исправить или, скажем, заставить лихого кавалера служить ей одной. Так уж неодолимо человеческое самомнение, что Казанова больше рассчитывал на подобный исход, чем на то, что Анриетта может полюбить его таким, каков он есть. Да и как может она его полюбить, если, по существу, ничего о нем не знает, кроме того, что у него сильные руки и острый глаз, ноги, которые следовало бы обтягивать рейтузами, как это делали в былые дни, и безотчетная импульсивность поступков, что производит впечатление безрассудной страсти, которую так высоко ставят женщины? Уверенный в правильности своих убеждений, Казанова взлетел на такие высоты счастья, какие не являлись ему прежде даже на дальнем горизонте.
Однако он сразу же столкнулся с трудностью в самой механике завоевания Анриетты – ресторанов тогда не существовало, так что он не мог пригласить ее на ужин, за которым могло бы расцвести ее благорасположение, а любовь обрести более прочные крылья. Таверну или кофейню он счел недостойными ее; пригласить повара на его или ее квартиру – это можно, но не сейчас. Решение проблемы опять-таки подсказал Чино.
Вскоре после полудня Казанова, одетый с необычной для него, но не чрезмерной роскошью, подкатил к дому Анриетты в шикарном экипаже с кучером в чьей-то ливрее – все это было взято напрокат стараниями брадобрея. Для роз было, конечно, еще не время – их не было даже в оранжереях великого герцога, – но, войдя в комнату, Казанова по сладкому запаху понял, каким образом Чино решил проблему «самого прекрасного букета во всей Флоренции». Все столы и предметы обстановки, где только можно поставить вазу, пестрели яркими весенними цветами – тут были фрезии и гиацинты, наполнявшие воздух своим душным ароматом, дикие горные нарциссы и полевые анемоны, белые и лиловые фиалки с изгородей и крошечные дикие цикламены. Казанова смотрел на цветы с тем особым удовольствием, какое мы испытываем, даря другому то, чего не можем позволить себе, когда в комнату вошла Анриетта, одетая для выезда, в шляпе и с букетиком белых фиалок, приколотым к плащу.
У Казановы хватило ума поцеловать ей руку, не посягая на губы. Он был вознагражден подставленной для поцелуя гладкой щечкой и, не вызвав возмущения, проделал путь к ее рту, что, безусловно, было бы ему заказано, востребуй он его слишком уверенно. Во всяком случае, Цезарь, когда любимый легион принес ему немыслимую победу, не испытал большего подъема духа, чем Казанова от своей крошечной победы, – разведи такие сантименты кто угодно другой, он бы от души посмеялся.
– Какие цветы! – воскликнула Анриетта, отрываясь от него и не давая распалиться поцелуем. – Где вы их нашли? И такое множество! И такие красивые! Ваш странный знакомый, который их принес, сказал, что вы сами их выбирали. Он прочел мне стихи. Кто он?
– Брадобрей.
– Бра…? Вы шутите.
– Никоим образом, – сказал Казанова, не считая излишним воспользоваться случаем, чтобы превознести свою страну. – В Венеции гондольеры, во Флоренции брадобреи, в Риме любой прохожий способны процитировать стихи к случаю – кстати, это единственное, что цивилизованная Европа еще не украла у нас или не уничтожила. Вы же знаете, мы живем за счет того, что показываем людям наши руины, как иные бедняки показывают свои незаживающие раны…
Он невольно вышел за пределы намеченной темы и забыл о том, на какой ноте собирался играть.
– В ваших словах звучит горечь. Неужели Италия в таком плачевном состоянии?
– Не будем говорить об этом, главное, что вы – здесь, – сказал он с преувеличенной галантностью, стремясь перебросить мост через пропасть в чувствах, которую по ошибке сам вырыл. – Нам пора в путь, – добавил он, увлекая Анриетту к двери и понимая, что, повторив ставшую уже многовековой жалобу, лишил себя возможности выслушать до конца похвалу за роскошное подношение.
Поехали они во Фьезоле, а не в Кашине, что было еретическим нарушением традиции. У Чино там был друг – у этого поистине всеведущего человека были всюду полезные друзья, – в чьем саду Казанова и Анриетта нашли вино, и фрукты, и тишину под деревьями, а также великолепный вид на купола Флоренции и долину Арно, за которой гряда за грядою вздымались лиловые горы. В те времена еще не вошло в привычку ценить такие пейзажи; человеческий глаз еще не был достаточно наметан, чтобы видеть, а человеческая душа не была достаточно раскрыта для восприятия природной красоты мира. В противоположность людям нынешним, они ценили лишь то, за что заплачено, но не страдали манией разрушения всего, что не могли понять, на том лишь основании, что оно дает наслаждение вышестоящему. Чино предложил Казанове поехать в сад по той простой причине, что Казанова мог побыть там вдвоем с Анриеттой, не нарушая приличий восемнадцатого века. И хотя Анриетта преступила эти приличия, путешествуя по дорогам одна, без родственника-мужчины, да еще в мужском обличье, Казанова решил держаться с нею так, как если бы она только что вышла из кокона монастырской жизни.
Даже влюбленным девятнадцатого века требовались определенное настроение и условия для эстетического восприятия окружающего, а в такой период, когда страсть всецело владеет человеком, даже они могли предпочесть пейзажу любование друг другом. И Анриетта с Казановой, безусловно, так и поступили. К вину и фруктам на столе – а это были всего лишь груши, оставшиеся от прошлогоднего урожая, – они так и не притронулись, как и не услышали пения жаворонка на цветущей вишне у себя над головой. Казанова держал руку Анриетты в своей, другая ее рука – все еще в перчатке – лежала на его плече; отвернувшись от него, глядя вдаль, Анриетта слушала божественные глупости влюбленного. А он говорил, что глаза у нее – как звезды, а губы – как лепестки цветка; он говорил, что речь ее ласкает слух, как музыка, а прикосновение ее руки – волшебство. Он говорил, что никогда еще никого не любил и не полюбит. Он говорил, что бежал в Рим и посвятил себя служению богу от отчаяния – при мысли, что никогда больше не увидит ее. Он говорил, что, будучи философом, не может не видеть руки Провидения, или, выражаясь более философским языком, – неотвратимости судьбы в том, что он выглянул в Риме в окно в тот самый момент, когда она, проезжая мимо, сняла маску, чтобы стряхнуть с волос конфетти.
– Да, да, – согласилась она. – Но что же вы делали в той комнате наверху во время карнавала?
Вопрос был задан вполне простодушно и тем не менее, при всем простодушии, нанес сильный удар Казанове. Всего лишь утром, занимаясь всякими утопическими размышлениями, он дал себе слово никогда не врать Анриетте, а мысль о донне Джульетте с сегодняшнего утра не посещала его и была столь же от него далека, как если бы эта дама вообще никогда не существовала.
– Грехи мои привели меня туда, – более чем уклончиво ответил он. – И я импульсивно подошел к окну, чтобы закрыть ставни…
– Зачем?
– Наверное, затем, чтобы приглушить свет… и тут я увидел вас, любовь моя, и…
– Как же вы могли полюбить меня, когда видели лишь мельком, а потом – в дороге с этим идиотом-венгром, ну и, конечно, еще в постели в таком виде, будто я…
Казанова едва ли слышал, что она говорила, – в этот момент он делал глубокий вдох, наполняя легкие воздухом, напоенным весенними ароматами. Как-никак он сумел выпутаться из весьма сложного положения, не сказав правды, но и не нагромоздив излишней лжи. Он был глубоко благодарен Анриетте за то, что она не засыпала его вопросами. Что она такое говорит?..
– С венгром? – рассеянно повторил он. – Ах да, это тот идиот, хотя и довольно храбрый. Каким образом вы с ним познакомились?
Теперь уже Анриетте трудно было ответить на простой вопрос, заданный без всякой задней мысли.
– Через друзей в Риме, – ответила она после еле заметного промедления. – Разве я не говорила вам – он возит депеши, и родилась идея сделать его моим сопровождающим без того, чтобы он знал, кто я.
– Но разве вы не сказали, – заметил Казанова, усиленно пытаясь вспомнить, как оно было, – что депеши, которые он вез, куда важнее, чем он думал, и что вы отвечаете за то, чтобы он благополучно добрался до Флоренции?
– Неужели я так сказала? – Глаза у Анриетты были наивные. – Я, видимо, едва ли могу отвечать за то, что сказала тогда или вообще когда-либо во время того безумного путешествия. Сейчас оно представляется мне маловероятным сном, точно все происходило не со мной, а с кем-то другим…
– И мне тоже! – воскликнул Казанова. – Анриетта в военной форме – это же совсем другой человек, чем Анриетта в этом прелестном платье.
Он обнял ее за талию и уговорил прогуляться с ним под фруктовыми и оливковыми деревьями до стены, ограждавшей сад. Они остановились там, на старой террасе, сооруженной давно, быть может, не одно столетие тому назад, для какого-нибудь купца или мудреца из древней Флоренции, бежавшего от зловония и бунтов из большого города сюда, где воздух чист и глазу открывается широкий горизонт. День догорал, нагромождая на краю неба малиновые облака и все глубже погружая в фиолетовые сумерки город и долину, – это был час, описанный многими с бесконечным восторгом. Но для этих детей восемнадцатого века симфония из природных красок и теней едва ли существовала. Если на них как-то и влиял окружающий пейзаж, то лишь умиротворяюще – такое чувство нисходит на людей самых разных поколений с ежедневным угасанием земного света. По молчанию Анриетты и собственному ощущению Казанова понимал, что их жизни достигли кульминации. Как странно, думал он, что им нет надобности говорить что-либо друг другу – вполне достаточно того, что они вместе.
Он склонил к ней голову и увидел прямо перед собой ее лицо, которое она инстинктивно приподняла, – губы их встретились.
Неделя, а то и десять дней прошли в подобных прогулках, невинных и в то же время уединенных. Любому, знавшему Казанову в дни его побед, этот Казанова показался бы столь же противоестественным, как рыба, поселившаяся и спокойно живущая в ржаном поле. Не хватил ли его солнечный удар, что он довольствуется столь невинным времяпрепровождением в эти весенние дни, когда вся Тоскана в цвету, днем поют птицы, а ночью перекликаются, квакая, лягушки, и не требует ничего большего, кроме добрых взглядов, ласковых слов и поцелуев, по-сестрински нежных и вовсе не страстных? Получая письма от друзей из Венеции, он лишь пробегал их рассеянным взглядом – так человек, случайно заплывший на Острова Счастья, где люди живут вечно, мог бы читать пачку писем, дошедших до него из мира жестоких борений. Письма оставались без ответа. Его звал картежный стол, и Казанова впервые не откликался на зов этой сирены. Он считал, что стал другим человеком, и, все глубже погружаясь в атмосферу, когда сердце говорит сердцу, не отдавал себе отчета в том, что, так сказать, заново проходит проторенный путь эротики, получая удовольствие от того, что у него не хватало терпения – при избытке реализма – познать. Если бы кто-то посмеялся над ним – ему это было бы безразлично, что говорит о серьезности его намерений и о том, какое удовольствие он получал от новой для него ситуации.
В том, что Казанова на протяжении этого романа был более чем щедр – а таким он бывал всегда, – нет ничего удивительного, однако на сей раз он превзошел даже самого себя, засыпав Анриетту всевозможными подарками, новыми туалетами и цветами, невзирая на ее протесты, а порой и раздражение.
– Я ничего не могу с собой поделать, – как бы извиняясь, говорил он, и это была чистая правда.
Такова уж Немезида [73]73
Здесь – олицетворение судьбы; Немезида – древнегреческая богиня возмездия.
[Закрыть]убежденного материалиста, что он может выражать свои чувства лишь материально. «Однажды Данте готов был взять кисть и написать ангела…» А Казанова? Нет. Однако и он, принимая во внимание его темперамент и оковы возраста, познал в поцелуе бессмертие и, знай он, что может потерять весь мир, охотно расстался бы с ним ради Анриетты.
И кто же, как не Чино, добродушный Чино, который по суровому велению судьбы был чуть ли не сводником и потому оберегал свою честь даже в малом, – кто же, как не Чино, невольно положил конец самым сладостным дням в жизни Казановы или, вернее, извлек его из мира грез и идеальной любви и снова бросил в реку реальности. Чино, которому было поручено приготовить еще один пристойный и уединенный приют, где парочка могла бы играть до осени в Дафниса и Хлою [74]74
Дафнис – в греческих сказаниях прекрасный юный сицилийский пастух, погибший от безнадежной любви к Хлое.
[Закрыть], вдруг заартачился. Темперамент итальянца вскипел, голос зазвучал пронзительно и капризно, когда он принялся подсчитывать на пальцах, сколько невинных – да таких ли уж невинных? – с издевкой добавил он, – свиданий он, Чино, гражданин Флоренции, устроил им просто по дружбе (он забыл про дукаты), рискуя тем самым своей репутацией у соседей.
– Фьезоле, Галуццо, Ла-Ромола… – перечислял он своему патрону все дальние пригороды, не пропустив ни одного из названий, навеки окруженных теперь для Казановы ореолом. А затем, спустив Казанову с облаков в реальности земной любви, наивно добавил: – Почему бы синьору не найти синьоре красивый дом или апартамент… где они могли бы жить вместе, как христиане?!
Под выражением «come Cristiani» [75]75
«Как христиане» (ит.).
[Закрыть]эти вечные идолопоклонники-этруски подразумевали не людей, воспитанных в страхе божьем и слепо блюдущих таинства и десять раздражающих заповедей, а всего-навсего Платоновых бескрылых двуногих – Мужчину и Женщину.
Казанова уставился на Чино, как бывает, когда мы слышим мудрые слова из уст тех, кого неразумно считали менее знающими, чем мы сами. «А почему бы и нет?» – спросил себя Казанова, и вопрос, выскочивший у Чино в минуту раздражения, потому что он ничего больше не мог придумать, зазвучал в ушах Казановы с назойливостью кукования кукушки по весне. Его сопровождала мысль, словно вторая нота в пении дикой птицы: «Она никогда не ляжет с тобой в постель, если ты не вытащишь ее из этого дома». И это было, безусловно, так, ибо сами стены, где была дверь и по первому зову могла явиться служанка, становились для Анриетты своего рода святилищем, чему она, возможно, не так уж и радовалась. Но пока она живет в своей комнате, она будет считать, что должна – хоть и без особого удовольствия – спать одна. Казанова вдруг понял это, словно на него снизошло озарение. Какой же он был болван! Занимался пустяками – поцелуи, цветы, клятвы в верности, шепотом произнесенные на закате, молчаливые прогулки рука об руку под цветущими деревьями – вместо того, чтобы слиться с ней телом! Вот так, размышлял он, пожалуй, не столь мудро, как ему казалось, мужчины теряют женщину, которой отдали сердце.
С достойным подражания восторгом Казанова приступил к выполнению проекта Чино, а тот, нюхом чувствуя, какой он на этом получит куш, благословлял своего доброго гения за эту мысль и всячески подталкивал своего патрона к большим усилиям и экстравагантным тратам. Три дня ушло у Казановы на создание будущего райского гнездышка, чему деятельно помогали Чино и целая ватага флорентийских рабочих с бычьими шеями, подстегиваемых к непривычным для них усилиям бессчетным множеством бутылей кьянти и гирляндами сосисок, пахнущих чесноком. Честные души искренне раскаивались в том, что закончили (увы, слишком быстро!) работу для этого ненормального, которого так легко было обирать. Они попрощались с ним за руку и не очень, пожалуй, к месту пожелали, уходя, «приятного аппетита». Вслед за ними ушел и Чино, а Казанова, радостно опустившись в пышное кресло, с удовлетворением принялся обозревать плоды своих трудов и одновременно строить воздушные замки, еще более пышные, чем кресло.
Интересно – а может быть, поучительно и, быть может, страшновато – то, как быстро женщина, получив пусть даже в не освященное законом владение мужчину, столь досконально узнает его, что может сразу распознать, если он что-то утаивает. Тайн прошлого она может не знать, или не догадываться о них, или не хотеть их разгадать – ее практицизм отметает мертвый груз его жизни до нее, – но новую тайну она инстинктивно почует так же наверняка, как натасканный спаниель чует дичь. Три дня Анриетта не знала покоя, ее яркую мечту омрачали страхи – «что-то» случилось: она уже надоела ему, он что-то про нее узнал, появилась другая женщина, он никогда по-настоящему ее не любил, она недостаточно для него хороша и так далее – она без конца перебирала четки пугающих возможностей.
Поэтому Анриетта почувствовала облегчение, хоть и приготовилась к малоприятным и, быть может, даже тяжким испытаниям, – а она уже решила бороться за Казанову до последнего патрона в последнем батальоне, – когда он появился у нее и с необычной для него торжественностью и сдержанностью попросил поехать с ним. Куда? Он покажет куда. Зачем? Это скоро выяснится. Он недоволен ею? Он улыбнулся и с таинственным видом покачал головой, но не стал, как она надеялась и даже рассчитывала, пылко это отрицать.
«Вот и конец – и так скоро!» – горестно раздумывала она, жалея бедняжку Анриетту и всех несчастных женщин, которые раз и навсегда отдали свое сердце мужчине со стройными ногами и огнем в глазах. А она-то надеялась… Каких только надежд не питала! И после всего этого умереть девственницей! Однако в экипаже, который раскачивался, поскрипывая под цокот копыт, и то соединял их, то разъединял, как бы воспроизводя этой тривиальной символикой капризы Венеры, царили лишь ее опасения и страхи и его гнетущее молчание – вот только в глазах его появился новый блеск, предупреждавший, что все это неспроста. Они пересекли мост, за которым начиналась дорога к Римским воротам, и Анриетта решила, что худшие сомнения ее подтвердились, когда экипаж резко свернул со ставшей уже знакомой дороги, проехал по нескольким узким переулкам, обогнул несколько углов под хриплые «э-гой» кучера и внезапно резко остановился – как останавливаются, когда хотят что-то показать, – перед вполне современным и по тем понятиям модным зданием.
Анриетта посмотрела на Казанову, Казанова посмотрел на Анриетту. И просто сказал:
– Может быть, выйдем?
В глазах его, когда он произнес это, вспыхнул огонь, отчего Анриетте в ее волнении он показался похожим на сатира. Однако – но следует ли в том признаваться? – открытие, что в мужчине сидит зверь, скорее успокоило, чем испугало ее. «Обольститель превращается в насильника», – несколько драматизируя ситуацию, подумала она, и сердце ее усиленно забилось, как у новобранца, который, впервые услышав торжественный грохот орудий, знает, что пришел его черед.
– Мы приехали сюда в гости? – благосклонно спросила она.
– Если вы окажете мне честь, – ответил он чересчур, как ей показалось, официально, что так и было, ибо, волнуясь, человек всегда пережимает.
Он вышел через низкую дверцу кареты, которую открыл грум, и подал ей руку, помогая выйти через ту же дверцу так, чтобы на ее затейливые одежды не попало грязи, с чем она удачно справилась.
– Это ваши друзья живут здесь?
Вопрос был вполне естественный, но Казанова не ответил. Он быстро провел ее по наружной лестнице, сам открыл дверь – что ее поразило, – поднялся с ней по внутренней лестнице, отпер еще одну дверь, с поклоном пропустил ее вперед, и она очутилась в гостиной, которая ей понравилась, а затем в будуаре, о каком могла лишь мечтать. С самым серьезным видом Анриетта повернулась к Казанове за разъяснениями и увидела, что лицо его сияет улыбкой – так улыбается человек, который хочет или в крайнем случае надеется доставить удовольствие другому и одновременно самому себе. Никаких разъяснений, право же, не требовалось. Мрачный туман страхов, вызванных подозрением, что у него есть тайна, и в общем не таким уж и пугающим подозрением затеваемой им атаки на ее невинность, – мигом рассеялся.
– Вы приобрели это для нас, – сказала она, быстро повернувшись к нему; глаза ее сияли от удовольствия.
Никакое красноречие, никакая высокопарная поэтическая риторика не могли бы порадовать Казанову больше, чем эти простые слова, учитывая тон, каким они были произнесены, жесты, сияющие глаза и лицо. Вообще ведь язык влюбленных редко бывает красив или хоть в какой-то мере разумен, кроме как в литературе. Поэтический слой любви столь же тонок, как налет цивилизации у человечества.
Других слов Казанове и не хотелось слышать, а вот звук прелестнейшего в Италии голоса доставлял ему наслаждение. Ее слова сказали ему, что постылое терпеливое ожидание в приемных покоях Любви для него окончено. У Казановы не хватило ума пожалеть об этом или хотя бы отметить, что обычно колеблющееся пламя его желания обладать женщиной на сей раз горело не угасая. Ее слова сказали ему также, что она соглашается с задуманным, даже не дав себе насладиться уговорами поступить так, как ей самой хотелось. Возможно, боязнь, что «у него есть тайна, которую он скрывает от меня», подсказала ей, что даже самые уверенные в себе женщины-охотницы могут переиграть и упустить добычу. А кроме того, в ее жилах текла южная кровь.
Тем не менее для выражения чувств нужны – как бы они ни были бесполезны – слова.
– Вам здесь нравится? – спросил он, нетерпеливо ожидая ее похвалы.
– Так вот какая у вас была тайна, – сказала она, не отвечая на его вопрос, а выражая вслух свои мысли.
– Тайна? – несколько озадаченный, спросил он.
– Последние дни я была уверена, что вы что-то скрываете от меня.
Он весело рассмеялся, польщенный ее интересом к нему и не обратив внимания на то, что столь проницательное проникновение в его мысли может оказаться не слишком удобным в будущей жене, хотя, возможно, и неизбежным. Он сжал ее в объятиях, и какое-то время они снова обменивались лишь словами любви.
– Становится поздно, – наконец произнесла она хоть что-то разумное, мягко высвобождаясь из его объятий. – Мне пора возвращаться…
– Вам никуда не надо больше возвращаться, – перебил он ее.
– Нет? – произнесла она. – Но мои платья? И Ринальда?
Ринальду она наняла себе в услужение во Флоренции.
– Она сюда скоро явится, – сказал Казанова, взглянув на свои массивные швейцарские часы. – Чино привезет ее, как только она все упакует.
– Вы обо всем подумали, – сказала она и добавила: – Наберитесь со мной терпения. Я никогда раньше не жила с мужчиной.
– Как и я с женщиной! – заверил он ее.
– Что?! – Даже она, при всей своей любви к нему, не могла проглотить столь нелепое утверждение.
– Это правда, – возразил он. – Я спал с женщинами. Я находил места, где мог встречаться с женщинами и любить их. Но мне ни разу еще не хотелось делить с женщиной кров.
– Надеюсь, вам это не опостылеет, – сказала она несколько патетически, так что он внутренне съежился.
И он поцелуями задушил эту мысль и опасения Анриетты.
Подобно народам, которые, не имея истории, заранее считаются счастливыми, у отношений этой счастливой пары тоже не было истории – пока. Их жизнь могла бы показаться тем, кто никогда не знал любви или забыл это состояние мономании, либо бесцельной, либо монотонной – в зависимости от того, что человек выше ценит – деньги или пустяковые развлечения, именуемые удовольствиями. Казанова и Анриетта рано ложились и поздно вставали; они совершали прогулки и покупали забавные мелочи; они поведали друг другу все, что могли припомнить из своего детства и юности, а затем в своем желании раскрыть душу и развлечь собеседника припоминали, пожалуй, больше того, что с ними было; они задумывали самые разные торжества всякий раз в другом месте и, предпочитая общество друг друга любой компании, будь то люди знакомые или придуманные, считали отсутствие собеседников благословением, а не пробелом.
Они были идеально счастливы, и у их отношений не было истории.
Иной раз случайно оброненное слово напоминало Анриетте о невыполненном плане возвращения с помощью влиятельных старых друзей принадлежавших ей по праву владений – во всяком случае, так Казанова понимал ситуацию. Правда, он не мог понять, почему при упоминании об этом она сразу мрачнела и настораживалась. У него тоже была своя забота, забота более ощутимая и земная, – из тех, что рано или поздно нарушают мир и радость общения у девяти из десяти пар. У Казановы кончались деньги.
Эти два обстоятельства и положили начало истории их отношений, а история всегда полна ошибок и страданий, если не горя и преступлений.
Для человека шалого, следующего зову импульса с такой легкостью, от которой встали бы дыбом те несколько волосинок, что окружают лысину г-на Осмотрительного Денежного Мешка, Казанова обладал удивительным даром предвидения – или мы назовем это умением обходить провалы, почти неизбежно подстерегающие людей его типа? Он заключил сам с собою пакт: когда дело дойдет до последней сотни золотых, он выложит их на карточный стол и выиграет.
Так он и поступил – и проиграл.
Положение – по самым мягким оценкам – создавалось нелепое и могло оказаться роковым для идиллии. Однако Казанова взял себя в руки – у окружающих сложилось впечатление, что он вышел из игры из-за невезения, – пошутил, сунул в нос понюшку табаку и не спеша направился к выходу, рассмеявшись и бросив через плечо, что скоро вернется.
Ночной холод недобро встретил Казанову, когда он вышел на улицу из перегретых комнат, к тому же он не без содрогания понял, что его подстерегает еще одна беда. Шел дождь, а у него не было денег, чтобы нанять скромный экипаж. Он подумал об Анриетте – наверное, спит в их постели, но скорее всего не спит, а читает, дожидаясь его, или же не спит и просто думает о нем. Перед его мысленным взором возникло ее лицо и густые гроздья локонов на подушке, и он на мгновение остановился, думая о ней со смесью боли и такого острого счастья, что нипочем ему был даже холодный дождь, хлеставший в лицо.
Что же делать? Тут не было Брагадина, не было Марко, у которых можно было бы попросить денег или взять взаймы. Да и писать сенатору с просьбой о новом одолжении он едва ли мог, не отдав того, что занял ранее, и не ответив на многочисленные вопросы, адресованные оракулу «Ключа Соломона». Если не считать Чино, Казанова не знал во Флоренции ни единого человека, который одолжил бы ему хоть дукат, а у Чино он не хотел занимать – больше из самолюбия, чем по более высоким мотивам. Можно, конечно, дойти до дома, признаться во всем Анриетте, заложить один из ее бриллиантов и снова попытать счастья в игре…
Вот она, нужная идея! Обвязав шляпу носовым платком, он прошлепал под дождем к ростовщику, получил пять золотых флоринов за свои часы и поспешил назад, к игорному столу.
– Дождь идет, – заметил он в ответ на два-три удивленных и любопытных взгляда, – подожду, пока весь не выльется.
И стал ждать, внимательно, пристально следя за игрой; затем, словно наскучив самому себе и не выдержав уныния медленно тянущегося времени, бросил на стол золотой как бы наудачу, а на самом деле насторожившись и тщательно все просчитав. Выиграв десять золотых, он прекратил игру, написал Анриетте записку, что встретил друзей и дома будет поздно, – пусть не ждет его и спит. Записку он отдал слуге, присовокупив к ней немного денег и приказание доставить немедленно. Затем он вернулся к карточному столу и, сосредоточив все внимание на игре, забыл об остальном…
Серая заря вставала над древним городом, когда Казанова снова вышел на улицу из игорного дома. Дождь кончился, и бледные звезды в светлеющем небе обещали ясный солнечный день. Ничего этого Казанова не замечал. Вид у него был измученный, ноги от долгого сидения затекли и одеревенели, бока ломило. Хорошо бы сейчас развалиться в фельце гондолы и бесшумно плыть по тихой воде, перебирая в кармане свой выигрыш – двести с лишним флоринов! Но трястись в наемном экипаже, воняющем конюшней, по холодным улицам – нет, лучше пойти пешком.
Когда он подошел к площади, на которой они с Анриеттой жили, небо на востоке уже алело, а утренние птицы перекликались и ссорились. Открыв дверь, Казанова бесшумно вошел в спальню, намереваясь поцеловать спящую Анриетту, а затем подремать в кресле, пока она не проснется. Если он напугал ее неожиданным появлением, точно призрак, то и сам был не менее удивлен и смущен, увидев, что она сидит в ночной рубашке и пеньюаре возле догорающей свечи, бледная, с черными от бессонницы кругами под глазами. Но лишь только она поняла, что это он, – горестное выражение исчезло с ее лица, в нем снова заиграли краски жизни, и она бросилась в его объятия, сотрясаемая рыданиями.
– Мое сокровище! Душа моя! Моя обожаемая! – Казанова черпал и черпал из легко доступного кладезя итальянских ласковых слов, стремясь ее успокоить, но он в самом деле был бесконечно тронут ее ненаигранной, пусть даже и несколько обременительной, любовью. – Почему же ты не спала? Ты получила мою записку? Почему ты сидела и ждала меня? Ты мне не доверяешь? Или ты плохо себя чувствуешь?
Она покачала головой, не в силах с собою справиться, потом откинула голову и посмотрела на него сквозь слезы. В этом взгляде было что-то такое, от чего Казанове стало не по себе – не столько из-за угрызений совести, какие посещают гуляку-мужа, сколько от непонятного страха, вдруг словно бы передавшегося ему от нее. Стремясь успокоить и ее, и себя, он снова осыпал ее без труда приходящими на ум ласковыми словами, снова попытался оправдаться, ссылаясь на свою записку.






