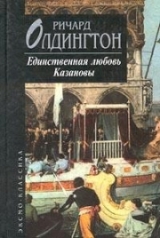
Текст книги "Единственная любовь Казановы"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
– И никаких удовольствий?
– Удовольствий?! Да, удовольствия есть, но нужно, чтобы было немножко опасно, чтобы пролилась кровь, чтобы мы стряхнули с себя апатию.
– Черт подери! – Брови у Казановы полезли вверх. – А ты изменился с тех пор, как мы виделись. Кто же она? А ну выкладывай. О, если ты не хочешь… Тогда какие новости в мире?
– Никаких, кроме тех, о которых ты читал в наших нудных газетах… до сих пор написанных от руки! Типично для нас, верно? Это в восемнадцатом-то веке газеты пишут от руки!
– Я полагаю, это один из способов выслеживать лжецов и пасквилянтов, – безразличным тоном заметил Казанова.
– Есть и одна секретная новость, – сказал Марко, понизив голос и оглядевшись, – отец слышал ее вчера в Совете, но он считает, что это пустой слух… Поступило сообщение, что готовится заговор с целью передать наши далматские крепости в руки австрийцев.
Казанова с недоверием воззрился на него.
– Как же это, черт подери, можно осуществить?
– Ну откуда, черт подери, я могу это знать? – в тон ему ответил Марко. – Я передаю тебе слухи.
– Если ничего лучшего ты рассказать не можешь, тогда послушай мои новости, – высокомерно произнес Казанова. Ему все труднее было держать в себе свою новость, и теперь, пригнувшись к Марко и понизив голос до конфиденциального шепота, он произнес: – Я наконец завладел ею!
– Ею? – недоуменно переспросил Марко. – Это кем же? Мариеттой?
– Мариеттой?! Пф! – фыркнул Казанова. – Нет, мой мальчик, ею, ею, единственной и несравненной, нимфой наводнения и автором лаконичных записок, подписанных «А»…
– А-а! – Марко наконец заинтересовался всерьез. – Ты все-таки ее нашел? Где же она? И кто она? Почему?..
– Хватит, – прервал его Казанова. – Она – француженка, ее зовут Анриетта, она любит меня и… – Он помолчал – для большего эффекта. – Она в Венеции.
– Черт подери! – в изумлении воскликнул Марко.
– Хочешь познакомиться с ней?
– Ты это серьезно?
Вместо ответа Казанова поднялся со стула, швырнул на столик несколько монет за вино, которое они едва пригубили, взял Марко под руку и повел к дожидавшейся их гондоле. Казанова что-то сказал гондольеру, чего Марко не расслышал, затем сел с ним в фельце и принялся беседовать – о чем угодно, кроме Анриетты, разжигая его любопытство и не отвечая ни на один из вопросов.
Они высадились на фондамента, и Казанова под руку с Марко направился к высоким, тесно стоящим домам, как вдруг дверь одного из них отворилась и из нее вышел мужчина. Он почти тотчас заметил Казанову, в мгновение ока опустил шляпу на глаза и, перебросив через плечо полу плаща, которая закрыла низ его лица, нырнул за угол, где его ждала гондола, которая сразу и отчалила. Казанова стоял, застыв на протяжении всего этого маленького эпизода, который занял не более тридцати секунд, в волнении он изо всей силы стиснул локоть Марко.
– Ой! – воскликнул Марко, стряхивая с себя его руку. – Ты своими дьявольскими пальцами, Джакомо, сломаешь мне локоть.
Казанова даже не извинился.
– Ты видел, кто это был? – спросил он, побелев от гнева. Марко кивнул, и губы его беззвучно произнесли:
– Фон Шаумбург.
– Какого черта он тут делал? – вспылил Казанова и зашагал к двери, таща за собой Марко.
Такова уж странная, но слишком часто встречающаяся у мужчин черта, что человек, который всего неделю назад униженно молил забыть о его неверности, сгорает от ярости, подозрений и ревности при одной мысли, что женщина может ответить ему тем же. Казанова готов был испепелить фон Шаумбурга и до бесконечности корить Анриетту. К счастью для обоих, тут был Марко, и Казанова вынужден был держать крышку котла закрытой, предоставив гневу еще немного покипеть. Марко же был не только очарован грацией и красотой молодой женщины, но и крайне огорчен следами слез на ее лице – обстоятельство, которого Казанова в своем возмущении не заметил.
Присутствие третьего лица хотя и предотвратило взрыв, но не рассеяло чувства скованности, возникшего, с одной стороны, из-за ревности Казановы, а с другой – из-за ощущения Анриетты, что что-то не так. Марко, стремясь положить конец неловкости, которую он тоже испытывал, хотя и не мог себе ее объяснить, решил выступить с предложением.
– Завтра у нас ежегодная церемония «Обручения с морем», синьора, – любезно сказал он Анриетте. – Вы должны непременно быть.
– Боюсь, что не смогу. Видите ли, мы ведь только что приехали…
– Но вам это не будет стоить никаких усилий – только сойти с фондамента в гондолу моего отца, – любезно продолжал Марко, – сам он будет завтра с дожем на «Бучинторо», а гондолу оставляет мне. Вы с Джакомо должны поехать со мной…
– Это очень любезно с вашей стороны, – поспешила перебить его Анриетта, все более и более смущаясь, – но я, право же, не смогу, это совершенно исключено…
– Что ты такое говоришь! – взорвался Казанова. – Конечно, мы поедем с тобой, Марко, и устроим пикник на воде, пока дож и его свита будут на Святой Елене.
– Но, Джакомо, я не хочу ехать…
– Ты сама не знаешь, чего ты лишаешься, – не отступался он и, обращаясь к Марко, добавил: – Конечно, мы поедем. Она устала после пути и сама не знает, что говорит.
Это было сказано так грубо, что глаза Анриетты наполнились слезами. Марко, конечно, все понял и мгновенно распрощался, предварительно условившись о часе, когда он за ними заедет.
Когда Казанова, мрачный и злой, как бывает со всеми мужчинами после того, как они были несправедливы к любимому существу, вернулся, проводив Марко до двери, Анриетта мягко сказала ему:
– Почему ты так настаивал на этой завтрашней поездке, Джакомо? Тебе придется за меня извиниться – я не поеду.
– Не поедешь?! – вскипел от раздражения Казанова. – А почему, собственно, хотел бы я знать? Твой отказ оскорбителен. Ты понятия не имеешь, кто такой Вальери: Марко – отпрыск одного из старейших венецианских родов. Он потом возьмет нас с собой посмотреть на большой банкет в Палаццо дожей…
– Но, Джакомо, представь на минуту, что я… по собственным соображениям… не хочу, чтобы меня видели в Венеции, я хочу быть только с тобой…
Лицо Казановы потемнело.
– По соображениям, связанным с фон Шаумбургом? – ехидно спросил он.
Анриетта не отвечала – лишь смотрела на него и все больше и больше бледнела, так что ему вдруг показалось – она сейчас лишится чувств. Испугавшись впечатления, какое произвели его слова, Казанова даже забыл о своей глупой ревности, но укрепился в своих подозрениях; протянув руки, он шагнул к Анриетте, чтобы ее поддержать. Но она жестом его отстранила.
– Что побудило тебя назвать это имя? – спросила она хриплым шепотом.
– Я видел, как он выходил из нашего дома, как раз когда мы подъехали. Что он тут делал наедине с тобой?
К щекам Анриетты вернулись краски, она поднялась с кресла, все еще слегка дрожа, и, подойдя к Казанове, положила руки ему на плечи.
– Ах, Джакомо, зачем ты пугаешь нас обоих домыслами! Да, посол был тут. Ты же знаешь, я рассказала тебе, почему я с ним знакома: моя матушка и… Он заходил лишь затем, чтобы сказать, что будет стараться мне помочь, но что я не должна больше с ним видеться. Ты сам знаешь, как ревниво относятся венецианские правители ко всем послам…
– Но ты же не венецианка, – поспешил вставить Казанова. – Я что-то не понимаю. Впрочем… – И лицо его осветилось чарующей улыбкой, – если ты обещаешь мне, что больше не будешь с ним видеться, все будет хорошо.
– Я и не хочу больше с ним видеться, – подчеркнуто произнесла она, – но как же глупо с твоей стороны забивать себе голову мыслями о человеке, который старше моей матушки.
Казанова и не заметил, что Анриетта не дала ему обещания, – он был уже вполне удовлетворен тем, что она явно не проявляла интереса к австрийцу, к тому же, если он способен помочь ей вернуть ее владения, Казанова не станет возражать.
– Не будем больше об этом, – сказал он, целуя ее, – завтра проведем весь день на воде с Марко. Ты об этом не пожалеешь…
– Прошу тебя, Джакомо!
– Это одно из величайших зрелищ на земле.
– Но я же прошу тебя, Джакомо: меня, право, не должны видеть здесь.
– Почему, черт подери? – насупился Джакомо, преисполненный решимости теперь уж не сдаваться. – Ты самая красивая женщина в Венеции. Так почему же нельзя на тебя смотреть? Из твоих слов можно заключить, будто ты совершила какое-то тайное преступление!
– Ну хорошо, я поеду, но при одном условии…
ты обещаешь мне, что мы покинем Венецию через два дня.
– Что?! Но тебе же хотелось побыть тут, ты говорила, что готова жить тут не один месяц…
– Но я получила… известие, которое побуждает меня уехать.
Они все еще препирались – Казанова настаивал, Анриетта уговаривала его согласиться, – когда часы в начале Калье-деи-Фаббри прозвонили полночь.
Тем не менее Казанова одержал верх и, невзирая на сопротивление Анриетты, препроводил ее на другое утро в красивую раззолоченную гондолу Вальери, когда она подошла к его дому. Уступая настоятельным просьбам Анриетты, он разрешил ей сесть в глубине фельце и смотреть на большое водное празднество из-под навеса. Зрелище, представшее ей, когда они достигли открытой лагуны напротив Палаццо дожей, было и в самом деле необыкновенным. Воды были усеяны раззолоченными галерами, баржами и гондолами, на которых развевались яркие разноцветные флаги и флажки. В этот момент дож, Франческо Лоренцо, потомок одного из древнейших венецианских родов, как раз садился на огромную парадную галеру «Бучинторо» вместе с патриархом Венецианским и прочими прелатами, правителями и всеми послами. Галера эта по любопытной иронии судьбы была последняя в ряду многих других, служивших до нее на этой стародавней церемонии, – она была намного больше и пышнее всех предыдущих, и огромный, красный с золотом, флаг Святого Марка развевался на ней.
Вся процессия медленно поплыла по гладким водам лагуны под кобальтово-синим венецианским небом к острову Святой Елены – «Бучинторо» шла во главе, а за нею следовало бесчисленное множество более мелких суденышек. На большой парадной галере находились трое адмиралов, а на веслах сидели сто шестьдесят наилучших гребцов из огромного арсенала Венеции. Когда «Бучинторо» пришвартовался к острову, дож сошел на берег и был встречен епископом замка, за чем последовала весьма причудливая церемония: дожу предложено было отведать каштанов, выпить красного вина и наградить присутствующих розовыми лепестками из большой серебряной чаши.
Все это Казанова и Марко описали Анриетте, катаясь вдоль острова, и Марко еще показал ей галеры и гондолы аристократов. Пока дож находился на берегу, они, как и все остальные, наскоро закусили, а затем последовали за «Бучинторо» в открытое море под громкие звуки музыки. В определенный момент патриарх благословил золотое кольцо, и дож бросил его в Адриатику с торжественными словами:
– Море, сим обручаю тебя в знак истинного и вечного правления тобой.
И тотчас с галеры грянула победная музыка.
Анриетта так увлеклась, наблюдая это своеобразное и блистательное зрелище, что совсем забыла о предосторожности и высунулась из фельце, чтобы ничего не упустить. В эту минуту обычная, нераззолоченная гондола проплыла мимо, и Казанова с замиранием сердца узнал среди трех пассажиров донну Джульетту, с превеликим любопытством разглядывавшую гондолу Вальери и ее пассажиров. У Казановы вырвалось восклицание – Анриетта вздрогнула и откинулась назад в фельце; правда, она не видела гондолы, как не видел ее и Марко, всецело поглощенный созерцанием церемонии.
Донна Джульетта ничем не показала, что узнала их, и гондола, выделявшаяся своей простотой среди регаты празднично разубранных судов, развернулась и быстро помчалась в направлении Лидо, а оттуда – в Венецию.
Казанова ничего не сказал об этом своим спутникам и не стал возражать, когда Марко предложил поехать в Лидо, вместо того чтобы сразу вернуться в Венецию. Он знает одного рыбака, сказал Марко, чья жена прекрасно готовит свежую рыбу, которую приносит ее муж – в особенности барабульку, – а Марко завез к ним хорошего вина, чтобы было что пить, когда он туда наезжает. Марко знал, что Казанова обожает такого рода неожиданные пиршества с простыми людьми, а Казанова был только рад принять предложение: ему хотелось выиграть немного времени, чтобы все обдумать.
Почему донна Джульетта вдруг оказалась в Венеции? Казанова невольно вспомнил, как ее слуга ходил за ними по пятам во Флоренции, а потом в Болонье. Неужели она сумела так быстро приехать следом за ними? А если да, то с какой целью? Если она задумала какую-то пакость, то вполне могла натравить на него своих головорезов во Флоренции или по дороге. Подобно многим людям, Казанова чувствовал себя в большей безопасности в своих краях, чем в чужих, хоть и любил странствовать. В конце концов, сказал он себе, донна Джульетта в Венеции – человек чужой, а он как-никак гражданин этой республики. Хотя донна Джульетта и аристократка, но она поехала на церемонию «Бучинторо» в обычной гондоле, а он – в парадной гондоле патриция…
Словом, решил Казанова, никакая конкретная опасность не грозит, но он все же решил – предосторожности ради – тотчас оповестить свою «тайную полицию», как он именовал гондольеров, официантов из кафе, своего брадобрея и двух-трех смекалистых мальчишек, чтобы они наблюдали за всеми передвижениями донны Джульетты. Всем вместе им, возможно, удастся выяснить, что она делает в Венеции, кто ей протежирует, кто ее любовник – если таковой имеется – и продолжает ли она злиться на него, великого Казанову.
И вот, когда гондола вернулась ко входу в Большой канал и день, проведенный на воде, казалось, развлек и успокоил Анриетту, Казанова вдруг попросил, чтобы его высадили у столбов Пьяцетты.
– Мне надо кое-кого повидать, – небрежно бросил он, – а потом я должен заглянуть на полчаса к сенатору. Знаешь, – продолжал он, обращаясь к Анриетте, – я считаю Брагадина самым верным мне другом, а поскольку он сенатор, то обычно может вытащить меня из мелких неприятностей с властями. Так что надо мне уважать старика и уделять ему немного времени. Пусть Марко отвезет тебя в казино, Анриетта, а я через два-три часа присоединюсь к тебе. Спасибо за прекрасный день, Марко, – бросил он уже через плечо и ступил на берег, а гондола отчалила.
Несколько минут он последил за ней взглядом, затем повернулся и хотел было направиться по своим делам, когда его остановил вежливый оклик:
– Джакомо Казанова?
– Он самый.
– Потрудитесь, пожалуйста, следовать за мной.
– И куда же это, будьте любезны? – высокомерно спросил Казанова, выпрямляясь во весь рост.
– В тюрьму. Вы арестованы, – сказал мужчина уже тоном резкой команды и подал знак двум другим, которые тотчас подошли к арестованному.
Сердце у Казановы на секунду остановилось, и кровь застыла в жилах. Однако, призвав на помощь все свое мужество, он спросил с внешним надменным видом:
– По чьему же это приказу?
– По моему, – раздался голос рядом.
Казанова посмотрел в направлении голоса и чуть не лишился чувств, увидев перед собой мессера гранде, главного из трех инквизиторов Венецианской республики.
ЧАСТЬ III
Bona sera ai vivi,
E riposo ai poveri pnorti,
Bon viaggio ai noveganti
E bon note ai tuti quanti.
Доброго вечера всем живущим,
Мира и покоя всем умершим,
Доброго плаванья морякам,
Всем доброй ночи и сладкого сна.
Старинная молитва венецианских детей
1
Человек, который в мгновение ока переходит из счастливого состояния в бедственное, от свободы к плену, – причем оказывается в руках самого тайного, безжалостного и скорого на решение трибунала, какой когда-либо существовал на земле, – такой человек легко впадает в отчаяние и неосторожностью слов и горячностью поведения может превратить тяжелую ситуацию в безнадежную. Весь ужас положения, в какое попал Казанова, ледяными иглами пронзил его, но он огромным усилием воли вернул себе самообладание и не стал оказывать сопротивление. А секунду спустя увидел, сколь тщетна была бы любая вспышка гнева, ибо мессера гранде сопровождали, по крайней мере, сорок сбиров. Собственно, Казанова попал прямо в гущу волчьей стаи, ибо инквизитор как раз собирался разослать своих людей группами на розыски Казановы, и три полицейские гондолы были пришвартованы поблизости. Да одна из них уже и двинулась за гондолой Вальери, но, судя по тому, как сразу снизила скорость, а затем свернула в боковой канал, Казанова понял, что сидевшие в ней видели, как его арестовали. В любом случае, уныло подумал он, если Триумвират вздумал арестовать и его друзей, много времени на это не потребуется.
Казанова о многом догадался, а многое увидел поверх голов своих тюремщиков, пока его вели в тюрьму. Арест был произведен так тихо и спокойно, что люди, проходившие мимо всего в нескольких ярдах от них, понятия не имели, что происходит нечто необычное. Вообще-то инквизиторы производили аресты почти всегда ночью, а сейчас это произошло средь бела дня, потому что человек, за которым они охотились, сам пришел в расставленные сети – обстоятельство, естественно, говорившее скорее в его пользу, чем против него.
Венецианские государственные тюрьмы (прославленные или бесславные Пьомби – иначе: Свинцовая тюрьма и Поцци, или Колодцы) примыкали ко Дворцу дожей, находившемуся прямо перед ними, но частично из-за своеобразной трудности входа в дома в городе, где каналы заменяют улицы, а частично из-за установившейся с незапамятных времен традиции Казанову посадили в гондолу и торжественно провезли несколько десятков ярдов до набережной у тюрьмы. Поднявшись по нескольким ступеням, он пересек узенький Рио-ди-Палаццо по высокому крытому мосту, известному поколениям путешественников под названием моста Вздохов. Казанову провели по галерее, затем через одну залу – в другую, где сидел венецианский патриций. Это был Доминик Кавалли, секретарь инквизиции, который произнес лишь:
– Заприте его понадежнее.
И, по мнению Казановы, усугубил свой оскорбительный приказ, произнеся его на тосканском диалекте, а не на венецианском.
Казанову не сразу поместили в камеру; после недолгого ожидания его повели по лестницам вниз, в подземный зал, соседствующий с комнатой пыток, где он предстал перед страшным Триумвиратом – трибуналом, заседавшим без адвокатов и принимавшим решения без права апелляции – его члены были одновременно и прокурорами и судьями. В центре сидел человек, назначаемый самим дожем и одетый во все красное; двое других представляли Совет десяти и были в черном. Для большего впечатления стражники, приведшие Казанову, тотчас потушили свои факелы, как только судьи опознали его, и теперь единственным освещением служили две жалких свечи на столе у секретаря да зловещее красное зарево, проникавшее сквозь полуоткрытую дверь из комнаты пыток. Там явно находилось что-то вроде кузни с мехами, ибо время от времени пламя раздували, и оно начинало реветь, а потом постепенно угасало, так что суд шел при этом изменчивом красном свете.
Человека, который, заметив такие несомненные признаки готовящихся пыток, не побелел бы, едва ли можно назвать человеком. Казанова чувствовал себя не лучше любого другого неудачника, который оказался бы в подобном положении; единственным его утешением была хрупкая и ненадежная защита слабого – то, что он невиновен. Он ведь не имел ни малейшего представления, какое обвинение ему могут предъявить, и лишь когда мессер гранде начал официальный допрос, попросив его назваться, в мозгу Казановы возникла мысль, что, по всей вероятности – нет, не по вероятности, а безусловно так, – донесла на него донна Джульетта. Но у него не было времени размышлять об этой мерзейшей форме мести, какую может замыслить женщина, ибо надо было со всем вниманием слушать обращенные к нему вопросы и отвечать на них.
Казанова сказал себе, что единственно возможная для него защита, единственный шанс избежать пыток и смерти или длительного заключения – это отвечать как можно более откровенно и правдиво. Он пытался внушить себе, что Венецианская республика славится своими превосходными законами и непорочностью своих судей – собственно, сам Казанова частенько говорил так иностранцам, – но сейчас он понял, что это звучит куда убедительнее вне стен инквизиции, чем внутри их. Первый ряд вопросов о родителях, воспитании, привычках и отсутствии – скорее, чем наличии, – постоянных занятий, о друзьях и тому подобном был сравнительно безобиден и не представлял трудности для ответа. Казанова никак не мог понять, что Триумвират пытается установить.
Однако вскоре он это обнаружил, когда вопросы приняли иной характер и у него стали пытаться выудить признание, что он недоволен порядками, что у него нет ни почтенной профессии, ни специальности, что он просто авантюрист. Это была чистая правда или почти правда, на что Казанова ничего не мог возразить, но он начал проклинать себя за чрезмерную свободу речи, когда ему стали приводить одно за другим его высказывания, из которых получалось, что он куда более отчаянный, бессовестный и строгий критик общества, чем на самом деле. Фразы, сказанные в шутку в кафе, замечания, произнесенные за бутылкой, которую можно было бы уже и не пить (а чрезмерные возлияния портят не одну вечеринку), даже то, что он говорил женщинам, – все это явно собиралось и докладывалось полицейскими шпиками не один год и, по-видимому, уже давно было известно трибуналу, ибо такой материал за день или два не соберешь. Но ожидало Казанову и нечто похуже.
Теперь стали приводить его высказывания, которые, казалось, показывали, что Казанова был не только сомнительным, безответственным и вздорным членом общества, но и человеком политически неблагонадежным, готовым совершить любой нелояльный и непатриотичный поступок либо за деньги, либо, чтобы нанести ущерб государству, ради собственной выгоды. Это, как, несомненно, сразу понял Казанова, было одним из самых опасных обвинений, какие могли быть выдвинуты против венецианца, и он проклял себя за неосторожность, с какой острил и принижал Венецию в разговорах с донной Джульеттой, – все его высказывания были приведены verbatim [80]80
Дословно (лат.).
[Закрыть]в письменном виде. Так вот чем занималась донна Джульетта с тех пор, как уехала из Флоренции «в Болонью», – надо было ему все-таки прислушаться к тому, что собирался рассказать Чино, а не высмеивать его и его приятеля, назвавшихся «сведущими людьми»! Сейчас, однако, было уже слишком поздно.
Инквизиторы бесстрастно слушали Казанову, пылко все отрицавшего и пытавшегося объяснить, оправдать, извинить то, что отрицать было невозможно. Как раз в этот момент мерзавец или мерзавцы, приставленные к мехам в комнате пыток, раздули огонь, и он осветил помещение грозным красным пламенем, – Казанова увидел, как его клеймят, обрекая до конца жизни грести на галерах… Но что это говорит мессер гранде?
– Вы покинули Венецию несколько месяцев тому назад, Казанова?
– Да.
– Втайне и весьма поспешно?
– Да.
– Почему?
Вопрос был, безусловно, самый обычный, и задан он был спокойным тоном, но Казанова на миг растерялся. Затем, вновь обретя самообладание и заранее извинившись, что будет многоречив, рассказал им историю с Мариеттой, второй или третьей. В пересказе это звучало глупо, в немалой мере подло и мерзко, но в тот момент Казанова предпочитал выглядеть мерзавцем, но только не политическим интриганом. Инквизиторы пошептались и затем спросили его про Розауру. Казанова внутренне ругнулся – его грехи вечно всплывали на поверхность в самую неподходящую минуту, – но утешился, подумав, что в конце концов никакого политического умысла нет в том, чтобы любить женщин. Его рассказ, которому он постарался придать как можно более идиллическую окраску, прервал холодный вопрос:
– А откуда вы брали на все это деньги?
Он сказал, и его попросили продолжать рассказ. От следующего вопроса он весь похолодел. Его спросили:
– Как давно вы знаете барона фон Шаумбурга?
Инквизиторов, казалось, крайне интересовал этот достойный дипломат, хотя они и были хорошо осведомлены о всех его передвижениях. Они, конечно, знали историю с перевернувшейся возле дворца Брагадина гондолой – это дело они уже рассматривали – и знали о встрече Казановы с Шаумбургом. Рассказ про то, как фон Шаумбург заманил к себе Казанову с помощью негритенка, они восприняли с холодным недоверием. Но помимо этих, действительно имевших место встреч, у них, казалось, было подробное описание третьей, наиболее компрометирующей встречи с бароном, которая состоялась в полнейшей тайне всего за два вечера до того, как Казанова выехал в Рим.
Отрицание Казановы было встречено все с тем же бесстрастным спокойствием, которое стало казаться ему куда более пугающим, чем прямая враждебность, а затем Казанову попросили дать объяснение по поводу этого якобы состоявшегося разговора с бароном, изложенного с такими подробностями и с таким вероломством, что Казанова сразу узнал руку и злокозненность донны Джульетты… Призвав на помощь все свое мужество, он попросил трибунал о снисхождении и, хотя имя донны Джульетты дотоле ни разу не упоминалось, дал точный отчет об их взаимоотношениях. У него хватило ума не говорить против нее и не намекать, что это она, по его мнению, выдала его, – он лишь показал, что это его враг, и рассказал о ее связи с австрийским послом в Риме, о чем она ему говорила.
Его спросили, как имя женщины, ради которой он бросил донну Джульетту, но он попросил разрешения не раскрывать эту любовную тайну. Инквизиторы не стали настаивать, однако мессер гранде сказал секретарю:
– Запиши, что он отказывается назвать имя женщины.
– Ее зовут Анна д’Арси, она француженка, – тотчас сказал Казанова.
Это было записано, а затем начались долгие расспросы, цели которых Казанова, уже и так измученный допросами, длившимися добрых три часа, к своему изумлению и отчаянию, никак не мог понять. Они были связаны с городами и крепостями, которые имела Венеция в Далмации и Албании. Бывал ли он в них? Кого он там знает? С кем он говорил о них? И так далее и так далее – без конца. В этой части допроса Казанова проявил поистине поразительное невежество и незнание этих важных аванпостов Венецианского государства, и его явная растерянность и непонимание, какое он имеет отношение ко всему этому, были вполне очевидны Триумвирату. Инквизиторы задали ему несколько вопросов об Анриетте, но весьма поверхностных, и он легко их парировал, а затем спросили, почему он вернулся в Венецию. Наконец, после более чем четырехчасового допроса дознание было окончено без применения пыток, или «вопросов», как это именовалось. И Казанова был бесконечно благодарен за это.
Теперь его повели назад, на верхний этаж, и официально передали тюремщику, который отвел его на злополучный чердак под тюремной свинцовой крышей и запер в камере размером в двенадцать квадратных футов и менее шести футов высотой, с нишей для постели и без всякой обстановки, если не считать ведра, а также без окна – лишь над дверью была зарешеченная отдушина. Произнеся по глупости несколько саркастических слов по поводу тюремщика и отказавшись от еды, Казанова услышал, как за ним захлопнулась дверь, и он остался в одиночестве до зари следующего утра. Тогда ему разрешили заказать суп, вареную говядину, жаркое, хлеб, вино и воду (за все это он заплатил) и послать за своей одеждой, а также получить постель, стол, стул и прочие предметы. Ему запрещено было иметь книги, бумагу, перья, зеркало и бритву – разрешили лишь два увесистых тома благочестивого характера. Затем до его сведения довели, что власти выделяют ему пятьдесят венецианских сольди в день на пропитание, чего было более чем достаточно.
Странно как-то, что Казанова не сразу понял, сколь мудро и необходимо завязать дружбу со своим тюремщиком Лоренцо. Но он был повергнут в такое уныние столь внезапным и неприятным прекращением своей привольной жизни, что плохо соображал. Он жестоко страдал от солнца, накалявшего камеру, и был так расстроен свалившейся на него бедой и сражен своей участью, что две недели у него не было стула и он заболел – поднялась температура, он лежал в постели и, грустно размышляя над своей судьбой и судьбой, возможно, постигшей Марко и Анриетту, жаждал смерти.
А тюремщик Лоренцо был не таким уж скверным малым, как показалось Казанове, ибо все да и всё, связанное с его заключением, естественно, представлялись Казанове в самых мрачных и неприятных тонах. Так или иначе, как только Лоренцо заметил, что Казанова не притрагивается к еде, он осведомился, здоров ли узник, и, хотя Казанова ироническим тоном утверждал, что находится в превосходном состоянии, Лоренцо привел врача, который дал больному лекарство, а также снабдил менее нудной книгой.
Злосчастные дни тянулись бесконечно долго, усугубляемые неуверенностью, ибо приговор Казанове вынесен не был и он находился в государстве, которое никогда не слыхало о Habeas corpus [81]81
Название закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 г. (по первым словам текста). По этому закону никто без решения суда не мог подвергнуть кого-либо задержанию или аресту.
[Закрыть]. Таким образом, его могли держать в тюрьме столько, сколько заблагорассудится инквизиторам, и могли казнить публично или втайне, и никто при этом не имел ни права, ни власти потребовать расследования. Казанова делал свое положение еще невыносимее, живя надеждой и ожиданием, что его вот-вот выпустят. «Завтра я буду свободен», – каждый вечер говорил он себе, и каждый новый день приносил ему разочарование. Одиночество, тревога за Анриетту и Марко и постоянное разочарование, ибо его все не выпускали, начали сказываться на состоянии духа Казановы. Единственным облегчением в ближайшие месяцы было то, что он в известной мере сдружился с Лоренцо, которому каждый месяц отдавал деньги, остававшиеся от суммы, выделенной ему на еду, а также то, что какое-то время камеру с ним делили двое других узников. Хоть это и были негодяи, но все же люди, и он мог с ними поговорить.
Первый лучик надежды появился в день Нового года. Лоренцо подарил ему меховую накидку, ибо зимой в Пьомби было так же холодно, как жарко летом. Но больше всего растрогал Казанову рассказ Лоренцо о том, что старик Брагадин ходил к инквизиторам и на коленях, со слезами умолял разрешить ему помочь «дорогому Джакомо» и что эти трое неумолимых позволили Брагадину посылать Казанове шесть золотых цехинов в месяц, а также все книги и газеты, какие он пожелает.
Послабление режима временно пробудило у Казановы надежды – ему даже разрешили прогулки по более просторной темнице, и там он обнаружил железный прут и точильный камень. С присущим узникам невообразимым оптимизмом он тотчас решил устроить побег и со свойственным им невероятным и жалким упорством начал обтачивать прут. У Казановы ушла целая неделя на то, чтобы его заострить – к концу этого времени правая рука у него еле сгибалась, а волдыри на ладони образовали большой струп. Он задумал пробить дыру в полу своей камеры и выбраться в нижнее помещение, а оттуда бежать через залы, открытые для публики. Это был безумно смелый план, но по крайней мере у Казановы появилось о чем думать и на что надеяться. Ему пришлось пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы разжиться таким пустяком, как масляная лампа с фитилем, а также кремнем и трутом, чтобы высекать огонь. Лампу он решил соорудить из миски; затем уговорил Лоренцо купить ему лучшего оливкового масла из Лукки для салата; фитиль он сделал из ваты, которую выдернул из щелей отдушины, затем ухитрился выпросить у тюремщика три-четыре маленьких кремня, а из наплечников своего камзола добыл трут. Затем сделал вид, что заболел, и улегся в постель, чтобы все эти предметы не были у него обнаружены.






