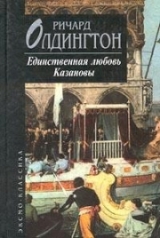
Текст книги "Единственная любовь Казановы"
Автор книги: Ричард Олдингтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– О-о! – Анриетта, будучи консервативной, как все женщины, была потрясена даже мыслью о подобных катаклизмических переменах. – Но Венеция просуществовала почти тысячу лет, а Австрия – величайшая в мире военная держава!
– Я этого не оспариваю, – не отступал Казанова, – но могу держать пари: человеческая природа переживет обеих…
– Ну, я тоже не стану это оспаривать, – сказала Анриетта, – но не теряем ли мы бесценное время, Джакомо… для меня не менее ценное, чем капли крови! Предположим, я уступлю тебе и стану целиком твоей, и соглашусь уехать с тобой – на сей раз уже без расставаний, – ты что же, забыл, какие опасности грозят нам со стороны двух правительств, которых ты так легко уничтожил в мифическом будущем? И куда мы поедем? Где мы будем жить? На что будем жить? А главное – где и как нам спастись от возмездия со стороны правителей, которых мы оскорбим своим дезертирством?
Это была отрезвляющая мысль или мысли, и Казанове пришлось вернуться в реальность настоящего.
– Ты права, – сказал он. – Мессер гранде грозил мне именно такой карой, если я изменю и не выполню своей миссии. Мы должны быть очень осторожны. Рука у Венеции длинная.
– Хм! – презрительно хмыкнула Анриетта. – И в половину не такая длинная и в десять раз менее могущественная, чем рука Австрии, – вот чего мы должны больше всего опасаться.
– Ну, не будем об этом спорить, – сказал Казанова, пораженный ее убежденностью и оскорбленный в своем местническом патриотизме при мысли, что какая-либо держава может иметь более могущественную и мстительную тайную полицию, чем Венеция. – Вот что я предлагаю. Сегодняшнюю ночь проведем здесь, а завтра переберемся в мою гостиницу – она милях в семи или восьми отсюда. У меня там очень славная комната, записанная за мной и оплаченная до четверга, и люди там учтивые. Мы проведем там два-три дня, а потом решим, куда ехать, хотя я лично предложил бы Париж. Мы могли бы сесть на корабль в Генуе и доехать до Марселя…
– Ты это серьезно? недоверчиво спросила она.
– То есть? – переспросил Казанова, глядя на нее в упор. – Конечно, серьезно. А что плохого в таком плане?
– Ах, Джакомо, Джакомо! Я думала, ты все знаешь, а есть, по крайней мере, одно обстоятельство – самое для нас важное, – о котором ты явно ничего не знаешь. – Вид у нее был удрученный, и она сидела, покачивая головой, как обычно делают люди, пытаясь найти выход из сложного, затруднительного положения.
– О чем я не знаю? – весьма оскорбленным тоном спросил Казанова.
– О могуществе и мстительности Священной Римской империи. О необычайно разветвленной сети ее многочисленной тайной полиции дома и за границей. Почему, ты думаешь, я была так хорошо осведомлена о тебе? Да просто потому, что могла пользоваться информацией австрийской тайной полиции в Италии, которая стала следить за тобой с того момента, как ты соприкоснулся с Шаумбургом. Каким образом, ты полагаешь, я могла послать тебе записку в тот погребок в Риме или как я могла знать о твоих отношениях с донной Джульеттой?
– Это она донесла на меня государственным инквизиторам? – чуть ли не робко спросил Казанова, положительно сокрушенный ее осведомленностью…
– Донна Джульетта? – Анриетта была явно удивлена его вопросом. – Что заставляет тебя так думать?
– Лишь то, что ее гондола обогнала нашу во время праздника обручения с морем, и я уверен, что она узнала меня, а может быть, и тебя.
– Я понятия об этом не имела! – воскликнула Анриетта, искренне удивленная. – Я полагала, что…
– А-а… – возликовав, прервал ее Казанова, – значит, существуют вещи, неизвестные даже распрекрасной австрийской тайной полиции!
– Я не сомневаюсь, что они об этом знали, – возразила Анриетта, – но не сочли нужным мне говорить. Похоже, что уже тогда я была у них под подозрением.
– По всей вероятности, с тех пор, как ты присоединилась ко мне во Флоренции, – вскользь заметил Казанова, – но это никак не влияет на наши планы, верно?
– Если мы оба станем более осторожными, значит, уже существенно повлияет. Особенно на тебя. Послушай, Джакомо. Тайная полиция, чью роль я хочу чтобы ты понимал и остерегался ее, конечно же, не всеведуща. Она наблюдает лишь за теми, за кем ей велено наблюдать, и я принадлежу к числу тех, за кем она наблюдает и кто наблюдает сам, – я полагаю, все агенты в таком положении. В этих зашифрованных инструкциях, которые ты теребишь, точно собираешься порвать, содержатся точные указания, что я должна делать, и не менее точное расписание моих действий. Каждый день я выезжаю из одного места и приезжаю в другое, и каждый день об этих моих передвижениях докладывается. Если я не прибуду в определенное место, об этом будет тотчас доложено и будет мгновенно поднята тревога с требованием выяснить, что случилось со мной. Если я убита или схвачена венецианской инквизицией – значит, мой недосмотр, и меня просто спишут со счетов. Но если я по собственным соображениям брошу свою миссию…
Она умолкла, и Казанова, внимательно и с большим интересом слушавший ее, нетерпеливо произнес:
– Да, ну и что тогда? Они же ничего не смогут сделать тебе во Франции.
– Я не так в этом уверена. Я бы предпочла поехать в Англию. Не забудь, что формально я все еще француженка. Но прежде всего наибольшая опасность подстерегает нас в пути.
Казанове нечего было на это возразить – он прекрасно знал, что это за «опасность».
– Ты совершил один весьма разумный поступок… – начала Анриетта.
– Я счастлив, что совершил хотя бы один! – воскликнул Казанова.
– Перестань паясничать – на это нет времени, – сказала она и, когда он попытался поцеловать ее руку, уже более настоятельно добавила:. – И на флирт тоже. Если ты так же искренне, как и я, считаешь, что мы должны быть вместе…
– Если?! – воскликнул Казанова, уязвленный тем, что она в нем сомневается.
– Ну, в таком случае нам нельзя терять время – мы уже достаточно потеряли его на болтовню…
– Но нам всегда надо столько друг другу сказать…
– Не сейчас, – прервала она его. – Если мы не хотим, чтобы кому-то из нас – а то и обоим – уже навеки пришлось бы замолчать, нам надо расстаться…
– Нет, нет, – запротестовал он. – До сих пор так уж складывалась судьба, что наша любовь протекала урывками, в случайных встречах и скорых расставаниях. Даже Флоренция пролетела молниеносно, как вспышка…
– Театральная вспышка? – с улыбкой переспросила Анриетта, и Казанова покраснел бы, если б мог, услышав этот намек на Мариетту. – Я скажу тебе, почему мы должны расстаться. Хозяин здешней гостиницы, безусловно, агент, иначе Шаумбург не назначил бы мне здесь встречу. В его обязанности входит сообщить, когда я отсюда уеду и в каком направлении, так что я должна уехать в определенное время и в определенном направлении – одна. Это даст мне форы в один, а то и в два дня.
– А как же я? – спросил крайне расстроенный Казанова. – Куда мне ехать? И где мы встретимся?
– Ты знаешь в Женеве «Гостиницу Белого льва»?
– Нет, но смогу ее найти, – слегка надувшись, отвечал он. – Но, Анриетта, неужели ты не разрешишь мне провести с тобой ночь?
– Нет, если только ты не ставишь возможность переспать с женщиной выше возможности того, чтобы мы оба стали…
– Ах, но речь идет ведь не о какой-то женщине, а о тебе! – сказал Казанова и на сей раз изловчился ее поцеловать.
– Не надо нежностей! – Анриетта оттолкнула его. – Это слишком опасно. Немедленно выбирайся отсюда, причем как можно тише, и следуй в Женеву через Милан и Симплонский перевал. Если ты прибудешь туда первым – жди меня…
– Мне что же, и в свою гостиницу не заезжать за вещами?
– Лучше бросить их там. А лошадь отвяжи и приоткрой ворота во двор, тогда жена хозяина сможет сказать мужу, что это заблудшая лошадь.
– Но мне необходимо вернуться в гостиницу. Там все мои деньги.
– Возьми половину этих. – Анриетта указала на мешочки, оставленные Шаумбургом. Казанова усмехнулся.
– Не возражаю их взять, но я считал, что тобой движут побуждения высочайшего порядка…
– Это более чем скромное вознаграждение за владения моей матушки, – спокойно произнесла Анриетта.
– А-а. Вот этого мне не следовало говорить, но коль скоро это лишь «скромное вознаграждение», тем более надо взять деньги, которые я без зазрения совести отобрал у венецианцев.
– Это опасно… – начала было Анриетта.
– Будет куда опаснее, если у нас не хватит денег, – возразил Казанова, – и я долго не задержусь. Собственно, я двинусь в путь почти одновременно с тобой…
– Как же ты намерен действовать?
– Возьму этого заморыша, скажу, что потерялся, а заморыш потерял подкову, – словом, оба мы упали. А на заре выеду в Милан.
Анриетта поднялась.
– Что ж, – сказала она, – если ты принял такое решение, немедля пускайся в путь. Мы не скажем друг другу «прощай», – скажем: «Arivederci».
Он схватил ее в объятия, прижал к себе и принялся целовать в губы, в щеки, чувствуя, что они мокрые от слез.
– Теперь тебе уже пора, – прошептала она, мягко пытаясь высвободиться из его рук.
– Позволь мне еще немного побыть с тобой, – взмолился он.
– Нет!
– Хотя бы час.
– Нет!
– Ну, один только раз, всего один раз… мы же так давно… Если она и повторила: «Нет», – Казанова этого уже не слышал.
7
«Авантюры – для авантюриста», – несколько мрачно процитировал сам себя Казанова, глядя в трясущееся боковое окошко своей почтовой кареты на долину Ломбардии, казавшуюся огромной цистерной, наполненной мокрым белым туманом. Даже с почтальонами, которые знали эту дорогу лучше катехизиса, путешествие в Милан в таком густом тумане требовало времени.
Задержки не слишком тревожили Казанову – его лишь раздражало то, что теряется время на самом легком отрезке в ту пору долгого, трудного и даже опасного пути в Женеву. Хотя Анриетта и сдалась на его поцелуи в маленькой комнатке старой гостиницы у подножия Стельвио, она не потеряла над собой власти и продолжала думать о плане их бегства и встречи в Женеве. Она положила десять дней на то, чтобы им обоим добраться туда, – следовательно, встреча была назначена на двадцать шестое число того же месяца.
– Неважно, если на этот раз ты приедешь раньше, – с улыбкой сказала Казанове Анриетта, намекая на глупую историю, в которой он запутался при их предшествующей встрече во Флоренции, – но главное – не опаздывай.
Она настоятельно повторила это предупреждение, ибо Казанова, казалось, думал – стоит им добраться до Женевы, и уже нечего будет опасаться; Анриетта же твердо верила, что тайная полиция, которую она предавала, обладает могучими, очень могучими возможностями. На это Казанова тотчас сказал:
– Если так важно, чтобы мы оба как можно быстрее очутились там, почему же мы, скажи на милость, не едем вместе?
Но Анриетта продолжала настаивать: главное – выиграть время. Казанова, считала она, – новичок в этих страшных делах. Правда, Красный инквизитор пригрозил отомстить Казанове, если он откроет то, что ему известно, и, пожалуй, может выполнить угрозу, если Казанова расскажет об этом в своей книге. Но сколь же мало связан Казанова с мерзостными государственными тайнами по сравнению с ней! И бояться им следует не Венеции, а Австрии. Если они отправятся в путь вдвоем, об этом тут же пойдет донесение, и их настигнет месть в виде руки убийцы или похитителей – перед государственными наймитами всегда ведь открыты все пути.
За неимением лучшего занятия Казанова размышлял обо всем этом, покачиваясь и трясясь в карете, мчавшей его по главному тракту в Милан. Он все еще не был полностью убежден доводами Анриетты и думал, не утаивает ли она что-то от него, приоткрывая лишь частицу правды, а не всю целиком, как это было во Флоренции и в Венеции? И догадки его не были совсем уж беспочвенны. Как часто бывает, ее разумно и предусмотрительно составленные планы, казалось, были основаны на строго объективной оценке фактов, тогда как на самом деле были плодом двух владевших ею чувств. Во-первых, чуть ли не материнского желания обезопасить Казанову от возможного мщения в наиболее опасной части путешествия – в начальные дни. Было тут и более тонкое соображение. Анриетта все еще не вполне готова была принять Казанову на единственных возможных для него условиях – условиях, противоречивших его заверениям, но явствовавших из его поступков, а именно: «Вы в самом деле нравитесь мне больше любой другой женщины, и я всегда буду возвращаться к вам, но быть вам верным никогда не буду». В швейцарской гостинице Казанова сумел убедить ум и чувства Анриетты, но не сумел полностью подчинить себе эту легкоранимую натуру, оскорбленную его постыдной интрижкой с Мариеттой. Бессознательно – хотя и не вполне, ибо она все-таки понимала, что делает, – Анриетта устроила ему проверку, одновременно пытаясь уберечь от опасностей, подстерегавших ее. Если он вовремя приедет на встречу, а не задержится во фривольных похождениях, целуя девушек и выигрывая дукаты в «фаро», она снова станет безоговорочно доверять ему. Если же нет…
Увидь она его на этом первом перегоне, ей не на что было бы пожаловаться. Невзирая на туман, Казанова продолжал продвигаться вперед и даже спал в карете, а когда при подъезде к Милану северный ветер рассеял туман, Казанова стал подгонять почтальонов и прибыл в город всего с трехчасовым опозданием против намеченного срока. Сразу двинуться дальше оказалось невозможно: ему надо было заранее послать верхового, чтобы условиться насчет проводников и, по-видимому, саней для переезда через перевал, а потому Казанова решил – раз уж так получилось, почему бы как следует не поесть и не выспаться, прежде чем пускаться в опасный и лишенный удобств путь через горы.
Милан приготовил неприятный, но имевший существенное значение сюрприз – возможность его предвиделась, но была большая надежда, что так рано зимою этого не случится. Устало вылезая из кареты перед гостиницей в Милане, Казанова, застывший от долгого пребывания на холоде в сидячем положении, почувствовал, как кровь совсем заледеневает у него в жилах, когда его потухшие глаза увидели медленно опускавшуюся снежинку, за ней – другую, а потом уже настоящий каскад. Это означало задержку – на два дня, на три, а то и больше, однако Анриетта дала Казанове достаточно много времени, и он был уверен, что к сроку доберется до Женевы. Делать-то ведь нечего – надо ждать, по возможности терпеливо и спокойно.
Казанова провел тревожную и бессонную ночь: он несколько раз вскакивал и открывал окно спальни, и всякий раз надежды его гасли при виде снега, валившего густыми хлопьями. Утром снег продолжал идти, и Казанова решил не вылезать из постели, пока не прояснится, – не только из естественного желания отдохнуть и понежиться, но и из соображений осторожности: чтобы его не узнали. Милан, однако, был уготован ему как город не только отсрочки, но и неприятностей. Горничная, принесшая Казанове завтрак, была хорошенькой крестьянской девчонкой, с которой – при менее тревожных обстоятельствах – он, по всей вероятности, не возражал бы перейти на несколько более интимные отношения. Вместе с завтраком она принесла миланскую газету и подала ему с улыбкой, которую при других обстоятельствах он назвал бы «зазывной», а сейчас мысленно окрестил «похотливой».
Желая поставить ее на место, Казанова небрежно отложил в сторону газету и приготовился не спеша позавтракать в постели. При этом он не мог не заметить – со смесью удовлетворенного честолюбия и досады, – что девчонка не спешит уйти и то и дело поглядывает на него с любопытством и интересом. Он абстрактно поразмышлял о нравственности гостиничных горничных и, отхлебывая кофе с молоком, ленивым жестом взял газету, чтобы посмотреть, нет ли там интересных новостей…
Рука его так дрогнула, что он пролил кофе на поднос и чуть не опрокинул весь завтрак на пол, с ужасом увидев, что главной новостью является «прибытие» в Милан знаменитого Казановы, чье местонахождение не было известно с тех пор, как он бежал из венецианской Свинцовой тюрьмы. Его увидел и узнал у входа в гостиницу венецианец, который был немного с ним знаком, и тут же продал эту информацию журналисту, – во всяком случае, так решил Казанова, судя по тому, как превознесли в газете его шустрого соотечественника.
Что же делать? В тревоге и досаде на эту непредвиденную напасть Казанова выскочил из постели и стал одеваться – без какого-либо определенного плана, с единственной мыслью – тотчас уехать из гостиницы и из города Милана. Но низкое темное небо, из которого безостановочно сыпались белые пушистые кристаллики снега, напомнило ему о неосуществимости такого плана. Если он переедет в другую гостиницу, это не утихомирит, а лишь разожжет любопытство, а пока снег не прекратится, попытка продолжить путешествие приведет только к потере времени, сил и денег. Уперев подбородок в ладонь, Казанова стоял у заснеженного окна в самом меланхолическом настроении и снова и снова спрашивал себя: что же делать?
По обыкновению, Казанова все-таки придумал, как быть. Вместо того чтобы одеться, он разделся, снова нырнул в постель и резко дернул за висевший рядом шнур звонка. Горничная вошла так скоро, что Казанова склонен был подумать, уж не подсматривала ли она за ним в замочную скважину? А он принялся весьма убедительно стенать и метаться, сказал девчонке, что вдруг заболел, велел ей унести завтрак и немедля послать за лекарем, добавив, чтобы к нему ни в коем случае никого не пускали, кроме хозяина.
Сему взволнованному субъекту, который мигом прискакал, дабы предотвратить беду в случае, если постоялец умрет в гостинице, Казанова объяснил, что подвержен желудочным коликам, которые скоро пройдут, и отослал его, ублаготворив небольшой дополнительной суммой. Лекарю Казанова пожаловался на то, что не спит, а чуть начинает засыпать, видит дьявольские кошмары, и получил несколько дурацких рекомендаций, настойку для сна и бесценную помощь в виде приказания не будить и не тревожить пациента. Его тоже Казанова осчастливил несколькими золотыми.
Оградив таким образом свой покой, Казанова мог не спеша обдумать ситуацию и внимательно перечитать газетную статью. По здравом размышлении он убедился в том, что она совсем не так страшна, как ему вначале показалось. Подробности его жизни были даны весьма приблизительно и в ряде случаев абсолютно неверно, а человеку, критически прочитавшему статью, покажется бездоказательным и то, что речь вообще идет о нем. Казанова вспомнил, что говорил ему инквизитор о том, сколько газетных статей и псевдо-Казанов появилось, пока он еще сидел в тюрьме. Одною больше – какая разница, при условии, что ему удастся избежать безусловного опознания.
А снег все продолжал валить – правда, к концу дня Казанова заметил, что он значительно, хоть и постепенно, редеет. В течение часа метель настолько улеглась, что Казанова был убежден – около полуночи можно будет трогаться в путь. А потому он написал хозяину гостиницы записку, в которой сообщал, что чувствует себя лучше, повторяя, чтобы его тем не менее не беспокоили, наказывал тотчас отправить посыльного, дабы тот договорился обо всем необходимом для переезда через горы, и требовал, чтобы лошади и карета были готовы к полуночи. Хотя ехать ночью неудобно и холодно, Казанова счел необходимым так поступить, чтобы избежать в дальнейшем узнавания и связанных с этим неприятностей. Стремясь убить время, а также подготовиться к по крайней мере двухдневному, а скорее всего – трехдневному путешествию, когда мыться не придется, он принял ванну и тщательно побрился. К этому времени он так проголодался, что вынужден был что-то съесть, а потом снова лег в постель подремать до тех пор, когда надо будет одеваться в дорогу.
Его вывел из легкого сна звук ключа, поворачиваемого в замке, дверь отворилась, и, невзирая на чаевые, данные Казановой и явно превзойденные более щедрыми чаевыми, он услышал голос горничной, нахально, к его ужасу, произнесший:
– Тут кое-кто к вам, синьор!
Казанова сел в постели, услышав, что дверь за кем-то закрылась и ключ повернулся в замке, и при тусклом свете ночника увидел, что вошедшая – женщина, а затем с сильно забившимся сердцем узнал в ней донну Джульетту. Несколько секунд оба молчали: Казанова смотрел на нее с чувствами, какие можно себе представить, она же с улыбкой смотрела на его испуганное, искаженное ужасом лицо. Спустив с плеч тяжелую меховую пелерину, она сказала:
– Так, значит, Джакомо Лучинно и есть Джакомо Казанова! Кто бы мог поверить, что газетный писака говорит правду?
– Сударыня! – произнес Казанова дрожащим от злости голосом, которому он тщетно пытался придать твердость. – Вы ворвались ко мне в спальню! Я вынужден просить вас немедленно покинуть комнату. Тотчас же!
– Кто-кто, а вы умеете спешно покидать спальни, не так ли? – парировала она и, оглядев комнату, добавила: – Не стану просить вас встать с постели в ночной рубашке, чтобы подвинуть мне кресло, – это может нанести урон вашей скромности… А-а, вот оно, кресло!
Она увидела маленькое креслице и, подтащив его к кровати, преспокойно уселась, что показалось Казанове оскорбительным, если не сказать зловещим. Это же была свидетельница, которая могла подтвердить, что видела беглого Казанову, и которая не станет молчать из дружеских чувств. Тем не менее он продолжал возмущаться:
– Это же настоящее вторжение, донна Джульетта…
– А-а, вот это уже лучше, – холодно произнесла она, вытаскивая из большой меховой муфты неизбежный веер: – «Донна Джульетта» – это уже большое достижение по сравнению с «сударыней».
И хотя в спальне было уж никак не жарко, она принялась небрежно обмахиваться веером, точно сидела в салоне Аквавивы.
– Не думайте, что вам удастся укрыться от внимания публики, запершись в четырех стенах, как мизантроп. Да неужели вы не знаете, что вы знаменитость? По крайней мере с десяток людей дожидаются, чтобы увидеть вас и убедиться, что вы – это в самом деле вы; они дежурят по очереди. Очень забавно видеть, как ваш верный друг, хозяин гостиницы, клянется, что вы – Лучинно, торговец вином.
Казанова дал ей выговориться – пусть помелет языком. Он сумел побороть досаду и сейчас, наблюдая за ней, пытался побыстрее что-то придумать. Если поступить так, как он намеревался и, собственно, имел полное право поступить, а именно: взять ее за плечи, выставить в коридор и запереть перед ее носом дверь, – он выпустит на волю врага, который как раз и сообщит то, что ему хотелось сохранить в тайне: что он в Милане и собирается ехать на север. И он решил, что надо каким-то образом удержать ее при себе до своего отъезда, а тогда с помощью заранее заготовленной уловки сбежать, прежде чем она успеет с кем-либо связаться или выяснить, в каком направлении он поехал.
– Почему вы такой молчаливый? – спросила она, слегка надув губы. – Не сердитесь на меня, Казанова. Я это терпеть не могу, да и вам это не идет. К тому же я приехала сюда с самыми дружескими намерениями, чтобы поздравить вас со смелым и успешным побегом из Свинцовой тюрьмы.
– После того как вы меня туда засунули, – сардонически добавил он.
Если Казанова ожидал, что она смутится от такого обвинения, брошенного в лицо, – он глубоко ошибся. Она лишь улыбнулась и сказала:
– Значит, это вам они сказали, да? А почему вы думаете, что это правда?
– Я знаю, что это правда.
– Предположим, я стану отрицать?
– Я вам не поверю.
– Вы будете настолько негалантны?
– В данном случае я буду в такой же мере негалантен, в какой вы предательски вели себя, и…
– А что, если я буду стоять на своем?
Казанова передернул плечами.
– Давайте поговорим о чем-нибудь другом, – не очень любезно предложил он. – Например, что вам от меня угодно? Выдать меня здесь тайной полиции вам, знаете ли, не удастся.
Она сложила веер и задумчиво посмотрела на Казанову.
– Вы мужественный человек, Казанова, – сказала она. – Очень мужественный. Не удивляюсь, что столь многие женщины готовы многое вытерпеть, дабы снискать вашу благосклонность…
– Вы не ответили на мой вопрос, – высокомерно прервал он ее.
– Но вот нельзя сказать, чтобы хорошие манеры были среди ваших положительных качеств, – продолжала она.
– С каких это пор незваных гостей встречают вежливо? – сухо осведомился он.
– Даже если это женщины?
– Да.
– Хорошенькие влюбленные женщины?
– Ну, может быть, иногда…
– Ах, вот теперь, когда вы сделали эту оговорку – признаюсь, весьма нелюбезно, но все же сделали, – я скажу вам, почему явилась «незваной гостьей»: чтобы убедиться, что вы – это вы.
– И похоже, едва ли стоило утруждать себя, верно? – заметил он не без легкой издевки. – Но я польщен вниманием.
Она с усмешкой сделала реверанс и села, глядя на него поверх раскрытого веера. Но прежде она сбросила свою толстую меховую пелерину и швырнула на пол муфту и перчатки; теперь перед ним была дама в модном осеннем платье в коричневых и зеленых тонах, отделанном кружевом у горла и запястий. Она сидела, скрестив ноги, показывая сапожок, отороченный мехом, и изящную лодыжку. В их беседе наступила пауза: каждый думал о своем. Казанова старался изобрести предлог, чтобы задержать ее – ведь после столь нелюбезного приема она вполне может встать и уйти и распространить о нем весть. О чем она все-таки думает?
– Джакомо! – внезапно произнесла она и, перебив сама себя, с прелестной миной спросила: – Могу я называть вас Джакомо?
– Безусловно.
– Благодарю вас. Теперь, когда мы снова вместе, я хочу, прежде чем уйти, кое о чем вас просить.
– О чем же? – как можно любезнее произнес Казанова, пытаясь тем временем придумать, чем бы удержать ее до полуночи…
– Вы же понимаете, я не могу долго у вас задерживаться, – с улыбкой сказала она, – вы, погубивший столько репутаций, склонны забывать, что у женщин есть репутации.
– Пусть моя особа вас не волнует, – проговорил Казанова: важно было хоть что-то сказать, лишь бы протянуть время, – я безобиден для женщин в данный момент. В глазах публики я стою у гробового входа.
– Но вы, конечно, вполне здоровы!
– Конечно!
– И тем не менее, – рассмеявшись, добавила она, – я сомневаюсь, чтобы репутация любой женщины не пострадала от общения с вами даже в вашем нынешнем состоянии, ибо такова ваша репутация – или ее отсутствие.
– Мир клевещет на меня, – посетовал он.
– Словом, каждый из нас думает о себе, в особенности женщина. Мир несправедлив. Он восхищается мужчиной, который способен увлекать женщин и делать их своими любовницами. А перед женщинами захлопывает двери.
– Но женщины порою мстят за это – и весьма жестоко, – не без подтекста сказал он, но она, казалось, не слышала его слов или же не хотела на них откликаться.
– Вы когда-нибудь ревновали, Джакомо? – спросила она.
– Это и есть тот вопрос? – вопросом на вопрос ответил он.
– Да, мне, право же, хочется знать. Мне говорят, что мужчины, имеющие любовниц и переходящие от женщины к женщине, теряют способность ревновать. Это правда?
– В некоторых случаях – возможно, – уклончиво ответил он, – но, пожалуй, не всегда.
– А у вас это так?
– Нет.
– Значит, вы ревновали?
– О да, и даже очень.
– А не было случая, чтобы ревность побудила вас совершить поступок, о котором вы потом горько жалели бы?
– Пожалуй, да, – ответил он, начиная от этого допроса терять терпение.
– Представьте себе, что вам – а вы всегда добивались женщины, какую хотели иметь, – однажды это не удалось. Представьте себе, что вы страстно возжелали женщину и в тот момент, когда уже готовы были ею насладиться, она вдруг бросила вас ради другого мужчины. И представьте себе, что некоторое время спустя вы неожиданно увидели бы ее – счастливую, чуть ли не в объятиях другого мужчины, и вы вдруг поняли бы, что перед вами – ваш соперник, вы бы не испытали ревности?
Казанова увидел, куда она клонит, но ответить мог лишь: – Да.
– Да! – пылко воскликнула донна Джульетта и в волнении вскочила с кресла. – Да, вы, несомненно, почувствовали бы ревность при мысли, что она каждую ночь лежит нагая в его объятиях, тогда как вы лишены этого удовольствия, которое поначалу было обещано вам! Неужели у вас не зародилось бы стремление отомстить?
– Возможно, – признался он, не желая вызывать у нее гнева, под влиянием которого она может кинуться вон из комнаты, но в то же время стараясь избежать опасного признания.
– Конечно, зародилось бы! – воскликнула она; щеки ее раскраснелись, глаза сверкали от возбуждения. – Конечно, зародилось бы! Как у любого мужчины или женщины, если только он или она не ледышка и в жилах у них течет горячая кровь! Ах, Джакомо… – И, к его смятению и смущению, она села рядом с ним на кровать, схватила его руку и, приблизив к нему лицо, с волнением заглянула в глаза. – Ах, Джакомо, если бы вы могли простить мне то, чего я никогда не смогу себе простить! Как могла я совершить такую низость, такую жестокость по отношению к человеку, которого я люблю больше всех на свете?
В ее прелестных глазах стояли слезы, и, глядя с мольбой на Казанову, она склонилась над ним, полулежавшим в подушках. После долгих месяцев вынужденного воздержания в тюрьме ее духи, ее блестящие волосы, ее слова, ее нежное бело-розовое лицо, а главное – ее бедро, прижатое к его боку, – все это подействовало на него, как вино на пьяницу, временно вынужденного соблюдать воздержание. Он попытался побороть влечение, попытался защититься от прихлынувшего желания, затоплявшего его, попытался собраться с силами и оттолкнуть донну Джульетту, но ее голос завораживал:
– Если бы вы знали, сколько слез я пролила по вас, сколько бессонных ночей я провела, терзаясь угрызениями совести, глубоко несчастная! Я знаю: все это ничто по сравнению с тем, что пережили вы. Я вижу страдание в ваших глазах, на вашем лице, и в этом мое наказание, ибо тот, кого я люблю, ненавидит меня больше всех на свете. Если бы я хоть в самой малой доле могла возместить вам то, что я наделала. Я готова быть вашей слугою, вашей…
Фраза так и не была закончена, ибо вместо следующего слова нежные молящие уста прильнули к губам Казановы. До этой минуты – хоть Казанова и догадывался, что грядет, – он настраивал себя на сопротивление – сбросить ее с кровати, обозвать лицемеркой, предательницей… но ласковое прикосновение мягких теплых губ парализовало его волю и зажгло в нем неуемное пламя желания. Прежде чем в мозгу его родился протест, он схватил ее в объятия, прижал податливое тело к себе и покрыл его страстными поцелуями…
Сколько прошло времени, ни один из них не знал, когда раздался робкий стук в дверь. Отклика не последовало; тогда стук повторился громче и потом еще громче и настойчивее. А в комнате, за плотно запертой дверью, была разбросана женская одежда, и постель, еле освещенная ночником, являла собой ворох смятых простыней.






