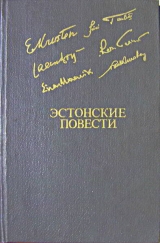
Текст книги "Эстонские повести"
Автор книги: Рейн Салури
Соавторы: Пауль Куусберг,Эйнар Маазик,Яан Кросс,Юри Туулик,Эрни Крустен
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
– Спасибо, друг.
Помянули.
Затем встал Лепп.
– Я не могу говорить, как образованные люди говорят. Я простой фотограф. Но чувствую я то же, что и все вы. Даю обещание при всех при вас, что в память о собаке Каспара я устрою в Абрукаском доме культуры фотовыставку о Ракси и о Каспаре.
– Правильно! – стукнул кулаком по столу Теэмейстер. – Об обоих! Оба бравые ребята! Уникальные личности!
– Спасибо, Антон, – сказал я Леппу.
– Помянем одного и за здоровье другого, – провозгласил Теэмейстер.
Помянули.
В душе была какая-то пустота, грусть и одновременно возвышенное чувство. И я не мог разобрать, чего было больше, то ли печали по Ракси, то ли удовольствия от того, что душевно сижу с такими чудесными мужиками.
Между тем стемнело, луна взошла в таинственном августовском небе. Звезды мерцали, искрились и падали.
– Грех в такую ночь спать, – решили мы единогласно. Лепп вытащил в сад все свои матрацы и одеяла, мы улеглись на них между двумя яблонями и кустами крыжовника, каждый со своим разговором и своими думами.
– Мужики, – сказал Кылль, – хотите послушать, как звезды звенят, когда падают?
Мы хотели.
Кылль принес из дому каждому по стопке водки и по вилке. Мы лежали под кустами крыжовника, не спеша прикладывались, звякали вилками по стаканам, и этот звон и волнующее падение звезд куда-то вниз, мимо Земли, мягчили душу и холодили живот.
Слаб становится человек пред красотой мироздания. Редко мне случалось заснуть августовской ночью в лодке во время лова под тихий шепот волн, когда звездное небо над головой. Свод небесный и песня волны незабываемы, они сидят у меня в голове, как имена родных дочерей, но, смотри-ка, звякнешь вилкой по стакану, и эта чистейшая музыка вдруг все вокруг преображает.
Н-да…
До чего интересно все на свете устроено.
Наизнанку можно вывернуться от удивления.
Неужто впрямь все это для человека сотворено? Чем же мы это заслужили?
Иной раз утром, когда тебя шатает с похмелья, выйдешь во двор по нужде, так аж слеза прошибает, до чего природа хороша. Ну что бы это было, ежели, к примеру, в этакое утро трава была бы не нежно-зеленой, а, скажем, кричаще красной, а скворец не испускал бы бархатные трели, а ревел, как бульдозер. Жуть была бы.
Люди давно бы с ума посходили или сбежали с нашей планеты, ежели бы природа вокруг нас не была такой, какая есть. Это уж наверняка.
Думается, я на войне тоже в уме помрачился бы, ежели со мной не было бы абрукаского леса да моря. Море либо лес в карман не сунешь, но они были со мной. Когда в сочельник лежал я, уткнувшись носом в снег, под Великими Луками, и половина ребят из взвода уже застыла, я закрыл уши руками, чтоб от страха не вырвало, зажмурил глаза и призвал к себе море.
Оно пришло. И говорило со мной. Оно сказало: «Держись, Каспар Соом с Абруки. Войны начинаются и кончаются, а мы с тобой вечны. Ты да я, мы больше, чем самая большая война».
Я держался. Но даже сейчас жутко вспомнить, сколько их там, далеко, осталось на снегу. И ребят с Абруки. У них ведь то же море было с собой, что у меня, почему же они остались лежать? Разве их море было меньше моего?
Н-да… Кто его измерит… Потому как море – это не просто вода. Вот уж нет.
Между тем звезды в небе понемножку тускнели, и мы больше не звякали вилками.
Начало светать.
Где-то шуршала по асфальту метла дворника.
Проснулись собаки.
Надо бы еще поговорить о Ракси. О памятнике.
Но мужики уже помянули Ракси, и сейчас опять заводить о нем разговор было бы некстати.
Теэмейстер тихо вздыхал, охал и постанывал.
– Мужики, давайте о чем-нибудь поговорим. Каспар, это была прекрасная история про сапоги, какую ты прошлый раз рассказал. Расскажи еще что-нибудь эдакое.
– Ежели ты твердо того требуешь…
– На душе чуток полегчает, Каспар. Пока пива в лавке не достанем.
Вот какая была история про сапоги.
У одного бедного мужика была красивая жена. Мужик крепко любил свою жену, но был он до того бедный, что даже лишних сапог у него не было, только одна-единственная пара. Однажды рано утром вышел мужик со двора и отправился в лес, а думал он об одном – о том, как порадовать свою красивую жену, которую он очень любил.
«Наберу-ка я ей земляники, – решил мужик. – Земляника красная, сочная, вкусная, и моя дорогая жена будет довольна».
Но роса в лесу еще не сошла, трава была мокрая, и мужику стало жалко единственные сапоги мочить. Разулся он, засунул сапоги под куст и пошел в лес босиком.
Собирал землянику на одной полянке, собирал на другой, все дальше уходил в лес. Заблудился. И вышел он из лесу только через три дня. Земляники полна запазуха, а сапог под кустом нету. Искал до вечера, не нашел. Идет в темноте, голову понурив, домой. Подходит к дому и вдруг слышит, что незнакомый мужской голос говорит его жене:
– Дорогая, я тебя до смерти любить буду.
Вздохнул мужик громко и жалобно, до того громко и жалобно, что жена услыхала и выбежала во двор.
– Это я, – сказал мужик грустно. – Я принес тебе земляники.
А жена с упреком говорит: – Ну, знаешь ли, кто же так за земляникой ходит. Я тебя уже забыла.
– Неужто правда?
– Знамо дело. В первый день ждала. На другое утро пошла в лес тебя искать, нашла сапоги. Решила, что волки тебя сожрали. Цельный день проплакала, а вечером поминки справила. А на третий день за другого вышла. Вот и все.
– Что же теперь будет? – спрашивает мужик в растерянности.
– Ежели ты меня любишь, – говорит жена.
– Люблю, – вздохнул мужик.
– Так ступай обратно в лес. Тебя ведь посчитали мертвым, ты похоронен, я была вдовой и за другого вышла. Подумай, сколько мороки будет на мою шею, ежели я теперь примусь бегать по учреждениям и выправлять документы, что ты воскрес, что я не была вдовой и новая свадьба была незаконной.
– И верно, много мороки, – согласился мужик. – Уж лучше я пойду обратно в лес.
– Какой ты разумный.
– Куда землянику-то девать?
– Землянику можешь мне оставить. Землянику я люблю.
– Может, ты мне мои сапоги принесешь? Роса в лесу больно студеная.
– А я уже сапоги ему подарила. Чудно, но они ему как раз впору.
– Чудно, – согласился мужик. – Ну, прости.
И пошел босиком в лес, и больше никто его пе видел.
Когда я кончил, Кылль сказал, посапывая:
– Жуткая история. У меня прямо мурашки по спине бегают вверх и вниз. Жуть! Только бабы могут быть такими злыми.
– И мужики не лучше! – возразил Лепп. – Этакой стерве я и стебелька земляничного не дал бы понюхать!
– Нельзя так говорить, – попытался Кылль урезонить его. – Ты же не был женат. Ты не знаешь, что такое любовь.
Кылль вытер со лба холодный пот.
– Надо же, какая мерзавка! Даже сапоги на ноги другому жеребцу напялила.
Теэмейстер сказал, не повышая голоса:
– Все правильно. Кто любит, тот страдает.
Волли все еще любил свою жену, хотя та его выставила.
– Где ты такие истории собираешь? – спросил Волли.
– Да нигде. Сами в голову лезут.
– Не хвастай.
– Не хвастаю. На что мне голова-то дадена? Гвозди, что ль, в стенку забивать?
– На Абруке все мужики малость с приветом.
– Ясное дело. Заморские мужики.
Волли махнул рукой. Правильно ведь.
Разве важно, как рождаются истории. Важны сами истории. Ежели бы Волли провел несколько десятков лет в море, как я, и цельными днями читал, что на волнах начертано, да глядел бы на крылья чаек, и он выдумал бы какую-нибудь историю, от какой все рты поразевают.
А потом я рассказал мужикам о Соловьиной Маали.
Я не стал бы клясться, что ее звали именно Соловьиной Маали. Но когда я о ней думаю, мне кажется, что ее вполне могли бы так звать.
Соловьиную Маали может видеть всякий, кто на Абруку приедет и у кого глаза есть.
А история такая.
Давным-давно жили на Абруке Соловьиный Виллем со своей женой Маали. Муж трудился на море, а жена на поле. Видать, в роду у Виллема были мужики со звонкими голосами, разговор которых походил на соловьиное пение.
Виллем был высокий, светловолосый, ловкий, и язык у него был хорошо подвешен. Маали была тихая, волосы темные, а с лица румяная, как ягода-рябинка.
Вечерами Маали пускала усталую лошадь на пастбище и поднималась на холм Везипыльд, где, прикрыв ладонями глаза от закатного солнца и прищурившись, глядела, как вдалеке весла Виллема торопятся к берегу.
Так стояла она и ждала, пока лодка не врезалась носом в песок. Тогда она взмахивала рукой и бежала навстречу Виллему, ее босые ноги золотились в закатных лучах, глаза блестели, а щеки краснели, яркие, как две ягодки-рябинки.
Так бывало каждый вечер.
Но однажды, когда Маали взобралась на холм Везипыльд и подняла ладони к глазам, она увидела, что Виллем уже вышел из лодки и обнимает какую-то женщину. Заметив Маали, Виллем опустил руки, а Маали застыла от удивления, застыли и руки ее, поднятые ко лбу, и никакая сила не могла их сдвинуть.
Чужая женщина шмыгнула в ольшаник, Виллем закинул сети на плечо и не спеша пошел к Маали.
– Маали, – воскликнул Виллем, – иди же встречай меня. Что ты стоишь, как столб?
А Маали не двигается. Она и в самом деле в столб превратилась. Голос изо рта не идет, дыхание душу не греет. И щеки больше не красные, как ягоды-рябинки, а серые, как камень в ограде.
– Маали, ну что ты из-за этаких пустяков… – шепчет Виллем испуганно.
А Маали не отвечает, руки ее застыли возле лба, дыхание не вздымает грудь, и голые ноги не золотятся в закатном солнце, а вроде бы зеленеют, словно замшелые каменные кресты на кладбище.
– Маали, Маали, – повторяет Соловьиный Виллем беззвучно, но все напрасно.
Схватил Виллем свою жену под мышку и потащил ее, испуганно оглядываясь во все стороны, домой. Но она словно бы уж и не жена его, чье крепкое тело согревало по ночам, как теплая печка, камень это был, немой и холодный, как стена в погребе.
Весь в поту, перенес Виллем свою жену через порог, закинул в кровать, укрыл всеми одеялами, коврами и покрывалами, какие были в доме, разжег огонь во всех печках и очагах, где тяга была в исправности, а сам взял гармошку и спел жене самые лучшие песни, какие знал.
Только все без толку.
Ночью привел Виллем с пастбища лошадь, запряг в телегу, отвез жену на кладбище и схоронил.
Утром он проснулся, вышел во двор, смотрит: Маали, немая и холодная, стоит на холме Везипыльд, освещенная алой зарей, руки у лба, лицо к морю повернуто. Плохо дело, подумал Виллем и решил опять жену домой притащить и в колодец бросить. Но вода в колодце стала подниматься, подниматься, разлилась по всему двору, потекла в дом, покрыла пол, уже стены мокрые, к потолку подбирается, Виллем давай спасать, что еще можно было спасти, потащил вещи на чердак, но вода и туда добралась.
– Маали, что ж ты со мной делаешь, – задыхаясь, закричал Виллем. – Образумься наконец!
А вода все поднималась, и Виллему пришлось спустить в колодец лестницу и вытащить оттуда жену. Что же делать? Засунул он жену в копну тростника, что для починки крыши был приготовлен, запрятал так, чтобы не видать было, словно свой стыд и позор. К вечеру налетела гроза, страшный гром загремел над Абрукой, и молния подожгла копну.
Стоит Виллем посреди двора, слушает, как трещит тростник в бешеном огне, а из огня тихий голос жены звучит:
– Больно, больно, Виллем.
Бросился он в огонь, да там и остался.
А на другое утро Маали опять стоит на холме Везипыльд, руки у лба, окаменевшим взглядом на море смотрит, и уже никто не осмелился к ней притронуться.
Маали стоит там по сей день. Ежели идти на лодке к гавани, Маали служит верхней вехой. Кто с этой вехой не посчитается, тот с треском на подводные камни налетит и винт вдребезги разобьет. Не знаю, сколько уж поколений абрукаских рыбаков обязаны Маали своей жизнью.
Вот такая была это история.
Мужики ни слова не сказали, когда я кончил.
Солнце взошло, капельки росы блестели на листьях крыжовника.
Где-то защебетала ласточка.
– Да-а… да-а… – пробормотал Теэмейстер. Он пошел в дом, взял сумку и сказал:
– А теперь, Каспар, пошли за пивом.
На улице нам встретилась девушка необыкновенной красоты. Я прикрыл подбородок лапищей, чтобы щетину не видать было. Стройные молодые ножки девушки блестели от загара, волосы были темные, а щечки алели, как рябиновые ягоды.
Теэмейстер прошептал:
– Скажи-ка ей, что она шибко красивая.
– Вот дурень-то.
– Скажи, скажи.
Ничего я не сказал. Мне было приятно, что я прошел мимо со своей небритой рожей.
– Почему не сказал, Каспар?
– Не нам уж теперь такое говорить.
– Оно конечно. Только мы бы к вечеру эти слова позабыли, а девушка всю бы жизнь помнила. Жалко.
И Теэмейстер вздохнул. Такой он славный, душевный человек.
…Ну вот, опять на катере ктой-то голос подает.
– У всех мужья не ангелы, но такого кина, Марге, никто еще на Абруке не выкидывал.
– Никто не выкидывал, а я выкину.
– Мой Август не хуже твоего Каспара лакает, но я его заживо хоронить не стану.
– Твое дело.
– Он ведь муж тебе и отец твоих детей.
– Это ты уж говорила, Малли, что он муж и отец. Хватит. Надоело.
– Ты с малых лет чудачка была…
– Что ж мне его, на шелковые подушки уложить, как пекинского пуделя?
– Да, как была ты чудачка, так и осталась!
– Ты это из чистой зависти говоришь. Что Каспара себе не заполучила.
– Господи, помилуй! Что на старости лет слушать приходится!
– Уж я-то знаю. Ты тоже через его руки прошла. И нечего кислую рожу строить. Осталась на бобах, Малли!
– Знаешь, чего я тебе скажу, и кто хочешь подтвердить может?
– Давай, выкладывай.
– Ежели бы Юта в Швецию не уехала, ты бы до морковкина заговенья по Каспару выла, а все одно без него бы осталась. Вот так вот.
– Малли!
– Осталась бы. Да. Да. Да!
Надо же, как дело обернулось, ты лежишь в гробу, а всю твою жизнь перед тобой на тарелочку выкладывают.
Юта.
Н-да.
Ну и теснотища же промеж этих сосновых досок, ни охнуть, ни вздохнуть толком нельзя.
Юта.
Чудно, боишься этого имени, словно кто тебя ласково по лицу погладит, как вспомнишь. Услышишь, как кто-нибудь скажет это имя на улице, или по радио, или брат сестру зовет, или мать дочку кличет, и словно бы дрожь по телу пробегает и в лицо кровь бросается.
А ведь это имя из тех же букв составлено, как и все слова в эстонском языке. Но только оно заставляет мужское сердце от сладкой боли сжиматься, трепетать, как хвост салаки, угодившей в сеть.
Юта.
Сколько тысяч раз – эх, не лукавь, Каспар, – сколько миллионов раз вертелось это имя в твоих мозговых извилинах, нет такого уголка в твоей башке, где это имя не пригревалось бы. Ночью и днем. Утром и вечером. Когда в атаку бросался и после драки. И в тот самый миг, когда пуля обожгла край уха.
Юта.
Имя матери своей родной столько раз не повторял. Мать есть мать, матери другого имени и не надо.
Когда у нас с Марге первая дочь родилась, очень мне хотелось назвать ее Ютой, но удержался все-таки. Стала она Луйги. Луйги от «луйк», что по-нашему значит лебедь-лебедушка. Большая белая птица воспоминаний. Н-да…
Когда я в последний раз на заре с Ютиного чердака спускался, она сказала, заплетая свои рассыпавшиеся волосы в косу:
– Как вернешься, справим юбилей.
– Какой юбилей? – спросил я.
– Каспар, – прошептала она смущенно, – ты ведь был со мной девяносто девять раз.
– Смотри-ка… глупышка… чего ты только в голове не держишь…
– Кто любит, тот помнит.
Н-да…
Так она и осталась в чердачной двери хутора Лийваку заплетать косу, и заря поблескивала на ее льняной ночной рубашке.
«Кто любит, тот помнит», – отдавалось у меня в висках, когда я шел домой, завтракал, собирал заплечный мешок.
«Как вернешься, справим юбилей», – стучало в моей крови, когда я бессмысленно слонялся по двору. Что-то я собирался сделать, прежде чем отправляться на войну. Но я никак не мог сообразить, за что надо браться.
– Да сядь ты наконец, – сказала мать со вздохом. – Кто знает, когда ты опять сможешь по-людски посидеть.
– Мама, – сказал я, – еще ни одну войну не проводили стоя на ногах. Как устанут биться, так садятся, отдыхают чуток, встают и снова принимаются головы да ноги рубить.
Мать ударилась в слезы, все они такие были, когда мы уезжали.
А я кликнул отца во двор и говорю ему:
– Отец, покрути мне точило. Я вам косы наточу, пока не уехал.
Наточили мы так три косы в полном молчании. Отец только вздыхал, когда я за другую брался.
На четвертой он сказал:
– Каспар, вернешься, тогда продолжим. Спасибо, сынок.
И перестал крутить точило.
– Давай доделаем до конца. Вдруг я не вернусь к следующему сенокосу.
Кто же мог знать, что сеном будут заниматься без меня не одно и не два лета.
Зато когда мы сели в лодку и поплыли в Курессааре, мне было приятно, что наточенные косы поблескивают на стенке сарая в ожидании густых и росных трав.
Юта была в гавани, она дошла до конца причала, махала рукой и не проливала слез, как иные скороспелые невесты по своим женихам, не говоря уж о замужних.
– Так не забудь! – крикнула Юта. – Будешь помнить?
Чего зря спрашивать-то.
Девяносто девять раз. Ни на минуту пе забывал. И сейчас еще помню, будто большими буквами на классной доске записано.
Не забыл. Но юбилей не состоялся… Н-да… чего уж там о юбилее вспоминать, это так, к слову. Ничего не состоялось.
Прошло три года, вернулись мы в Курессааре, и я тут же пошел в штаб за увольнительной, чтоб на Абруку съездить. Не хотели давать, что, говорят, за пожар, сперва Эстонию освободим, тогда успеем с невестами нацеловаться, так что губы распухнут. Ну, позубоскалили, посмеялись, потому что полное освобождение Эстонии тогда казалось парой пустяков. Только полуостров Сырве оставался еще в руках у немцев. Никому и во сне не снилось, что предстоит ночной рукопашный бой в Техумарди и наш неудачный десант в Винтри, после чего мужики долго очухаться не могли. Война она и есть война до самой последней минуты.
Только я так часто ходил в штаб канючить, что в конце концов мне дали двадцать четыре часа, чтоб родителей проведать. Но я не столько о родителях думал, сколько о юбилее. Да, вот так вот.
В вечерних сумерках сел я с пристани Тори в лодку и погреб к Абруке. Пальцы вроде бы прослезились, как через три с лишним года снова весла почуяли.
Осень стояла теплая, море было тихое, звезды слабо мерцали, как в прекрасное мирное время. Сперва не особо налегал на весла, греб в охотку, от скрипа уключин и журчания воды за бортом горло сжималось, такое было чувство, что рассказать никак невозможно.
На Абруку! Домой! К Юте!
Что у меня до войны-то было, кроме Абруки, дома и Юты? Ничего не было.
Чем ближе подплывал к Абруке, тем крепче налегал на весла. Шинель давно скинул, разулся, греб, как шальной мальчишка-рыболов, упершись босыми ногами в дно лодки. Долгая война словно таяла в темном туманном кильватере. Домой! На Абруку! К Юте!
Когда лодка уткнулась в мыс Пеерна, я приустал и дышал тяжело – как-никак десять километров по морю отмахал, – но жадно глотал родной воздух.
А на берегу пахло, как всегда в эту пору, – можжевельником и казарочьим пометом. Знакомый с детских лет, острый, незабываемый запах. Пошел по темному выгону, плутая среди можжевельников, к деревне. Воображал, что иду спокойно и с достоинством, а на самом деле небось бежал, потому как иначе не шмякнулся бы вскорости носом об землю. Солоноватый вкус крови просочился по губам в рот.
«Теперь мы с Ютой сравнялись», – подумал я. В детстве корова саданула Юту рогом пониже носа, и белый шрам на всю жизнь остался на верхней губе.
Я не раздумывал куда идти, домой или на хутор Лийваку. Что же это за солдат-освободитель, ежели сперва полдеревни обойдет, а потом до невесты доберется.
К Юте!
И чем ближе подходил к ее хутору, тем громче билось у меня сердце. Хуже, чем перед первым боем. Перед первым боем мы устали от похода и от мороза, сердце не могло уж так быстро барабанить.
Перед домом тихонько свистнул, позвал Муки. Пес не ответил.
В кухне огонь горел, но плотные занавески не давали в окно заглянуть.
Сунулся в дверь. Закрыта.
Чудно.
На Абруке двери никогда не запирали. Даже невинные девицы и набожные старые девы спали с открытыми дверями. Не говоря уж о дверях амбаров или погребов. Надо же, до чего война изменила честных людей, подумал я.
Тогда я громко постучал в дверь.
Пес забрехал. Но в кухне никакого движения.
– Юта! Это я!
Только пес тявкает.
– Муки! Это я!
Никто и не собирается открывать.
– Юта! Это я, Каспар!
Пес лает, в доме тишина, а у меня в голове и в сердце копошится тысяча скверных мыслей.
Неужто меня не ждали? Неужто три года слишком долго для ожидания? К чему же тогда обещать? Разве любовь так быстро проходит, утекает, как вода в песке?
Мыслимо ли такое! Зачем же я тогда, ну зачем три года надрывался, сквозь грязь и кровь прокладывал дорогу к дому? Что же это такое!
– Откройте! – стучу я кулаками в дверь. – Это я! Это мы! Отворите дверь эстонскому корпусу!
В сенях щелкнула задвижка, дверь скрипнула, и хриплый голос пробурчал из темноты:
– Муки, не смей корпус кусать.
– Привет! – закричал я.
А голос в темных сенях сказал:
– Некого тут приветствовать. Это я – Яагуп.
– Вижу, что Яагуп. А меня ты помнишь?
Ворвался в кухню, пес запрыгал, уперся в меня передними лапами, завыл, заскулил. Узнал!..
– Яагуп, ты меня помнишь?
– Чего же не помнить. Нешто мало ты нашу Юту за ляжки хватал. Я в хлеву спал, все слышал.
– Где она?
– Кто?
– Юта.
– Далеко, а может, глубоко.
– Яагуп, чего ты дуришь, я солдат, а солдаты шутить не любят. Где Михкель и Лийса?
– Далеко, а может, глубоко.
– Яагуп, я не шучу. Где они?
– Они то ли в Швеции, то ли на дне морском.
– И Юта?
– Все вместях поехали.
– Когда?
– Да вот только. Ты что, не чуешь, что ль? – Яагуп понюхал воздух.
И точно, Ютин запах. Перед отъездом волосы мыла ромашкой.
У меня голова пошла кругом. Рухнул на табуретку, нащупал стол локтями. Запах ромашки душил, всю душу выворачивал.
– Пива дать?
Пива? На что мне пиво?.. Пиво?.. Что возьмешь с Яагупа-дурачка. Я заставил себя встать, потому что мне надо было выйти, меня замутило, вот-вот вывернет до кишок.
Во дворе я схватился за сруб колодца: закачало меня.
Вырвет, вроде немного полегчает, но снова, не знаю откуда, подступит волна ромашки, дух перехватит, и судороги живот сводят.
А дурачок Яагуп стоит рядом со своей вечной ухмылкой:
– Жалко тебе, что Юта уехала?
Бормочу и вздыхаю, держусь обеими руками за живот. Слезы льются из глаз, будто вода с мотни мережи.
– Ты чего ж, давно с бабами не спал?
– Пропади ты пропадом…
Пошатываясь, вышел со двора, перешел улицу, перелез каменную ограду и побрел к морю, но запах ромашки не отставал, и боль в пустом животе не уменьшалась, словно кто-то тянул по кишкам раскаленную колючую проволоку.
Вошел в можжевельник, нащупал в темноте большой валун, чтоб опереться обо что-нибудь твердое и прохладное.
Так и сидел, глаза мокрые, спиной к холодному камню, носом в можжевельник.
Душа истоптана и пуста, как площадь после базарного дня.
Нешто так войны кончаются?
Звезды мерцали, море дышало за можжевельником, где-то в хлеву мычала корова. Обычный поздний вечер. А меня мутило. И земля качалась вместе с кочками и можжевельником, когда я встал на ноги.
Доплелся до воды, плеснул себе в лицо, прополоскал рот. Только теперь постепенно стало до меня доходить, что как бы то ни было, а через родной порог переступить надо. И тут же кольнуло: а вдруг и у нас в доме никого нет. Ежели из Лийваку уехали, так ведь и наши могли?
Пошел к дому, кровь опять потекла быстрее, но уж не стучала так в сердце и в висках, как возле Ютиного хутора. К дому я шел, будто и не был три года в отсутствии. На дорогах войны часто думалось: хоть раненый, хоть искалеченный, но на землю, где детство провел, я должен вернуться, своими глазами увидеть море моего детства. И мурашки бежали по спине, когда думал об этом. А теперь шел к дому не спеша, вперевалочку, словно после вечернего лова с моря возвращался. Неужто в самом деле войны так кончаются?
Да… Чудной это был вечер, ежели вспомнить теперь. Но ведь все от себя самого зависело. Была бы голова умная, не стал бы блевать. Чудно. Ни раньше, ни после не бывало со мной такого. Не тошнило под Великими Луками, когда у ребят из живота кровавые вожжи вылезали, и под Техумарди сжимал зубы до крови, когда трое на одного навалились, но тошнить ни разу не тошнило.
Чудно. Отъезд Юты оказался страшней, чем три года на поле битвы.
Н-да…
К счастью, наши были дома.
Горячие слезы закапали у мамы с подбородка, когда она меня увидала.
Отец тоже как-то чудно смотрел в печку.
А сам я какой был, такой и был.
Сел. Поел до отвала. Узнал, кто в Швецию уехал. Рассказал, кто из ребят с Абруки остался лежать в России.
Рано утром погреб обратно в Курессааре. Надо было выбивать гадов с Сырве. Война еще не кончилась. Но для меня это была уже совсем другая война.
Н-да… Те, кто живет в Швеции, присылают иногда карточки. И Юта прислала. Сидит с цветами за столом. Очки на носу не такие, как у наших женщин. Заграничный парик на голове… Только шрам от коровьего рога на верхней губе такой же, как прежде. Его даже капиталистический строй убрать не может. Что-то наше остается на веки вечные.
Эх-хе-хе…
Вишь ты, Малли-то все ж таки вспомнила о Юге. Если она еще что ляпнет, так я так кашляну, что она сквозь стену в воду вылетит вместе со всеми своими шмотками. Бабы как зачнут болтать, у них рот больше январской луны делается.
Хорошо еще, что Малли не рассказала, как я с ней в первый раз осрамился. У них с Марге вечно какая-то распря идет. То сыновья у Малли лучше, чем дочки у Марге, а по какой причине: зачем Марге понадобилось девок рожать. Будто это от нее зависело. Вот так вот. А Марге не умеет такую политику с юмором принимать. Серьезно принимает, переживает и только худеет да худеет. Гляну иной раз на нее, вроде и на женщину уж не похожа, зад тощий, спина щуплая, словно еловая ветка, шкуркой обработанная. Не знаешь, как и любить-то такую выдру. Я ей не раз говорил: – Да ешь ты больше и жизни радуйся!
Куда там!
Теперь опять она из-за меня три дня не ела. Горемыка. Хотелось бы что-нибудь в утешение ей сказать, да у меня у самого здесь дышать нечем и повернуться некуда. Хоть на миллиметр бы задницу сдвинуть, а то скоро совсем закостенею, как египетская мумия. Попробую-ка.
– Ой, бабы!
– Ну чего ты подскакиваешь, Луизе?
– В гробу ктой-то есть!
– Да откуда ты взяла?
– А вы не слыхали? Чудной какой-то звук был. Будто ктой-то шептуна пустил.
Эх…
Эх-хе-хе.
Ох ты жисть-жистянка.
Смех меня разбирает. Страсть как хочется крикнуть отсюда Луизе: – Спасибо за внимание!
Луизе, милочка ты моя, ежели у тебя рожа со страху пятнами пошла, то прости ты мне мое прегрешение. Ну где ты еще таких мужиков сыщешь, какие даже в гробу непотребные звуки издают. Только у нас, на Абруке.
Вот так вот.
Не иначе как это от перегрузки.
Ведь сколько уж ночей не спали, да еще и напряженной духовной жизнью жили. И важные решения принимали. Все могло бы по-другому пойти. Только по случаю моего принципиального решения лежу я сейчас в гробу, на спине, не двигаясь, все равно как окоченевшая лягушка.
Когда мы вчера утром вернулись к Леппу с полной сумкой пива, мужики уж успели в комнате прибраться, чистую скатерть на стол положить и даже побриться. С такими приятно мировые проблемы решать.
Когда все поправились, приняв по паре пива, я поглядел на стенку, где висела большая карточка Ракси, и сказал:
– Ракси, ты ушел с ружьем в лес, и я больше никогда тебя не увижу, лес на Абруке большой, в нем и без ружья заблудиться можно. Но из-за тебя я встретился со своими друзьями, и тебе за это огромное спасибо, ведь ничего лучше в жизни нет, чем пребывать с дорогими друзьями.
– После такой речи неудобно пиво пить, – сказал Теэмейстер. – Давай банку распечатаем.
Распечатали. Лепп поджарил нам глазунью. На душе было светло от воспоминаний о собаке и приятно от пребывания с друзьями.
Я сказал, когда посчитал, что время подходящее:
– А теперь жду предложений касательно памятника.
– Ты непременно хочешь ему памятник поставить? – спросил Теэмейстер задумчиво.
– Ясное дело.
– Ты тверд в своем решении?
– Ну да.
– Хорошо. Значит, надо решить вопрос насчет места и материала.
– Насчет места вопроса нет. На Абруке.
– Это уж как пить дать, – засмеялись мужики. – Не хватало бы, чтоб Каспар ставил своей собаке памятник на Рухну либо на Кихну [73]73
Рухну и Кихну, как и Абрука, – маленькие островки в Балтийском море. (Примечание переводчика.)
[Закрыть].
– Постойте, – сказал Теэмейстер. – Хватит ржать-то. Дайте подумать.
Мы дали.
– Каспар, – спросил чуток погодя Теэмейстер, – а ты хотел бы поставить памятник еще кому-нибудь или чему-нибудь?
Чудной вопрос.
Я задумался.
– Я жду, – сказал Теэмейстер. – Это очень важно.
Я подумал и сказал:
– Хотел бы.
– Ну!
– Я бы поставил памятник восходу солнца.
– Так… – кивнул Теэмейстер. – А еще?
– Затем я поставил бы памятник западному ветру. Он уж как подымется да задует, тут тебе и волна, тут тебе и волнение.
– Так… – кивнул Теэмейстер. – А еще?
– А еще бы я поставил памятник салаке. Хоть свежей, хоть соленой. Без разницы.
– Благодарю тебя, – сказал Теэмейстер. – Выпьем за то, чтобы каждое утро восходило солнце, чтобы на западе и на востоке, на севере и на юге зарождались новые ветры и чтобы в синем море не переводилась рыбка под прекрасным названием салака!
– Спасибо, – сказал я.
– Твоя мысль поставить Ракси памятник, конечно, трогательная, – продолжал Теэмейстер, уписывая глазунью. – Но… – Он поднял вилку с куском яичницы. – Самый прекрасный памятник заходу солнца – роскошный утренний восход, сильный и свежий ветер приходит на смену старому и уставшему, а маленький бойкий салачий детеныш лучше, чем самый большой рыбий монумент из камня. Ты понял мою мысль, Каспар?
– Чего не понять-то. На чистом эстонском языке…
Я вздохнул.
– Все ты правильно сказал, Волли, – добавил я. – Но потому мое сердце и болью исходит, что после Ракси детенышей не осталось.
– Вот оно что.
– Быть того не может, – сказал ветеринар Кылль. – Ракси был во всех отношениях кондиционный кобель.
– Я не знаю, что это слово значит, но дело обстоит именно так.
– Быть того не может, – повторил Кылль.
– Были щенки-то. Да утопили их. Прежде, чем я узнал.
Хотя я убежден, что у каждого настоящего мужика в жизни бывает только одна настоящая собака, я бы вырастил сыночка или дочку Ракси. Я даже один раз возле магазина сказал Мийне с хутора Мюрги:
– Мийна, я был в большой надежде и в ожидании. Думал, что дедушкой стану. А ты всех моих сродственников в море снесла.
– Почем ты знаешь, что это твои сродственники?
– Ракси сказал. Ракси в большой печали.
– Сочувствую.
– Это уж не поможет.
– Ты очень-то не расстраивайся, Каспар. Шавки по-быстрому шавок делают.
– Нет уж это, видать, последний заход был. Отгулял свое Ракси.
– Да брось ты…
Но я был прав.
Имри с хутора Мынисте тоже принесла щенков от Ракси, но и они отправились волны считать. После того я не очень-то спешил поздороваться с Верой, хозяйкой хутора Мынисте. А когда наконец представился случай, я ей сказал:








