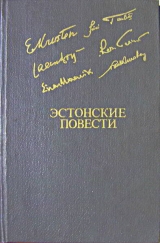
Текст книги "Эстонские повести"
Автор книги: Рейн Салури
Соавторы: Пауль Куусберг,Эйнар Маазик,Яан Кросс,Юри Туулик,Эрни Крустен
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Йоханн! Как же я могу отвечать за те столетия?!
– А так, чтобы не приукрашивать позор своего рода! – крикнул я ему в ответ. И я слышу, что и у меня голос такой же глухой и срывающийся. Мне страшно за нашу дружбу и в то же время я отдаю себе отчет: мы оба считаем, и Алекс и я, что наш труд, наши усилия в искусстве и наше стремление к правде достаточно прочные мостки над общественной пропастью, которая зияет между нами (которую, нужно сказать к его чести, он мне никогда не дает почувствовать, не так, как я по отношению к нему). Над нами же смеялись по поводу того, что из всей компании в Колонна среди немцев и прибалтов мы с ним самые рьяные в работе и искусстве. Но я чувствую: на этот раз я не уверен, что мостки выдержат, если что-нибудь заставит нас намеренно топтаться на них…
– Йоханн, я знаю, многое прогнило в Датском королевстве. Да-а. Но ты смотришь чересчур мрачно. Теперь все уже не так скверно. Изучи сегодняшнее положение крестьян так же основательно, как ты изучил его историю…
– Сам я уже вчерашний день для этого вопроса! Мои братья его сегодняшний день…
– Йоханн, тот, кто верит в небесную справедливость….
– Ну, знаешь, – вскрикиваю я, постыдно радуясь возможности нанести обиду, – такой человек, как ты, ни себя ни других не смеет убаюкивать пошлой поповской болтовней, если ты не хочешь…
– Если я не хочу – чего?..
Я сдерживаюсь. Я говорю себе: «Замолчи, замолчи!» И все же, волнуясь и как бы с усилием снимая руку со рта, говорю:
– Если ты не хочешь быть таким же негодяем, как большинство наших фон'ов.
– Йоханн, я этого не заслужил!
Он резко поворачивается и выбегает из кафе в темную духоту жаркого sirocco. Я остаюсь на месте, застывший и разгневанный. Я тупо смотрю на наши недопитые бокалы. Я слышу и не слышу, как за соседним столом Альмерс, Петцольд и Геккель [30]30
Альмерс Герман (1821–1902) – немецкий писатель. Петцольд Леопольд Дитрих (1832–1907) – прибалтийский художник и журналист. Геккель Эрнст (1834–1919) – знаменитый немецкий естествоиспытатель-дарвинист и натурфилософ.
[Закрыть]между собой говорят:
– Püsterich [31]31
Пюстерих, от нем. – der Püster, Puderguast – пудряная кисть.
[Закрыть]уже громыхнул в Алекса. Теперь должна разразиться гроза…
(Они называют меня Пюстерихом и дразнят язычником за мою враждебность к духовенству.) В эту минуту над Капитолием загрохотало и гроза, весь день висевшая в воздухе, разразилась ливнем. А утром я пошел к Алексу в студию, помочь ему найти правильный поворот головы его вакханки…
К Боку – да. Гернетам – никогда. Господи, да я ведь, в сущности, и не знал о них ничего, до тех пор, пока не попал к ним в дом. Даже и не помню точно, как это произошло… Карелл посоветовал мне поехать на родину, побродить, пописать этюды и за живописью потолковать с либеральным дворянством о том, что можно было бы предпринять. Это было в шестьдесят третьем году. Я вернулся тогда из Италии, и Руссов рассказал мне про анияских мужиков и про махтраские дела [32]32
…про анияских мужиков и про махтраские дела. – Крестьяне деревни Ания ходили во время крестьянских волнений 1858 г. в Таллин с петицией и были избиты на рыночной площади. Этому событию посвящен роман Э. Вильде «Ходоки из Ания». Махтраские дела – имеется в виду война в Махтра – крестьянское восстание 1858 года – центральное событие крестьянских волнений в Северной Эстонии, жестоко подавленное войсками.
[Закрыть]. Я сказал Кареллу, что и мне хотелось бы что-нибудь сделать для нашего народа, но не знаю, как за это взяться. Он посоветовал мне прежде всего поехать в Эстонию и за мольбертом позондировать почву… Карелл… Признаться, недолюбливаю я этого человека. И тем не менее снимаю перед ним шляпу. Не только в прямом, но и в переносном смысле. И не потому, что он вышел из низов эстонского народа. И не потому, что у него титул тайного советника и адмиральские эполеты, седые бакенбарды и орден святой Анны, и он пользуется славой как врач. А за его бархатное спокойствие и железную самодисциплину.(Мне оба эти качества совершенно чужды.) Тридцать лет самой непосредственной близости с царем. Нести ответственность, когда тот серьезно заболевает. Быть на побегушках, если царь кашлянет или испортит воздух. Сохранять при всем этом стоическое спокойствие, чувство собственного достоинства, оставаться серьезным и пользоваться доверием там, в тех хоромах, где интимность порождает самые невероятные интриги. В этих покоях быть той инстанцией, куда десятками ручейков стекаются стремления эстонского народа, его усилия, его чаяния и невзгоды… Носить все это под орденом святой Анны, спокойно сортировать нестоящее от вопиющего, раскладывать по полочкам (это для государя слишком ничтожно, а это настолько серьезно, что, боже упаси, даже заикнуться не вздумай, а вот об этом, может быть, удастся закинуть словечко…). И потом подкараулить для этого словечка подходящую минуту – учитывая и показания барометра, и состояние nervus ischiaticus’a [33]33
Седалищный нерв (лат.).
[Закрыть], и меню последнего обеда, и выражение лица министра, только что задом вышедшего из его кабинета… (После десяти, двадцати, тридцати лет сверхпреданной службы отец отечества великодушно не вменит своему слуге в вину, если тот самым осторожным тоном заговорит с ним не про седалищный нерв отца отечества, а про язвы на самом отечестве.) Но если монарх соизволит сказать: «Филипп Яакович! С каких это пор ты стал адвокатом у этих мужиков?!» – тут же стушеваться! Отступить с таким видом, будто никогда и не помышлял о каком-нибудь наступлении. Отступить с таким видом, чтобы его величество и на этот раз не понял, что он уже двадцать лет исподтишка был их адвокатом…
– Я… их адвокатом… нет, ваше величество… Я… только потому, что, может быть, было бы лучше, если бы в империи никто не мог сказать, что…
– Та-та-та-та-та-а.
А через какое-то время, через год, через два, даже через десять лет (известно ведь, как медленно вращаются жернова господней мельницы) сделать новую попытку. Еще одну попытку… Нет, мне этот человек неприятен. Очевидно, потому, что я не могу, по его примеру, стать осторожно спокойным. Да-а, он внутренне раздражает меня, побуждает предпринимать более радикальные шаги, чем я сам считал бы нужным… Я знаю его двадцать лет. Пятнадцать из них я все жду – и от года к году, кажется, все нетерпеливее и напряженнее – что однажды он все же что-нибудь совершит, что… ну что когда-нибудь он все же выйдет из себя и станет самим собою. Не для себя, а для меня (глупость, конечно!), для меня, чтобы тем самым я смог освободиться от своей радикальности, от излишне резких решений, от попыток протеста… Неприятен мне этот человек. И все же я не перестаю ему удивляться… (Кстати, вполне может быть, что все, что я эти шестнадцать лет делал, думая о своем народе, я делал, с одной стороны, чтобы сдержать молодого Якобсона, а с другой – взвинтить старого Карелла?! Как будто самого меня, в сущности, между ними и не было…) Разумеется, инспирированными мною акциями с прошениями мы почти ничего не добились. Если подумать о том, на что мы вначале надеялись. Однако много раз обращаясь с прошениями и предпринимая все новые попытки, мы научились кое-чему другому. Мы поняли, что все же можно действовать совместно. Несмотря на дрянной эгоизм и подозрительность нашего дорогого народа, на желание каждого из нас как можно больше заграбастать, несмотря на наше жалкое невежество, на отсутствие у нас чувства солидарности, на нашу трусость…
Конечно, когда я шестнадцать лет тому назад попал на Хийумаа к Гернетам, всего этого я еще так хорошо не знал. А познакомил меня с ними вовсе не Карелл, а старый Таубенхейм. Тесть Руссова, в ту пору уже старичок, а в прошлом – домашний учитель, некогда живший в Кэйна и с того времени знавший хийумааских мызников. В Петербурге он познакомил меня с Рудольфом фон Гернетом и его супругой Катариной. Тогда же я узнал, что брат Рудольфа Рихард Гернет был лучшим знатоком экономического положения дворянства и что летом он собирался поехать на Хийумаа, погостить у брата. И что в семье Гернетов следовали больше английским, чем немецким традициям. И что госпожа Катарина (до замужества Биргин) была родом из простой бюргерской семьи. Так что когда они в начале июля пригласили меня к себе в Ваэмла, я с готовностью принял их приглашение. А почему бы, собственно, им было меня не позвать?! Для их провинциальной скуки на острове я был в достаточной степени занимательный субъект: свежеиспеченный академик, тут же приглашенный учить рисованию царскую дочь… Незадолго до того побывавший в Италии, Швейцарии и где-то там еще… А меня по молодости лет преследовала жажда деятельности, таившая в себе и чувство вины… за фантастическую карьеру, достигнутую, правда, ценою огромного труда, в то время как мой народ прозябает в жалком унижении. С убийственной очевидностью я это понял, когда, приехав в Таллин, остановился у брата… Необходимо было найти общий язык с либеральным дворянством!
Когда я стал искать способ добраться на остров Хийумаа к Гернетам, случай свел меня со шкипером Варесом. Произошло это в Таллине, на Русском рынке, возле брезентовой палатки господина Нелла, в которой размещался «Музей человеческих рас». Я как раз из него вышел. Весьма, нужно сказать, безвкусная выдумка. Только негр и китаец были, видимо, настоящими, а огнеземельцы, гренландцы и прочие, всего около дюжины экспонатов, – явно здешние бездельники, вымазанные коричневой краской разных оттенков. Я даже как-то не дал себе отчета, зачем мне идти в этот балаган, если пять лет тому назад я был на Всемирной выставке в Париже. (Нет. Я знаю, что меня заставило… Мне говорили, что за пять лет до того анияских мужиков секли на том самом месте, где господин Нелл разбил палатку для своего музея, именно на том самом месте булыжники были политы кровью анияских мужиков… и я вошел в палатку с каким-то смутным чувством, как будто спустя пять лет на камнях могли остаться следы крови. Под рогожами я не увидел даже самих камней…) Когда я выходил из палатки, у входа стоял человек с красным лицом и окладистой бородой, он спросил меня, стоит ли тратить пятьдесят копеек на вход. Он говорил на каком-то странном смешении эстонского, немецкого и еще какого-то третьего языка. Поэтому я посмотрел ему в лицо: оно было исполнено насмешливой мужицкой хитрости, и я ответил ему по-эстонски.
– Кому как! Немец сходил и потом утешал себя тем, что было interessant [34]34
Интересно (нем.).
[Закрыть]. Русский тоже ходил, после плевался. Эстонец пожалел свои копейки, а потом всю жизнь раскаивался, что не пошел.
– А-га, – сказала окладистая борода и сощурила один глаз, – ну а хийумааский мужик и копейки поберегет и каяться не станет.
Выяснилось, что на пароходе «Леандер» я могу доехать до Хаапсалу, а оттуда на паруснике до Хелтермаа и таким образом, добраться до места, но что проще всего попасть на Хийумаа на шхуне «Дагэ», принадлежащей шкиперу Варесу, которая после полудня отправляется из Таллина в обратный путь, прямо в Ваэмла, с грузом чугуна, железа и черепицы. И через три дня будем на месте. Кстати, этих трех дней как раз хватило для того, чтобы немного развязался язык у шкипера Вареса, в начале пути упрямо молчавшего. После того как он узнал, что я еду в гости к самому господину Гернету. А на следующий день вечером, когда мы все еще плескались между Осмуссаром и Пыысапяэ (свежий северо-восточный ветерок дул нам все время в борт), я поставил на стол в шкиперской каюте бутылку голландского джина, захваченную из Петербурга. И только после того, как мы осушили половину бутылки, закусывая джин кислым ржаным хлебом с вяленым сигом и запивая все это горячим шведским кофе (отсвет качавшегося на потолке фонаря, будто слабый свет маяка, скользил при этом по медному лицу шкипера и по моему, конечно, тоже), и его маленькие острые глазки и круглые уши как следует меня прощупали, он наконец открыл рот. Или, скажем, приоткрыл. Так что, когда на следующий день пополудни я сошел на землю в Большой гавани на Хийумаа, где мы пристали, и оттуда в нанятой двуколке поехал в Ваэмла (помимо чемодана я тащил с собой этюдник с красками и небольшой мольберт), я уже представлял себе, что по тамошним условиям я еду в довольно интересное место, однако в отношении моих надежд весьма мало подходящее.
Дом был из плитняка, одноэтажный, но с красивой немецкой мансардой, крытый гнутой черепицей. Он был довольно большой и поставлен на широкую ногу. Господин Рудольф и госпожа Катарина поспешили мне навстречу к парадной двери и радостно захлопали в ладоши: «Ach, wie lieb, daß sie gekommen sindl..» [35]35
«Ах, как мило, что вы приехали…» (нем.).
[Закрыть]Мне предоставили апартаменты в первом этаже, во флигеле, выходившем окнами в парк – это были две просторные комнаты с небольшой верандой: «Живите, гуляйте, занимайтесь живописью. Чувствуйте себя как дома. За едой или за кофе, если у вас найдется время, будем беседовать. Вы говорили, что вас волнуют кое-какие проблемы…»
Парк за окнами оказался против моего ожидания необыкновенно красив. Черная ольха, каштаны, лиственница, красный бук. Все это удваивалось, отражаясь в прудах. Извивающиеся дорожки, газоны, желтые от диких тюльпанов. Добрых пять десятин. И море.
– У нас английский парк, – сказала госпожа Катарина. – Мой супруг предпочитает английский стиль.
И сама госпожа Катарина была тоже немного в английском духе: высокая, сухощавая, с угловатыми движениями подростка, именно такая, какими были большей частью те дамы Альбиона, бродившие по Италии, каких мне немало довелось повидать. Нет, я тогда не начал с якобсоновской резкостью. Я начал совсем по-карелловски. Я не спросил, было ли это тоже в английском стиле, когда пять лет тому назад ее муж в полном единодушии с остальными хийумааскими баронами приказал дать крестьянам по двести ударов розгами каждому, когда отправлял их в губернскую крепостную тюрьму, отдавал в рекруты, и все это только за то, что крестьяне осмелились попросить лишнего человека на десятину покоса, то есть чтоб дали десять косцов вместо девяти, как было до тех пор… То, о чем умолчал шкипер Варес, мало-помалу рассказали мне другие ваэмласцы. Я ведь не сидел все время в том прекрасном парке. Я немало исходил ближние и дальние окрестности… Делал наброски, рисовал людей, избы, пейзажи: этот остров с его пологими холмами и низкими берегами, который, как мне говорили, медленно, но неотступно поднимается из воды… Стояла чудесная ясная погода, светотени были почти такие же резкие, как в Италии. Мне казалось, что у нас на севере с его туманами раньше я таких не видывал… Нет, я не стал спрашивать у госпожи Гернет, в английском ли стиле происходило совсем недавно все то, о чем рассказывал мне кругом деревенский народ… И прежде всего один человек из деревни Когри, по имени Тоомас Куузик… Ого-го-го! Если бы чаще встречались такие люди, как он, этому народу можно было бы в будущем на что-то надеяться… Помню, как я постучался и вошел к нему в избу. (Мне захотелось нарисовать его кузницу, и я пошел спросить разрешения. Но ведь известно, что сразу прямо спрашивать не полагается. Да и вообще мне было интересно поговорить.) Здороваюсь и вижу: в комнате у стола сидит коренастый с живыми глазами человек лет сорока пяти, он отвечает на приветствие и жестом приглашает меня сесть на скамью, и мне надлежит, как положено, на это ответить. А я ведь не мастер сходиться с людьми. Я это за собою знаю. Хотя в Петербурге мне приходится ежедневно обмениваться любезностями с министрами и гофмаршалами, а этот человек там у стола, может быть, только раз в месяц беседует с кэйнаским кистером… и тем не менее он (как и всякий человек) – особый мир. Здоровое загорелое лицо, заросшее светлой щетиной, и выжидающе вытянутые трубочкой губы, а в глазах – искорки смеха. (Я уже несколько дней бродил там, и он, разумеется, знал, что я с мызы, да об этом можно было судить и по моей одежде, и я вижу, что это его нисколько не смущает…) Да, он настолько особый мир, что, приближаясь к нему, я чувствую, что становлюсь неуклюжим… Хотя я каждую неделю разговариваю с самим государем… Я вижу, что на бревенчатой, черной от копоти стене висят часы с эмалированным циферблатом, такой красоты, какие далеко не в каждом приходе в избе встретишь. Смотрю на них и говорю:
– Ишь какие красивые часы у хозяина на стене висят. А что, они и бьют небось?
Тоомас Куузик – деревенский коваль – глядит на меня вполне серьезно, а все же я чувствую, что где-то он прячет смех:
– А кто их знает! Своих-то доселе не били.
В последующие две недели Тоомас рассказывал мне о многом: о том, например, как пять лет назад сам губернатор фон Грюневальдт с двумя ротами солдат явился на Хийумаа, все из-за тех же нерадивых косцов, которые просили дать им в помощь десятого на десятину. Как мужикам приказали явиться на мызу, а они сбежали в лес. Тогда им сообщили, что солдаты прибыли будто бы по совсем другому поводу. Не думайте, дескать, болваны, что господин губернатор с государевыми солдатами ради такой погани, как вы, пожаловал сюда, за море. У него здесь поважнее есть дела, чем ваши выпоротые спины да задницы, его интересуют возчики и телеги. А когда беглецы поверили этим словам и вышли из кустарника, тут уж разбирательство и порка пошли полным ходом… И господин фон Гернет точно так же, как и остальные мызники, стал изображать из себя защитника и потворщика. Благодетеля, который упросил сурового губернатора смягчить наказание введенным в заблуждение крестьянам – дать сотню ударов вместо двухсот, шестьдесят вместо ста, тридцать вместо шестидесяти… В конце концов тридцать получил один только хейнпууский Юхан и то только потому, что всегда был послушен и почтителен, и за то еще, что добровольно назвал имена заводил…
От Тоомаса я узнал не только о том, что происходило за пять лет до того. Во время наших бесед, за которыми мы засиживались нередко за полночь, он рассказывал мне о том, что тогда происходило в Хийу. В тот самый час, когда мы с ним сидели, прислонившись спиной к стене кузницы, и на скамье между нами стоял жбан с пивом, и мы оба смотрели, как в сумеречном свете между кустами можжевельника удивительно медленно, точно бумажные, парили чайки, в ту самую ночь, и в тот самый час из гавани Большой должно было отойти судно, на борту которого находилось сто пятьдесят человеческих душ, сто пятьдесят маарьямаасцев. Я ясно представил себе сжатые зубы и влажные от слез глаза у людей, навсегда покидающих Маарьямаа [36]36
Маарьямаа – Земля Марин – древнее название Эстонии.
[Закрыть]в надежде найти где-нибудь жизнь, достойную человека…
Ночью, возвращаясь от Тоомаса на мызу, я шел межами через поля и пастбища. На земле лежала обильная роса. В можжевельнике летали чайки, а в зареве зари белели ваэмлаские строения и чернел парк. Теперь, через шестнадцать лет, мне начинает казаться, что именно там это и произошло: в воротах усадьбы перед каштановой аллеей пришла мне в голову мысль, которая и посейчас не дает мне покоя… Нет, очевидно, она возникла у меня много позже, мысль о том, что мне следовало бы поискать заступников людям, бежавшим от голода и насилия, чтобы подготовить для них там, далеко, на привольном юге, новый кров… Желание, осуществить которое у меня до сих пор не нашлось времени, но оно все еще живет в моем сознании…
А через несколько дней за утренним кофе я не только слушал другую сторону, но и пошел в наступление. Рихард и его супруга Молли к тому времени тоже уже были в Ваэмла. В тот день к завтраку съехались и соседние мызники. Штакельберги приехали со своего острова Кассари в коляске с большими колесами: ехать нужно было частью по каменной и галечной дамбе, которую как раз в то время возводили в море между владениями Гернета и Штакельберга, частью же прямо по мелкой воде. Оба прибывших семейства были с детьми, их оказалось десять человек, и обычно тихие дом и парк наполнились шумом и гамом. Хоть про отпрысков нашего дворянства и написано, что они не столько дети, сколько маленькие заводные автоматы Дро.
Мы сидели на веранде в удобных плетеных креслах, которые поскрипывали, мужчины – в чесучовых костюмах, дамы – в кисейных платьях пастельных тонов (старшие дочери Штакельберга считались уже взрослыми). Сам кассариский Штакельберг довольно бесцеремонный старик, толстый и неряшливый. Во всяком случае, и он и его супруга производили впечатление больших провинциалов, чем Гернеты. Младшие дети уже позавтракали и убежали в сад, лакей и горничная второй раз подали на стол ароматный свежий кофе. И вишневый ликер в крохотных рюмочках. Я спросил:
– Господа, а не кажется ли вам, что подобное переселение свидетельствует о том, что в условиях жизни этих людей что-то неладно.
– Это, знаете ли, – сказал Рихард, – не что иное, как просто естественный отбор.
Кстати, он был довольно схож лицом со старшим братом (между ними разница в два года). Только Рихард, который занимался теорией у себя в кабинете, казался бледным рядом с загорелым, обветренным Рудольфом, настоящим сельским хозяином. И Рихард щеголял модными тогда словами «естественный отбор», будто не я, а он за несколько лет до того ловил вместе с Геккелем на Капри моллюсков и философствовал на тему естественного отбора…
– Удирают неумелые и беспокойные, – добавил Рудольф. – И я не стану им препятствовать. Если их вернет полиция, ну что ж. Тогда они будут старательнее и покорнее. А не вернет – пусть катятся ко всем чертям. Стоящий народ, который не бежит, и их работу сделает.
Рихард дополнил свою мысль:
– Посудите сами, господин academicus, в наших относительно малоблагоприятных природных условиях, я имею в виду для сельского хозяйства: камни, песок, болотистая почва, короткое лето, островное положение, и при этом сравнительно высокий экономический уровень ведения хозяйства – просто не все могут справиться.
Штакельберг откровенно зевал, а дамы беседовали о тюльпанных луковицах. Я сказал:
– Все же, господа, я позволю себе вернуться к условиям их жизни. Посмотрите вокруг. Сравните посевы на ваших полях и на крестьянских. Разница между ними разительная.
– Разумеется, – ответил Рихард. – Но это происходит оттого, что немецкий способ ведения хозяйства совсем не то, что эстонский.
– А от чего это в свою очередь зависит? – медленно спросил я.
– От того, что немец умеет думать, а эстонец – совершеннолетнее дитя.
– А отчего это происходит? – спросил я очень тихо, но господин Рихард не обратил внимания на мой тон.
– Это же, естественно, вследствие разницы уровней.
Я сказал:
– Благодарю вас, господин Рудольф, что, услышав это, вы пытались наступить брату на ногу (я заметил, как под столом Рудольф старался толкнуть ногой Рихарда, но не смог дотянуться, ему мешали оплетенные ивовыми прутьями планки между ножками стола). Благодарю вас. Однако я надеюсь сам справиться с этим утверждением.
Улыбаясь от замешательства, Рудольф сказал:
– Рихард, ты должен понять, что господин Кёлер считает дурным тоном скрывать свое эстонское происхождение.
Рихард даже не покраснел. Он забормотал «О-о… М-да…» и быстро добавил:
– В таком случае господин Кёлер являет собой то редкое исключение, которое лишь подтверждает правило.
Я сказал:
– Оставим меня в стороне. Но будем иметь в виду, что на Ваэмлаской мызе работают эстонцы. Все до единого эстонцы. И в наших природных условиях ваэмлаские поля, будь они в каких угодно немецких руках, лучше обработаны бы не были. Садовник и его помощники эстонцы. А ваэмлаский парк можно перенести куда угодно – в Германию, в Англию, он выдержит сравнение. Управитель Ваэмлаской мызы эстонец. Как и в большинстве других мыз. Следовательно, у нас в дворянских имениях хозяйство, по существу, ведут эстонцы. И если при этом их собственное хозяйство влачит вопиюще жалкое существование, то это никак нельзя отнести за счет их нерадивости, очевидно, это зависит от чего-то иного.
– От чего же, по вашему мнению? – спросил Рихард.
– От системы, в силу которой мыза их полностью высасывает. Так что у них не остается сил ни для ведения собственного хозяйства, ни для души.
– Позвольте, господин Кёлер, – воскликнул Рудольф, и я мог убедиться, что передо мной более искусный оппонент, чем обычно бывают подобные ему провинциальные помещики, – в чем же можно упрекнуть систему, если у нас имеетесь вы?!
Я не понял его. Честное слово.
Рихард пояснил:
– Тот факт, что существуете вы, господин Кёлер, блистательно доказывает, какие возможности предоставляет эта система. Не так ли?
Я встал. Мне даже удалось улыбнуться. Я сказал:
– Господа, ваше ведение спора, очевидно, сделало бы честь «Journal des Débats». Но здешнему либеральному дворянству оно чести не делает. Позвольте мне теперь пойти поработать.
– Великолепно, – воскликнула госпожа Молли фон Гернет, – кого же из нас вы хотите рисовать?
В тот момент вопрос этот прозвучал совершенно бестактно. Я и без того с трудом сдерживался, чтобы не нарушить приличия, и тут я уже не выдержал. Я оглядел сидевших за столом слева направо:
Веснушчатая капризная семнадцатилетняя Габриэла фон Штакельберг. Ее пятнадцатилетняя прыщавая сестра. Рудольф фон Гернет, в сущности, наиболее колоритная фигура среди присутствующих, но и он совершенно посредственный тип. Его супруга с угловатым, озабоченным лицом. Рихард фон Гернет – аристократ с канцелярской душой. Пустенькая госпожа Молли, с капельками пота на курносом носу. Развязные Штакельберги, особенно Эдуард, в своих стоптанных охотничьих сапогах, живот под чесучой переваливается через брючный пояс… (А в то же время именно он пять лет тому назад уступил крестьянам, дал им лишних косцов, и в Кассари не было ни порки, ни наказаний. Да, но в принципе это дела не меняет. Нет!) Я смотрел на них, на это общество, которое было элитой страны (но не солью ее, не солью! Соль находилась где-то в другом месте!). Здесь были цвет и власть ее! Впрочем, когда власть не бывает цветом, и наоборот? Бесчувственные, непреклонные люди без настоящего образования, люди, единственное стремление которых заключается в том, чтобы сохранить неизменным существующий порядок. Ибо только существующий порядок хорош. Поскольку при нем они – цвет и власть… О, я отлично видел кости эгоизма под наружными формами, прикрытыми чесучой… Я повернулся к господину Штакельбергу. Возможно, как бы в наказание за то, что он уступил и дал лишних косцов, и тем нарушил некую ясность… Я сказал:
– Господин Штакельберг, не скажете ли вы своему кучеру, чтобы он мне немного попозировал.
Я сразу заметил этого кучера, еще утром, когда Штакельберги подъехали к нашим дверям. Но, может быть, я не стал бы его рисовать, не спровоцируй они меня на это.

Через некоторое время кучер явился ко мне на веранду, и я рассмотрел его вблизи. Утром, когда он сидел на облучке перед подъездом, мне бросилось в глаза его ясное и самоуверенное лицо, а позже я видел его в окно: он вел лошадей к конюшне, поил их и надевал на них торбы с овсом, и я обратил внимание на его красивую статную фигуру и уверенные движения. Нужно сказать, что вблизи он мне как-то меньше понравился. Да. Из-за раболепия, выработанного столетиями, с которым этот молодой мужчина стоял перед чужим господином. Я всегда ненавидел это мужицкое подобострастие, оно оскорбительно не только для них для всех, но через них и для меня. Я, конечно, бессилен их изменить. И в то же время я опасаюсь, что если суждено когда-либо свершиться чему-нибудь в духе Якобсона, то первые сто лет они станут столь безмерно заносчивы, что я, того гляди, буду оскорблен не меньше…
Все же я решил рисовать этого кучера. Ибо в нем что-то для меня очень родное было довольно своеобразно смешано с чем-то совсем чуждым. Загорелое смуглое лицо слегка чужеземного склада. Черты удивительно четкие. Лицо почти библейски чистое. Но не просто богомольное, какое, казалось, было бы единственно возможным в этом случае в нашей стране. А значительное и лишенное всякого фарисейства. В самом деле. И тем не менее это было лицо крестьянина. Под каштановой бородой виднелся вырез наивной белой рубахи, к пиджаку из домотканины прилипли стебельки сена, и при всем этом от него исходил такой знакомый мне запах сапожного дегтя и лошадей.
Я велел ему положить на плечо топор, лежавший возле конюшни, и стать тут же у забора. Когда я уже набрасывал на холст контуры, все общество собралось смотреть на нас и господин Штакельберг сказал:
– Ничего не скажешь, мой Виллем молодец, умный парень. Он отлично справляется с лошадьми. Умеет шорничать. Лопочет по-немецки и пишет не хуже писаря. Умеет и ткать. И знаете, время от времени он даже подает мне идеи. Вот, например, это была его мысль, что нам с Гернетом следует построить насыпную дорогу между нашими островами.
Возможно, это был один из обычных штакельберговских фортелей. Но сказал он это по-эстонски, чтобы Виллем все понял. И Виллем не стал возражать, он даже как будто снисходительно усмехнулся, что мне особенно понравилось.
В последующие дни я сделал с полдюжины набросков и этюдов с этого славного парня, штакельберговского кучера, часть в Ваэмла, часть в Кассари. И здесь и там я продолжал вести беседы о положении крестьян. Я спрашивал:
– А вы не считаете, что крестьянам нужны реформы? Чтобы они получили землю в собственность?
– Да-а, нужны-ы, – сказал Рихард, – но только еще не теперь!
– Почему не теперь?
– Боже, – воскликнули три господина в один голос, в том числе и господин Штакельберг, обычно во время наших разговоров зевавший, – вы что же, не читали последних газет? И не слышали последних столичных новостей? Вы же знаете, как все еще неспокойно после великого освобождения в России. Вы же знаете, что происходит в Польше! Волнения с часу на час все усиливаются. В Литве объявлено военное положение. В Варшаве совершено покушение на жизнь великого князя Константина. И это переселение от нас тоже не что иное, как своего рода бунт!
– И Америка истекает кровью из-за тех, которые пресмыкаются перед неграми. Там идут ужасные бои. С божьей помощью генерал Ли отогнал врагов. – Это была госпожа Мимми фон Штакельберг. Для меня было полной неожиданностью, что эта дама следит за мировыми событиями.
Рихард фон Гернет добавил:
– Поверьте, господин academicus, что мы – здешние дворяне – люди либеральных взглядов. В свое время и в той мере, в какой это нужно, мы сделаем все, чтобы облегчить участь крестьянина.
Рудольф дополнил:
– Ибо мы принадлежим к тем людям, которые давно поняли: в конечном итоге то, что выгодно крестьянину, выгодно и нам.
И теперь мне стало известно, что с присущим Вам пылом «младоэстонца» Вы изобразили для своего народа в таллинской церкви Каарли национального Христа, т. е. мужицкого Христа. И будто бы придали ему лицо кучера моего соседа Штакельберга. Я пишу Вам это письмо, ибо вполне допускаю, что эти разговоры имеют под собою почву. Буде же это просто досужая болтовня, не читайте вовсе моего письма. Однако же, если это правда, то мне хотелось бы Вам сказать… дозвольте, дорогой господин Кёлер, я буду с Вами вполне откровенен. Допускаю, что в какой-то мере мною движет задетое самолюбие. Допускаю, что в наших спорах шестнадцатилетней давности Вы одерживали верх в большей мере, чем мне бы того хотелось. Я помню, что Вы тогда только что прочитали эту позорную книжонку, полную анонимной клеветы и яда, которая была тогда притчей во языцех (я имею в виду брошюру под названием «Эстонец и его господин») [37]37
«Эстонец и его господин» («Der Ehste und sein Herr») – Книга о тяжелом положении эстонских крестьян, разоблачавшая аграрную политику прибалтийских мызников. Она вышла в 1861 г. в Берлине анонимно, ее автором был, по-видимому, В. Т. Благовещенский (1802–1864), педагог и публицист, преподававший русский язык в прибалтийских городах.
[Закрыть], и оказались достойным противником в спорах со мной и Рихардом. Особенно еще в силу Вашего бурного темперамента. (Между прочим, все эти годы я испытывал известный интерес к Вам и Вашему искусству и должен сказать, что в Ваших картинах, во всяком случае в тех, которые мне случилось видеть, в большинстве случаев я этого темперамента не обнаруживал.) Итак, допустим, что моя откровенность в какой-то мере инспирирована задетым самолюбием. Но главная ее причина кроется в моем пристрастии к правде. И в моем стремлении освобождать от незрелых иллюзий людей, пользующихся моим уважением. Я полагаю, что фиаско, которое Вы потерпели с Вашим национальным Христом, символизирует несостоятельность Ваших национальных иллюзий. Вы тем более будете вынуждены это признать и как художник, и как национальный деятель, когда Вам станет известно, что представляет собою человек, послуживший Вам моделью.
Ах так! Ах вот о чем ты стараешься! Ты хочешь, чтобы я это узнал прежде, чем моя картина будет освящена! Но каков ты сам, Рудольф фон Гернет. Об этом ты так и не удосужился мне написать, хотя в твоем распоряжении было целых одиннадцать лет. Да-а, одиннадцать лет прошло с тех пор, как всем, кому довелось про тебя услышать, стало ясно, каков ты есть. Мне это довелось, да, а теперь ты хочешь, чтобы и тебе пришлось это услышать… Э-эх, ты, провинциальный мефистофель, пытающийся освободить меня от иллюзий…








