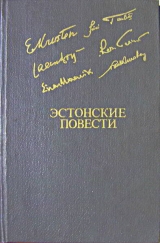
Текст книги "Эстонские повести"
Автор книги: Рейн Салури
Соавторы: Пауль Куусберг,Эйнар Маазик,Яан Кросс,Юри Туулик,Эрни Крустен
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Я доедаю кусок хлеба. Хорошо, что Эллы здесь нет… А все-таки было бы куда лучше, если бы она была здесь… Я ставлю будильник на семь часов. К чему мне утруждать коридорных, если у меня с собой мой старый будильник. Я чищу зубы над мраморным умывальником, принимаю таблетку опиума, выписанную Кареллом. Когда у царя бессонница, он тоже принимает эти таблетки. И ложусь в постель.
Я кладу на голову вторую подушку, чтобы не слышать уличного и привокзального шума. Но, конечно, сон сразу не приходит. Сначала я опять вижу тех самых жандармов [68]68
…вижу тех самых жандармов… – упоминаемый обыск происходил в квартире Кёлера в ночь с 18 на 19 октября 1866 г. (по ст. ст.), о чем Кёлер пишет в автобиографии. Там же он описывает свое посещение обер-полицмейстера генерала Трепова, которому подал жалобу (черновик ее сохранился). Во время этого визита генерал Трепов действительно упоминал Каракозова, правда, не так, как описано в сновидении. Трепов сказал: «Господин профессор, я приказал произвести обыскивание вашей квартиры, ибо мне надлежит отвечать за то, чтобы история Каракозова не повторилась». (Дмитрий Каракозов за несколько месяцев до того, точнее, 16 апреля 1866 г., стрелял в царя.) Разумеется, слова Трепова не что иное, как типичный полицейский цинизм. Даже Трепов не подозревал Кёлера в намерении совершить покушение на царя. У Кёлера был произведен обыск потому, что у него не раз бывали выборные от эстонских крестьян.
[Закрыть], которые ворвались ко мне ночью в шестьдесят шестом году. Только в полусне обыск не проходит так безрезультатно, как он прошел на самом деле. Тогда они ничего не нашли. Но теперь, в кошмаре, они отыскивают в моей квартире самые страшные вещи… Я уже много раз переживал это, находясь на грани бодрствования… Они открывают ночной столик. В нем мазь от ревматизма, сердечные капли и эти самые снотворные таблетки. Но они вынимают оттуда с усмешкой хорошо осведомленных людей большую коробку, сплошь покрытую штемпелями, – ей-богу, никогда раньше и этой коробки не видел, но я сразу же знаю, что в ней, так как это тот самый пакет с патентованным французским лекарством от печени, присланный царю из Брюсселя и взорвавшийся в ту минуту, когда Боткин, второй лейб-медик, начал его вскрывать. Так что Боткин только чудом уцелел. Я заверяю их: Боже мой, господа, я ничего про все это не знаю, ровно ничего, поверьте мне…А они поворачивают к стене стоящие на мольбертах портреты царя и наследника престола, и высокопоставленных дам… – и по углам в комнате у меня лежит стопками сложенный «Колокол», а на оборотной стороне холстов повсюду портреты Гарибальди [69]69
Гарибальди Джузеппе (1807–1882) – итальянский народный герой, борец за освобождение и объединение Италии.
[Закрыть]… Потом, несмотря на все это, я стою в кабинете генерала Трепова и в руке у меня жалоба – все в точности так, как было на самом деле – жалоба по поводу противозаконного наглого вторжения и обыскивания… И господин обер-полицмейстер встает и любезно идет мне навстречу – совсем не так, как было на самом деле, деревянно и почти с криком, – он любезно идет мне навстречу, мундир у него расстегнут, правое плечо и шея забинтованы белым бинтом, из-под которого виднеется вата, и я говорю: «Господин генерал, ведь Вера Засулич будет стрелять в вас еще только через тринадцать лет, почему же вы уже сейчас…» Но обер-полицмейстер ие дает мне досказать (он и тогда почти что не дал мне слова вымолвить), он берет меня под руку и говорит: «Дорогой господин Каракозов, оставим этот разговор, газеты, конечно, пишут, что я уже совершенно здоров, но ни вас, ни меня они не введут в заблуждение. Ха-ха-ха-хаа…» Я пытаюсь вырваться, но не смею сделать это достаточно решительно. Я говорю: «Боже мой, ваше высокопревосходительство, вы ошибаетесь! Я вовсе не Каракозов. Никогда в жизни я не посягал… на его императорское величество». «Я знаю, я знаю, господин Каракозов», – говорит генерал, и мы с ним летим (из его белой повязки на правом плече мундира у него выросло белое ватное крылышко, на левом вместо крыла он размахивает эполетом с бахромой), и мы летим вдвоем по воздуху, влетаем в слуховое окно в задней стене церкви Каарли… Я начинаю подниматься по приставной деревянной лестнице к абсиде, генерал следует за мной. И когда я останавливаюсь лицом к стене, на другой стороне которой изображен мой Христос (так ли ставят тюремных узников, чтобы они не видели, кого проводят за их спиной, следовало бы спросить генерала Трепова), он кладет обе руки мне на лопатки и начинает прижимать меня к стене. Он как-то удивительно ловко вдавливает меня в сооружение из камней и сосновых досок, которое я велел построить в нише абсиды, и в четыре тысячи железных гвоздей, которые я велел сюда вбить, и я думаю: у таких вельмож, даже когда они ранены, чудовищная сила… И вот я уже протиснут сквозь семь слоев штукатурки и слился с красками. Я смотрю вниз на приход. Теми самыми, мною написанными глазами, о которых говорят, что они смотрят прямо в глаза каждому находящемуся внизу, где бы он ни стоял… И семьдесят мужиков из самого сердца Эстонии… Нет-нет, три тысячи человек смотрят снизу мне прямо в глаза, взгляд которых неотвратим… Я хочу крикнуть: люди, не смотрите же так на меня!А приход встает и начинает аплодировать, и их аплодисменты обволакивают меня, как плотная серая вата, и душат… душат…
Мы входим в церковь через боковую дверь со стороны канцелярии: я иду впереди, за мной следуют старосты прихода. Между лиловатыми грозовыми тучами проглядывает солнце, церковные стены светлеют, и вспыхивают блики на медных паникадилах. Мгновение я стою вместе с ктиторами перед тремя тысячами пар глаз. Я спокоен и холоден. И это мне удается, это мне удается. На мне черный сюртук, в прошлом году перед поездкой в Париж заказанный вместе с фраком у Фишера на Гороховой. В серый галстук я воткнул жемчужину. Я смотрю на сидящих на скамьях и стоящих в проходах. Потом начинаю проталкиваться сквозь толпу. И хотя все передо мной почтительно расступаются насколько это возможно, я едва продвигаюсь.
– «Простите», «Будьте так любезны», «Будьте так любезны», «Простите, что мы…» «Пожалуйста, господин профессор…», «Разрешите вас приветствовать, господин профессор…», «Радуюсь чести видеть вас…», «Пройдите с этой стороны, отсюда, отсюда, пожалуйста», «Вечная вам благодарность за лик нашего Спасителя…»
Я иду сквозь тихую волну их почтительности, касаясь их плеч и одежды, сквозь шорох их движений, сквозь их дыхание и запахи… Я спокоен и холоден. Я должен с собой справиться… (Стиральное мыло, банный веник, пот, дешевые духи «Vergißmeinnicht» [70]70
Незабудки (нем.).
[Закрыть], трубочный нагар, конюшни… сосновые стружки, железные опилки…) Сквозь их дыхание… Я должен с собой справиться… Я отвожу взгляд от их глаз… Первый ряд справа от кафедры оставлен свободным. Мы проходим к нему. Прежде чем повернуться спиной к приходу и сесть, я смотрю на толпу и вижу: с краю в третьем ряду, у самой кафедры, длинное лицо и бакенбарды господина Гернета. Я ведь знал, что он где-то здесь. Я почти рассмеялся. Я делаю легкое движение правой рукой в знак того, что узнал его. Еще левее – мой брат Карл с семьей, и брат Тынис, приехавший из Петербурга, и Георг здесь, и Ханс со своей толстой Лизо, и разные лубьяссааресские Кёлеры, которые из почтения не решились ко мне подойти и которых таллинские Кёлеры (таково у нас все же, слава богу, чувство солидарности) сегодня насильно усаживают в первых рядах… Теперь что-то заставляет меня посмотреть еще дальше налево: и у меня подпрыгивает сердце и по всему телу разливается тепло от испуга и радости: Элла! Она здесь! Я не понимаю, почему она так неожиданно приехала в Таллин… Но мне от этого невероятно радостно… Даже если ее приезд означает, что в Петербурге что-то случилось, что-то дурное – кто его знает, что могло случиться за три недели моего отсутствия… Во всяком случае, мне до боли радостно… Она сидит в тридцати шагах от меня, ее черные локоны под белой шляпой в стиле бидермейер, напоминающей корзинку для цветов, оживленно растрепались. Она ловит мой взгляд и ободряюще мне кивает. Я киваю ей в ответ: Элла…
Мы с ктиторами занимаем места. И я чувствую, что Элла там, за моей спиной, и никакой ветер из карелловской двери до меня не доходит. Вступает орган. Раздаются высокие торжественные звуки, и могучий гремящий водопад низвергается на нас. Я сижу… и мне это удается, мне это удается… Сижу выпрямившись, с холодным лицом. Как решил. Я поднимаю глаза, смотрю на моего Христа и быстро снова опускаю взгляд. Потому что много соображений чисто технических и таких и иных неиспользованных возможностей и сомнений мелькает у меня в голове. Я слушаю: этот бледный молодой человек по имени Мартин Липп где-то говорит, приход встает, опускается на колени и снова садится, орган гремит, могучий каскад льется через меня. А я, как улыбающийся пень среди потока…
Улыбающийся пень со своей тайной думой. Элла… я же не могу встать и повернуться спиной к алтарю, чтобы увидеть ее. Но я знаю: она здесь. Вопреки моему совету, но повинуясь желанию моего сердца, приехала из Петербурга. Я чувствую ее присутствие, думаю о ней каждой клеточкой тела. Как только умеет думать мужчина, встретивший любовь, когда на это уже не было никакой надежды… Я думаю: Элла… Это ослепительное тело, нежное и в то же время неожиданно сильное. Ее прекрасная душа, ее образованный ум… Ее умение так практически думать, что будь это не она, а кто-нибудь другой, могло бы стать страшно…
– А я, – думается мне, – здесь, как пень среди зыбящейся реки, точимый червем знания и сомнения… Ибо – боже мой – в конце концов, сострадания заслуживают все… все… (и как только эта мысль приходит мне в голову, я уже заранее знаю, к чему она приведет, к чему она всегда приводила…). Все… В конечном счете, любой человек являет собою жертву… Гернет с его потугами снять вину со своего сословия. Карелл с его тихой, благоразумной терпимостью, которая, в сущности, не что иное, как трусость, с его раздражающей борьбой между добротой и нерешительностью, непрестанно происходящей в нем под всеми его регалиями… И я сам, со всеми моими идеалами искусства, красоты, и гармонии, над которыми нынешняя молодость глумится… с моим спокойствием, за которым, по мнению одних, предательски таится пылкость, а по мнению других – равнодушие, с моим Христом, оказавшимся разбойником! И Крейцвальд! И он тоже. С его проклятой беспощадной желчностью! И папа Шульц – теперь он уже в могиле – с его дурацким легкомысленным эпикурейством! С его болтовней. Которая любому давала основание для каких угодно разговоров… И Элла… Господи! Я ничего не могу с собой поделать, меня гнетет эта мысль, я могу только вслух повторять (все равно за громким пением прихожан никто этого не услышит), я могу только повторять: это ложь, ложь, ложь, все, что Крейцвальд некогда сказал про Эллу своим знакомым! Я всегда это помню, эта мысль неотступно со мной, как будто какое-то скользкое, мерзкое животное шевелится у меня в черепе… Будто бы доктор Шульц ценою своей плоти и крови стал цензором, он сделал карьеру на том, что согласился, чтобы Элла стала возлюбленной (о господи, мне кажется, что во рту у меня вкус трупа) старого Владимира Федоровича Адлерберга, министра двора его императорского величества, этого восьмидесятилетнего напудренного шимпанзе… И, по словам Крейцвальда, Элла выполнила волю отца… Значит, это могло быть в шестьдесят шестом… когда доктор стал секретарем министерства двора… нет, это ложь! В этом не может быть ни крупицы правды. Ибо даже если все остальное, что говорит против этого – самое существо Эллы – еще ничего не означало бы (ее склонность к религии, ее стремление к чистоте можно было бы объяснить формулой кающейся Магдалины, а ее привязанность ко мне, мое необъяснимое счастье, как я его называю, после ее падения было бы даже понятнее…), то одно обстоятельство все же не могло быть ни комедиантством, ни отчаянием: ее глубокое уважение к отцу. Которое мне известно и в подлинности которого я не ошибаюсь. Нет-нет-нет! Элла, прости, что я опять об этом думаю. И за то, что стал доказывать немыслимость этого, как будто еще нужны доказательства, я же знаю тебя… Прости меня, но ведь мы все жертвы… совсем не обязательные и все же неизбежные… Но чего? Чего именно?! Порой мне кажется, что я близок к пониманию… Кажется, что именно сейчас, в этот момент… если бы только так не гремел орган…
– Ах, церемония закончилась? Орган уже сопровождает выход из церкви?
– Да-да, спасибо, спасибо… Да это не стоит благодарности…
– Да, мне очень приятно… Я помню: в три часа на Вышгороде, в доме прихода… вручение кубка и угощение… Благодарю вас, благодарю вас… Но, прошу прощения, в данную минуту я очень тороплюсь…
Я быстро иду сквозь толпу поздравляющих и приветствующих. Пробиваюсь вместе с потоком выходящих людей. Болезненная, мучительная мысль отодвинулась, я думаю: так что же, чьи же мы жертвы? И что сильнее этого? Что может быть искуплением? Или хотя бы только началом искупления… Хотя бы намеком на него…
Элла стоит справа от входных дверей, между скамьями, и ждет… Я останавливаюсь перед ней. Стоя на подножке скамьи, она на полголовы выше меня. Она пленительно прелестна в белом, совсем простом платье. Я беру ее руку, обе ее руки в свои.
– …Элла… Здравствуй… Что-нибудь случилось?
– Джанни, я хочу тебе сказать, что твой Христос весьма интересен.
– Элла, почему ты вдруг приехала в Таллин?
– Вчера вечером вдруг почувствовала, что я нужна тебе…
Я держу ее руки: белые, как всегда без колец, вдохновенные руки. Я прижимаю их к своей редкой рыжеватой бороде. Я целую их. И говорю тихо, почти со стоном:
– …Элла как я люблю тебя…
Она смотрит на меня расширенными от удивления глазами. Я быстро добавляю:
– Пойдем. Погуляем, подышим воздухом. До трех я свободен. И вечером, разумеется, тоже.
Мы выходим из церкви. Я спрашиваю:
– В Петербурге ничего не случилось, ничего плохого?
– Плохого?.. Как отнестись?
– Ну?
– Позавчера Карелл подал в отставку.
– Карел?! Кто тебе сказал? – Я спросил без всякой задней мысли.
– Владимир Федорович.
Ответ прозвучал с избавляющей простотой. Он меня не задел. Скорее от чего-то освободил. Так же непредвзято, как только что я спросил:
– Каким же образом именно он тебе об этом сказал? – Ибо это все-таки неожиданно: девяностолетний вельможа говорит Элле об отставке Карелла!
– Вчера утром на Невском. Я выходила из нотного магазина Юргенсона. Он велел остановить карету. У него сильный лорнет. Он еще сказал, что история с Кареллом может иметь значение и для тебя.
– А почему Карелл ушел в отставку?
– Царь приказал ему сделать Долгорукой [71]71
Долгорукая Екатерина – сначала возлюбленная, а с 1880 года морганатическая жена Александра II.
[Закрыть]аборт.
Французская манера Эллы называть вещи своими именами сама по себе очаровательна, но я все еще не могу к ней привыкнуть. И сейчас у меня подкосились ноги… Я спрашиваю как бы невзначай – ужасно смущаясь своего деланного безразличия (мужик, которому стыдно за придворного): – А кто тебе сказал о причине?..
(Дай бог, чтобы это был не Владимир Федорович. Господи, пусть это будет кто-нибудь другой, какая-нибудь женщина, например… Потому что если старик мог говорить с ней про аборт царской любовницы… Боже мой, я понимаю, что это еще ничего не доказывает, но моя душевная мука от сознания большей вероятности невообразимо усилилась… Господи Иисусе Христе, там наверху, за моей спиной, ты ведь тем лучше поймешь мою жалкую мольбу, что писал я тебя со злодея…)
– Мне сказала об этом графиня Берг.
– А-а-а. – Ко мне возвращается чириканье воробьев на каштанах. Я дышу полными легкими. Я спрашиваю:
– А что Карелл ответил царю?
– Ваше величество, если вы полагаете, что это входит в мои обязанности, то прошу вас найти мне замену.
– Он?! Императору?! Таким образом ответил?
– Ага.

Я все еще держу Эллину руку в своих. Мы движемся вместе с толпой вдоль церкви, в сущности, я даже не знаю, куда. Я закрываю глаза. Я слышу голоса в расходящейся толпе. Я чувствую, что душный воздух улицы все же свежее, чем в церкви, полной народа. Я чувствую: что-то произошло. Да-а. Уход Карелла, конечно, не такой уж большой подвиг. Но я читал у Канта: нравственный человек не тот, кому его добрые дела доставляют радость, но тот, кому приходится себя к ним принуждать… Может быть, Карелл не такой уж герой, каким его можно считать, судя по его поступку. Я же не знаю, во имя чегоон все с себя сбросил? Может быть, он считает, что не столько защищает свое собственное достоинство, сколько честь дома Романовых, которую, по мнению многих, царь запятнал Долгорукой… Черт его знает. Хотя мне хочется думать, что главная причина его шага с человеческой точки зрения более серьезна. Однако, в конечном итоге, это не так уж важно. Для меня в данный момент это попросту безразлично. Ибо я же сам сказал несколько минут тому назад: пусть будет хотя бы намек на искупление.
Я открываю глаза… и вижу длинное, кисло улыбающееся лицо господина Гернета.
Я улыбаюсь ему в ответ. Я готов даже махнуть ему рукой. Не для того, чтобы подозвать, а просто, чтобы подразнить. Но когда я шел с закрытыми глазами, я держал обеими руками Эллины руки, и мне не хотелось их выпускать. Я даже понимаю, что это неслыханно таким образом, на улице… Но, боже мой, ведь художникам за счет их суетности позволительна известная свобода, даже если этот художник academicus… Я понимаю, что мы могли бы и даже должны были бы, пропустив толпящихся между нами и Гернегом, подойти к нему, тем более что он повернулся в нашу сторону. Но мы идем дальше, а Элла сперва даже не заметила его. Поравнявшись с Гернетом, я говорю на ходу и притом, слава богу, чертовски непринужденно, как еще никогда не говорил с этим человеком.
– Вы видите, господин Гернет, у меня не найдется для вас времени.
– А сегодня вечером? – спрашивает господин Гернет, ничуть не обидевшись, потому что причина моей занятости – дама.
– И вечером тоже, – говорю я и сжимаю Эллину руку. – Сегодня вечером я возвращаюсь в Петербург, – я еще сильнее сжимаю ее руку – хлопотать о снятии запрета с «Сакалы», газеты моего скандального друга Якобсона.
– Разве это так неотложно?
– Когда речь идет о том, чтобы дать свободу слову, дорога каждая минута.
– О-о, – говорит господин Гернет, и я слышу по его тону, что он все-таки обижен. – А вы не думаете, что у меня создается впечатление, будто вы опасаетесь спора со мной…
Мы уже прошли мимо него. Мы сворачиваем на зеленую площадку Тынисмяги. Я успел подумать: там, на скамье, я расскажу Элле историю моей роковой модели, И я заранее знаю, что она мне скажет. Она скажет: «Джанни, это проблема только лично для тебя. И только в той мере, в какой ты сам делаешь из этого для себя проблему. Для искусства, истории и бога ее вообще не существует». Я успел подумать: в три часа я должен принять благодарственный кубок. В этом кубке есть доля неведомого и непреднамеренного яда. Как в каждом кубке, как, очевидно, в любом кубке!.. Я сжимаю Эллины руки, оглядываюсь через плечо и говорю:
– Возможно, у вас в самом деле сложится такое впечатление. Однако позвольте вам сказать: меня это нисколько не волнует.
Эйнар Маазик
Земля дышит
Перевод Элеоноры Яворской


Эйнар Маазик родился в 1929 г. в Нарве. Окончил Тартуский государственный университет, где изучал логику и психологию. Работал в районных газетах, в издательстве, в журнале «Лооминг».
Первый сборник рассказов «По родным проселкам» вышел в 1959 г. Уже в нем проявились основные черты художественного почерка писателя – задушевная интонация, лиризм, мягкий юмор, умение раскрыть духовную красоту простых людей, преимущественно сельских жителей.
Э. Маазик автор многих сборников рассказов, романов, пьес. Наиболее известные из них – «Спутница» (1960), «Лето в Коорукесте» (1967), «Конец легенды» (1970), «Вечера в Рихмакюла» (1975), «Земля дышит» (1982).
На русском языке вышли сборник рассказов «Несносный характер» (1962) и повесть «Семь дней Таави Туйска» (1972).
1
Ханнес Проост, мужчина лег пятидесяти с небольшим, поколесивший на своем веку как по морю, так и по земле, всюду искавший счастье, но нигде его не нашедший, в конце концов, обосновался в деревне Коорукесте, где купил себе маленький домик, который после смерти прежнего хозяина Санни долгое время пустовал и уже начал проявлять признаки разрушения, так что перво-наперво его пришлось подремонтировать, после чего он стал вполне пригодным для жилья;
…этот самый Ханнес Проост снял с вешалки зеленый рюкзак, с которым он ходил в магазин, и также зеленую, но уже порядком подвыцветшую легкую куртку, – при теперешней сухой погоде он надевал ее как на работу, так и в магазин; от посещения магазина на переду куртки появилось несколько лиловато-розовых, с расплывчатыми краями пятен, в результате работы – и на рукавах, и на переду, и на спинке – темные разводы от смолы, опилок и моха;
…этот самый Ханнес Проост повесил рюкзак на левую руку, перекинул через нее же и куртку, прошел по скрипучим половицам к двери, распахнул ее правой рукой – дверь тоже ходила с натужным скрипом – и шагнул в прихожую, куда из маленького смотрового окошечка в наружной двери лился тусклый свет… В прихожей Ханнес Проост повернул налево и отворил дверь в комнату. Оттуда без всякого зова или приглашения неспешно и деловито вышел погруженный в свои мысли дымчатый кот.
– Ну вот, – сказал Ханнес коту, – все остается, как мы договаривались.
Казалось, кот и впрямь помнил о договоренности с хозяином; в знак полного понимания он задрал хвост трубой и посмотрел на Ханнеса вопросительно, не последует ли еще каких-нибудь распоряжений или запретов.
Разговор, о котором Ханнес Проост напоминал коту, произошел во время обеда, когда Ханнес вернулся домой из лесу. Вообще-то Ханнес не имел обыкновения обедать дома – утром, отправляясь в лес, брал с собою собственноручно приготовленные бутерброды, прихватывал и бутылку молока, молоко он загодя, еще с вечера, приносил от Хельдуровой Эне; этого хватало до конца рабочего дня – не то чтобы досыта, но вполне терпимо. Однако нынешним утром Ханнес удалился от дома только на километр, заканчивал прореживание леса на горе Мейеримяэ. Ханнес даже пилу «Дружба» не взял, он успел повалить деревья накануне – большей частью это была примерно в руку толщиною береза, ольха и ель. Поэтому он лишь закинул за спину топор; придя в лес, Ханнес принялся обрубать со стволов сучья, а сам между тем думал, что здесь наберется несколько добрых возов веток для метел, была бы только охота вязать… Затем Ханнес начал стаскивать жерди в штабель – те, что потоньше, брал под мышку по нескольку штук разом, толстые таскал по одной, прижимал к боку с упором на бедро и волоком тащил за собою в общую кучу. Когда закончил работу, осмотрел лесной квартал: лес стал заметно реже и светлее.
– Полный порядок! – произнес Ханнес удовлетворенно, взял топор на плечо и отправился домой.
Дома он прежде всего сел за кухонный стол и закурил, потом сходил в кладовку, принес оттуда кусок окорока, отрезал хорошие толстые ломти, положил на сковороду, открыл газовый кран, отрегулировал пламя горелки, чтобы мясо не подгорело, затем разбил несколько яиц, залил ими куски мяса, когда же все как следует поджарилось, поставил сковороду на стол и стал есть.
Лишь тут он заметил, что Мяу пришел в кухню. Сидел возле плиты, но на него, Ханнеса, и внимания не обращал, смотрел куда угодно, только не ему в лицо. «Ясно, все еще сердится, более того, обижен. Понятное дело, я бы на его месте тоже обиделся, – пришлось Ханнесу признаться самому себе. – Сколько раз я ему говорил: «Послушай, пора бы тебе уже и за дело приниматься, я… – он чуть было не подумал «в твоем возрасте», но вовремя спохватился —…я на твоем месте ни за что не дал бы этим проклятым мышам покоя, не разрешал бы им шнырять по дому, того и гляди, глаза выедят». И не единожды было ему сказано: «Если уж говорить начистоту, я спас тебе жизнь, спас тебя для жизни, так что и ты тоже, хотя бы из чувства благодарности, мог бы что-нибудь для меня сделать».
Однажды (с тех пор прошло уже больше полугода), когда Ханнес был у соседей и помогал Хельдуру, Эне сказала:
– Аннес, будь добр, у моей кошки опять котята, возьми их да спровадь, ну, ты сам знаешь, куда…
– Опять?! – Ханнес удивился. – Что за чертовщина… А Хельдур не может, что ли, почему это именно я каждый раз должен твоих котят куда-то спроваживать?
– Да, не может… Он расстроится да напьется, а я стану браниться, и в доме будет ссора.
– Ну ладно, если ссора, так я сделаю… – согласился Ханнес.
– Только сделай до того, как у них глаза прорежутся, – попросила Эне.
– Ну да, хорошо… – пообещал Ханнес.
Пообещать-то он пообещал, но ох как не по душе ему было это, до того не по душе, что он некоторое время обходил соседей стороной. И кто знает, может быть, это и Эне было не по душе, ведь она тоже не заглядывала к Ханнесу. Позже, когда Ханнес все как следует обдумал, он пришел к выводу, что Эне нарочно с самого начала для совершения злодейства выбрала его, Ханнеса, а на Хельдура скорее всего наговаривала, дескать, он недотепа и неспособен сделать это, наверное, она угадала, знала, что на самом-то деле недотепа именно Ханнес и именно он-то станет уклоняться.
И через две недели, когда они вновь случайно столкнулись, Эне сказала: – Куда же ты запропал? У котят уж глаза вовсю глядят.
Похоже, она произнесла эти слова с чувством облегчения, голос у нее был почти радостный, хотя по выражению лица и можно было подумать, будто она сердится на Ханнеса.
И Ханнес ответил тоже с чувством облегчения и тоже радостным голосом:
– Ага! Ну что-ж, стало быть, эта операция опоздала.
– Да, запоздала, – согласилась Эне. – А все из-за тебя, что ж ты не пришел, когда была нужда.
– Раз ты любишь кошек, нечего тебе их губить. Оставь в живых, пускай ловят мышей да крыс! – дал Ханнес добрый совет.
– Не могу же я столько же кошек держать, сколько у меня крыс и мышей.
– Ну, какого можешь и в деревню отдать.
– Два уж отданы, – сказала Эне с торжеством. – Ежели еще ты одного заберешь да одного я себе оставлю, так все и будут при хозяевах. – И затем уже просительно и вкрадчиво, как только женщины и умеют:
– Нешто тебе труд – живешь один-одинешенек, будет тебе для компании, бросишь по деревне-то дружков искать. – И затем, будто цыган, который расхваливает свою лошадь:
– Котик-то доброй породы, будет крысоловом, какого не сыщешь. – И затем так, словно она уже была уверена в своей победе:
– Я уж и имечко ему подобрала, тебе одной заботой меньше…
– И какое такое редкое имя ты ему дала? – поинтересовался Ханнес.
– Почему редкое… Назвала Мяу…
И тут он, Ханнес, внезапно расхохотался, да так, что брюхо заколыхалось.
– С чего смеешься-то, Мяу не имя, что ли? – Эне обиделась.
– Ха-ха-ха-а! Имя, отчего ж не имя. Просто мне вспомнился один капитан, я с ним полмира обошел… У него фамилия была Мяу.
Так на том и порешили. Нельзя же оставлять на произвол судьбы тезку своего капитана. Прошел месяц, как-то Ханнес опять был у соседей. Эне сказала:
– Ты что, идешь прямо домой? Так прихвати Мяу, уже пора, не то дом не полюбит.
Что еще оставалось Ханнесу делать, сунул он тезку своего спутника по далеким морским рейсам, своего капитана Мяу, за пазуху, только ушастая голова торчала наружу – так они, двое мужчин, и топали домой в тот темный октябрьский вечер.
И с этого момента вплоть до весны следующего года, точнее – до конца апреля, еще точнее – до предутренних часов сегодняшней ночи (три часа, время первых петухов, уже не совсем ночь, но еще и не совсем утро) они жили вдвоем в полном согласии и взаимопонимании. Мяу не ленился мурлыкать, Ханнес, в свою очередь, обучал кота разнообразным, полезным для дела приемам: подкрадываться, прыгать, выслеживать и прочее… Но вчера ночью, нет, сегодня утром это…
…и случилось: Ханнес внезапно проснулся, вначале он никак не мог понять, что именно его разбудило, не молния ли ударила во дворе?.. Но звук сразу же повторился, он был очень знакомый и исходил из кухни. Когда же Ханнес прошел в кухню и включил свет, то увидел Мяу, – кот стоял посреди стола и смотрел на своего хозяина сверкающими от возбуждения глазами. А внизу, на полу, казалось, так же возбужденно сверкали осколки стакана, из которого Ханнес пил молоко. – Это ты тут буянишь?.. Пьян ты, что ли?! – прикрикнул Ханнес на кота, взял его за шиворот, поднял на воздух, дал свободной рукою шлепка по заду. – Не научился уважать ночной покой, так… – И Ханнес вышвырнул Мяу за дверь. – Побудь на дворе, покуда разума не наберешься!
Лишь утром, убирая со стола посуду, Ханнес догадался, что заставило Мяу среди ночи лезть на стол: край белого батона был будто сточен маленьким напильником – такую ювелирную работу могла проделать только мышь. Чтобы не возникало никаких сомнений, мышь оставила на столе и свою визитную карточку…
Тут-то Ханнес и понял, что был несправедлив к Мяу: кот внял его наставлениям, кот ловил первую в своей жизни мышь, а как поступил он, Ханнес?
Он бы сразу, уже с утра, и исправил свою оплошность, попросил бы прощения, но Мяу нигде не было видно. Так Ханнес и ушел на работу, отложив выяснение отношений на обеденное время. Вообще-то он уже утром предчувствовал, что задача эта не из простых…
– Ты что, все еще злишься? – спросил он Мяу. – Ну и зря… – Ханнес попытался заглянуть Мяу в глаза, но тот сидел к нему боком и на слова хозяина даже ухом не повел. – Зря ты сердишься. Ты просто-напросто избалован… И у Эне, и на хуторе Пыдра, и в Кээте, ну, я мог бы назвать тебе сто мест, где кошки в ночное время – на улице. А ты из-за какой-то одной ночи, нет, из-за половины ночи, устраиваешь скандал, – тут Ханнес почувствовал, что ведет себя нечестно, просто-напросто пытается выйти сухим из воды. В конце концов он сам, и уже с самого начала, приучил Мяу ночевать дома…
Ханнес посмотрел на кота с удивлением и даже с некоторой тревогой. Такого еще не случалось, чтобы в то время, когда он, Ханнес, ест, Мяу сидел бы в стороне да еще не обращал бы на него никакого внимания, даже не смотрел бы в его сторону. Похоже, тут одними извинениями не отделаешься. Придется, наверное… Да, если люди с этим свыклись, если задабривание и подкуп превратились, так сказать, в обычное средство общения, то почему бы в таком случае и кошкам…
Он поднялся из-за стола, взял с края тарелки ломоть ветчины и положил на пол перед котом. – Возьми, ну, возьми же! – Кот наклонился, понюхал, поднял голову, посмотрел в пространство, словно обдумывая что-то, взглянул разок на Ханнеса – не в упор и не пытливо или вопросительно, а так, словно бы мимоходом – и лишь после этого вновь склонился над куском ветчины, принялся его грызть.
– Ешь, ешь! – сказал Ханнес.
Ханнес вновь сел за стол, посматривая на Мяу, ест ли тот ветчину.
– Откуда мне было знать, что ты как раз ловишь мышонка, – произнес Ханнес. – Откуда мне было знать, что ты занят именно этим важным делом. Ну, остался без добычи, словно пес без сладкой кости… А, чего уж, признаю – моя вина… Так ведь я пытаюсь ее загладить. Мышей я для тебя ловить не стану, пойду принесу свежей рыбки, – Ханнес поднялся и отнес коту второй ломоть ветчины. Он не стал говорить ему, что так или иначе собирался зайти на рыбпункт, и вовсе не ради Мяу. Ханнеса самого уже два-три дня томило желание поесть свежей рыбы. Но зачем Карле знать об этом!
Когда они оба были уже на дворе, Ханнес вспомнил еще кое о чем (ведь вот, все время в голове держал, а тут вдруг забыл!). Он пошел назад в кухню, налил молока в пустую, специально для этого предназначенную консервную банку из-под килек, отрезал кусок хлеба, намазал его салом и засунул все это под скамейку возле двери.








