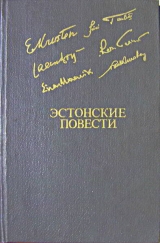
Текст книги "Эстонские повести"
Автор книги: Рейн Салури
Соавторы: Пауль Куусберг,Эйнар Маазик,Яан Кросс,Юри Туулик,Эрни Крустен
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Было похоже, что Ханнес собирается вернуться домой не так-то скоро.
Ханнес обогнул дом и зашагал прямиком по тропке. Длинные прошлогодние стебли пырея, полевого хвоща и ярутки полевой шелестели под его резиновыми сапогами – другим он помогал заготавливать сено, а траву возле собственного дома не смог, не захотел скосить! Тропка вывела Ханнеса к шоссе, и в конце концов, спустившись под гору, он вышел…
2
…к рыбному пункту и остановился перед дверью желтого вагончика (вагончик был доставлен сюда шефами, строителями мола и пристани, поначалу – для своих работников, чтобы им было где приткнуться, приготовить пищу и поспать; но за время строительства мола и причала шефы с рыбаками побратались, так что в итоге уже и не осталось чужих, все были своими; когда же одни «свои» закончили наконец работу и с тракторами, с бульдозерами и с экскаваторами собрались в обратный путь, то этот старый жилой вагончик просто-напросто оставили другим «своим») – да, Ханнес остановился перед входом в вагончик и прежде, чем нажал дверную ручку, услышал внутри него гул мужских голосов, а точнее, одного голоса, голос этот был знаком Ханнесу, и Ханнес, еще до того, как вошел, знал, что в вагончике находится его сосед Хельдур, – то ли тоже забрел сюда в поисках рыбы, то ли бог знает по какой надобности, то ли просто проводил время. Так что, когда Ханнес отворил дверь и переступил порог, для него вовсе не было открытием, что Хельдур сидит за столом, а если что и было открытием, так скорее присутствие других: Антса и Таави, и Рауля, который, как и Хельдур, был трактористом, – мужчины сидели за столом, хотя на столе не было ни бутылок, ни вообще чего-нибудь; бутылки либо уже были опустошены, либо еще находились на пути из магазина, первое предположение казалось более верным, по всему было видно, что сидели здесь уже долго: помещение наполнял сизый дым, воздух был спертый, так что Ханнес закашлялся, лица у мужчин были красные (правда, причиной этому мог быть и холодный ветер, в особенности у возвратившихся с озера), кроме дыма пахло еще рыбой, дегтем, мазутом, бензином – так что уже по запаху можно было определить, какого сорта мужчины здесь собрались.
– …только тебя тут и не хватало… – произнес Хельдур, не отрываясь от беседы, как бы мимоходом, лишь затем, чтобы дать знать, что Ханнеса приметили и узнали, и продолжал прерванный разговор: —…я сказал: «Какого хрена тебе еще надо, я целый день распахивал этот чертов луг, два раза меня вытаскивал Рауль, два раза я его выволакивал, я потел и копался в грязи, а вечером еще рыбакам пахал под картофель… Надо ж, в конце концов, человеку хоть чуток дух перевести…» Верно ведь, Рауль, я ей так в открытую и сказал, можно ли сказать еще яснее? Неужто мне надо было пойти еще дальше, неужто я должен был сказать и о том, что я три года не отдыхал, ежели в колхозе после того, как ты им накланяешься, и дадут когда выходной, так он оборачивается домашним рабочим днем, а когда ты приходишь домой после работы, тебя ждет еще с десяток дел, и отложить их нельзя… Неужто я должен был так напрямки и сказать ей, что я – вечный раб при работе? – вопрошал Хельдур, обращаясь к Раулю. И Рауль ему ответил – Нет, не должен был, она озлилась бы и того больше, а в ней и так было под завязку ее праведного гнева! – Но Хельдур оставил слова Рауля без всякого внимания и продолжал. – Но даже скажи я ей это, думаете, она перестала бы браниться? Как же, держи карман шире! Бабы уж отроду такие, выбьют тебя, как старый тулуп… Нет у них никакого уважения к человеку, ты с утра до вечера работай и тебе же еще говорят: «Ну что это за работа – сидишь да за руль держишься!» Оно, конечно, сидеть-то я и впрямь сижу, но эта работенка похуже, чем у того, кто беготней занят, при нашем-то сидении нервы без передыха натянуты, как тросы, когда ты трактор напарника вытаскиваешь. Гм! Что по сравнению с этим – выгребать навоз из-под коровьего зада?! Санаторий, а не работа!
Хельдур перевел дух – все, что он успел наговорить, он выложил на одном выдохе. Рауль, умевший в любой ситуации оставаться товарищем, другом и напарником, воспользовался паузой и быстро добавил:
– Ты ведь сказал ей яснее ясного, что отдохнешь, поговоришь малость и придешь чин чинарем домой, чего ей еще было надо?
Возможно, Хельдур переводил бы дух еще некоторое время, но слова Рауля подлили масла в огонь, Хельдура охватил справедливый гнев, и накопившаяся злость вновь закипела в нем.
– Точнехонько так и было! Я дал свое слово, слово мужчины, дескать, чуток передохну, потом заведу трактор и прикачу прямиком домой. А она… – В голосе Хельдура зазвучали такие низкие басовые ноты, что если у Ханнеса и оставалась еще хоть капля сомнения, о ком идет речь, то теперь и она рассеялась. – …а она мне: «Ты что, запамятовал, нынче проходит месячник безопасного движения, по дорогам инспектора шныряют, а ты и сейчас уже набрался! Что ж после-то будет!»
– И разве я не сказал ей, – снова вмешался Рауль, – что после не будет ничего особенного, что мы уже все, что у нас было, выпили, посидим да поговорим немного просто так…
Но Хельдур все так же не слушал Рауля.
– А что она мне говорит? «Добро, мне тоже передохнуть надо, так и я посижу».
– И впрямь села! – снова подтвердил Рауль.
– Да, села! Но – как? Уселась в углу возле печки, уселась, словно палку от метлы проглотила, ни тебе словечка, ни полсловечка. Я ее знаю, она бы так и до утра просидела. Что это за отдых – глядеть на свою озлившуюся жену! Похуже любой работы!
– Увольняйся-ка ты лучше да переходи к нам, стал бы вместе с нами рыбу ловить, – предложил Таави. – Сядем в лодку да уйдем на озеро, туда следом за тобой никакая жена не заявится.
Хельдур ничего не ответил, мысленно он все еще был во вчерашнем дне. А может, он не счел предложение Таави достойным ответа. В глубине своего честного и верного сердца он знал, что никуда не перейдет, знал, что прирос к своему трактору, точно так же, как Таави и Антс – к своей лодке, к своим мережам, к своему озеру. А разговор разговором, просто-напросто ты зол и должен свою злость выговорить; и ты проклинаешь на чем свет стоит свой трактор за то, что он не заводится, проклинаешь на чем свет стоит свою жену за то, что не разрешает тебе посидеть с приятелями, начальство за то, что не дает тебе выходного, и, наконец, самого себя, за то, что ты такой рохля… Да что там говорить, проклинаешь даже своих предков вплоть до Адама, – ведь он тоже был таким же рохлей, позволил Еве обвести себя вокруг пальца… А утром следующего дня снова залезешь в кабину трактора, заведешь мотор, поедешь на работу. А еще на следующий день то ли из-за угрызений совести, то ли подлизываясь, пойдешь вместе с женой на ферму, где она работает, поможешь выгребать навоз, поможешь поднимать бидоны, поможешь закладывать в кормушки солому и сено.
Все это Хельдуру было очень хорошо известно заранее, да как ему было и не знать, ведь такое случалось не единожды. Разве что сегодня было сегодня, а не завтра, и сегодня у него на сердце накипело и надо было выговориться.
Оттого-то он с таким удивлением и посмотрел на Ханнеса, когда тот сказал:
– Никак не возьму в толк, на что, собственно, ты сердишься. Ну хорошо, пришла за тобой, увела тебя от стакана с водкой домой. И правильно поступила или, как пишут в газетах, вовремя подоспела.
Хельдуру следовало предвидеть, что Ханнес вступится за Эне, как делал это и прежде, и все же это заступничество было до того неожиданным, что Хельдур в первый момент не нашелся что сказать, кроме:
– Да-а, тебе хорошо говорить, у тебя жены нет. А если бы ты знал, что еще она мне дома наговорила! Я, дескать, жеребец. А что еще она насчет жеребца выложила!..
Ханнес вообще-то был не очень скор на догадку, но тут он вдруг смекнул, что – если прибегнуть к судейскому языку – защита ненароком проболталась.
– Постой, постой, у вас там, похоже, и девки были или нет? – спросил Ханнес.
– Ну, были, – признался Хельдур. – А что с того, мы же не в кровати с ними лежали.
Разумеется, Антс, как можно было предвидеть, поспешил Хельдуру на выручку.
– Все как одна девки свои в доску, да и Сирье, нешто она чужая?
– Какая Сирье? – переспросил Ханнес. – Пикканусе, что ли?
Хельдур молчал, за него ответил Антс:
– Да, Сирье Пикканусе… Тоже пришла подряжать нас, чтоб мы ей огород вспахали. Хельдур просто так, заради шутки, подхватил ее да и усадил себе на колено, откуда ему было знать, что Сирье так там присидится, уж и слезать не захочет…
– Стало быть, когда пришла Эне, Сирье все еще сидела у Хельдура на коленях, так? – продолжал расследование Ханнес.
Хельдур уже взял нить разговора в свои руки:
– Ну, на коленях, и что с того?! Мне от этого не было ни холодно, ни жарко… Я этому сидению Сирье Пикканусе на моих коленях даже не придал никакого значения. А она: жеребец да жеребец!
Ханнес от души расхохотался.
– Ты не придал, а Эне придала. Женщины в таких вопросах очень чувствительны. И чего ты из-за этого расшумелся! Ну и ответил бы ей: дескать, ты мерина себе в мужья хочешь, что ли? Эне расхохоталась бы, тут и ссоре конец. Даже если бы она и не засмеялась, так все равно замолчала бы, уж это точно.
– Как же, заставишь ее замолчать, – возразил Хельдур. – А ты мог свою жену утихомирить, когда ей поговорить да поругаться приспичивало?
Это был жестокий ответный удар.
Они, все присутствовавшие здесь, знали, и знали от самого Ханнеса, что он был холостяком вовсе не из принципа, он дважды пытался основать семью, дважды был женатым человеком; в первый раз это кончилось трагически (жена умерла при родах, унеся с собою в могилу и ребенка), вторая жена Ханнеса во время его длительного морского рейса перебежала под крылышко более оседлого мужчины. Они знали – все из того же первоисточника – даже такую интимную подробность: вторая жена согласна была делить себя между двумя мужчинами, это было вовсе не так тяжело, как может показаться со стороны, ведь он, Ханнес, проводил большую часть времени вдали от дома; так что именно Ханнес сказал последнее и решающее слово: «Если тебе с ним лучше, так и живи у него». Жена от слов мужа немножко погрустнела и наконец ответила: «У меня и к тебе тоже душа лежит… Если бы ты бросил море, так я бы у тебя осталась…» Они, дьяволы, знали даже и то, что ответил ей Ханнес: «Нет, море я не брошу, так что иди себе к другому…» И как глаза жены увлажнились, но довольно быстро высохли, как только Ханнес сказал, что брать он ничего не собирается, пусть все – и мебель, и машина, и телевизор, и квартира – остается жене…
Да, они, дьяволы, знали о Ханнесе слишком много, потому-то они и были уверены, что теперь Ханнес ни за что на свете не возьмет под свою опеку ни одну женщину, не станет женским адвокатом.
– У меня не было такой надобности – заставлять свою жену молчать, – сдержанно отпарировал Ханнес.
– Чего ж ты с нею разошелся? – спросил, нет, удивился Хельдур.
– Может, оттого и разошелся, что мы никогда не ссорились. Может, оттого и разошелся, что не увел ее, когда она сидела на коленях у чужого мужчины, а она в свой черед не увела меня, когда я чужую на своих коленях держал.
Ханнес, конечно, знал, как все случилось на самом деле, но что ему оставалось, если Хельдур, его сосед Хельдур, которому принадлежала Эне, загнал его в угол. Это была дуэль – словесная, без оружия, но все же настоящая дуэль.
Хельдур тоже, видимо, понял это, он собрал в кулак всю свою выдержку и находчивость, использовал в неожиданный момент.
– Ну что ж, ежели тебе нужна жена, которая умеет хорошо браниться, так возьми себе Эне. Я, видишь ли, наоборот, не уважаю такую, кто ругается…
– Вот как, а на суде ты то же самое скажешь? – спросил Ханнес.
– На каком суде?
– Ну, если развод захочешь получить…
Так – теперь уже Хельдур был загнан в угол, посмотрим, как он вывернется! Белки его глаз были налиты кровью, но вовсе не от злости и не от азарта борьбы: просто он две недели подряд развозил на поля бочки с аммиаком. И хоть правила по технике безопасности он и соблюдал, испарения аммиака все равно были во вред его здоровью, – далеко не каждый смог бы работать с этим устройством; он, Хельдур, мог, но глаза…
– Ах на суде… Ах при разводе… Ну, скажу – не сошлись характерами. Ежели и что другое не сходится, все равно все всегда говорят, что характеры. А ты что сказал или придумал что-нибудь поумнее?
– Я сказал – из-за того, что нет ребенка, – ответил Ханнес и при этом как-то по-доброму жалостливо посмотрел в воспаленные глаза Хельдура. Словно бы догадался, словно бы знал, что теперь он нанес противнику последний, смертельный удар, что теперь противник будет повержен… Ханнес выиграл поединок, однако в его взгляде не было и намека на торжество или удовлетворение победой, лишь сочувствие.
– Куда этот чертов Педра провалился? – произнес Таави, ни к кому конкретно не обращаясь.
– Я ж говорил, не посылайте Педру, ему Мелаани раньше чем в четыре не отпустит, по новым правилам, – отозвался Антс.
– Пошли свинью срать, так сам иди подтирать! – выругался Хельдур. – Пойду-ка я, право, заведу свой тракторишко да съезжу поглядеть, где он застрял.
Никто из присутствовавших не обращал больше на Ханнеса внимания, даже не смотрел в его сторону, словно его и не было вовсе.
– Ох-хо, чертова жизнь, как говаривал мой бывший капитан Мяу! – Ханнес счел за лучшее отступить вместе с остатками своего достоинства. – Антс, может, у тебя найдется чуток рыбки, надо бы кошке кинуть, – обратился он к рыбаку.
– Столько-то найдется, – ответил Антс и словно бы нехотя поднялся с места, чтобы пойти к лодке.
Ханнес надел на голову свою серую клетчатую кепку, старую, но еще сохранившую благодаря пуговичке на макушке заграничный шик; (Кто не поленился бы, тот мог бы внутри нее на ободе увидеть яркую марку с надписью «Made in USA». Во время долгих морских рейсов Ханнесу удалось побывать и в Нью-Йорке, кепка была единственным напоминанием об этом городе; Ханнес приметил кепку в витрине одного из магазинчиков на Бродвее и купил за полдоллара, оставшиеся семь с половиной долларов он потратил на жену – тогда он еще верил, что сумеет удержать ее при себе подарками); Ханнес запахнул куртку и вышел из вагончика следом за Антсом.
Таави подождал, пока они отойдут достаточно далеко, и сказал Хельдуру:
– Смотри, как бы Ханнес и впрямь не отбил у тебя жену…
И Хельдур быстро отозвался, так быстро, будто ответ был у него уже давно наготове:
– Ну уж нет… этого не будет!
Уже возле лодки Антс спросил:
– Ты что, хотел для себя рыбы, а про кошку сказал просто так?
– Нет, все же о кошке думал. Но если у тебя есть побольше, так дай и на меня тоже! Разве это дело – я должен смотреть со стороны, как кошка рыбу ест!
Не говоря ни слова, Антс подошел к отсеку в носовой части лодки, откинул крышку, извлек оттуда примерно полукилограммового судака и такой же величины щуку.
– Сколько будет стоить? – поинтересовался Ханнес.
– Ну чего ты спрашиваешь, – ответил Антс чуть ли не сердито. – Бери и будь спокоен. Мне опять твоя помощь понадобится, когда начнется заготовка дров.
– Спасибочко! – поблагодарил Ханнес, засовывая рыбу в рюкзак. Но все же не удержался и добавил:
– У Хельдура, похоже, настроение сегодня хреновое. Похоже, продолжит…
– Так не ты ли ему и подправил настроение, – уколол Антс Ханнеса.
– Выходит, что так, – согласился Ханнес.
На дороге ему никто не встретился, лишь…
3
…возле магазина попался ему кээтеский Ээди.
– Ого, сто лет тебя не видал! – крикнул он Ханнесу. – Как поживаешь?
– Да все работаю, все работаю, – ответил Ханнес.
Ээди снял со спины свой заплечный мешок и положил его на крыльцо магазина; глядя на Ээди, снял свой полупустой рюкзак и Ханнес и положил рядом.
– В совхозе, что ли? – спросил Ээди.
– Нет, не в совхозе. В лесничестве. Был на лесных посадках, а теперь прореживаю.
– Неужто земля в лесу уже оттаяла! – сказал Ээди с удивлением.
– Куда там, местами все еще твердая, хоть топором руби, – уточнил Ханнес. – Но саженцам это не помеха, идут в рост, как ни в чем не бывало. Очень-то тянуть с посадкой нельзя, не то земля высохнет раньше укоренения. Тогда вся работа пойдет насмарку…
В то время как Ханнес объяснял это, Ээди успел извлечь из кармана ватника бутылку и снять с нее пробку.
– Примем-ка помалу лекарства! – Он протянул бутылку Ханнесу. – Я обещался мамуле принести, но приложиться-то можно.
– Раз обещал, так стоит ли? – засомневался Ханнес.
– Прими, прими! – настаивал Ээди. – У меня прокладка в кармане, потом чин чинарем закупорим.
«Если я сейчас выпью, – подумал Ханнес, – то должен буду тоже купить бутылку, как принято среди честных людей. А если я куплю одну бутылку, то запросто может случиться, что потом куплю еще и вторую…»
– Так и быть! – Ханнес протянул руку к бутылке, испытывая в душе злость то ли на себя, то ли на Ээди, то ли еще на кого – даже голос у него стал недовольным.
– Только погоди чуток, пока я в магазин схожу.
– Лады, я подожду! – быстро ответил Ээди с видом заговорщика. Наверное, он понял, что Ханнес – человек честный.
Когда Ханнес вышел из магазина и Ээди увидел его разбухший и отяжелевший рюкзак, он, будто жалеючи, повел такую речь:
– Что это мы посередь дороги стоим, давай-ка лучше пойдем ко мне. Мамуля меня ждет, а станем мы тут заводиться, поди знай, в какую чертову дыру нас в конце концов занесет.
Такое предложение было для Ханнеса несколько неожиданным. Ему и прежде случалось выпивать за компанию с Ээди (или, как говорил Ээди, принимать лекарство), но каждый раз это происходило либо на лоне природы, либо у самого Ханнеса, либо еще где-нибудь, но в доме у Ээди он еще не бывал.
«Отыди от меня, сатана!» – сказал, нет, подумал Ханнес. Но сразу же внутренне усмехнулся своей мысли: если сатана и впрямь лицом и деяниями похож на Ээди, то он не более чем жалкий мужичонка, тощий и щуплый. Единственное, что в данном случае подошло бы князю тьмы, так это голос Ээди – резкий, надтреснутый бас.
– Так и быть, если только твоя мамуля не рассердится….
– Она рада, когда гости приходят.
Мужчины без лишних слов отправились в путь – назад по той же дороге, откуда Ханнес только что пришел. Вначале шагали по песку через государственный лес, потом через поле, правда, уже вспаханное и засеянное, но все еще белесо-коричневое, без единого зеленого росточка. Затем они свернули в кээтеский бор, где в прежние времена жена Александера Кээте, образованная городская госпожа по имени Ильдекаарт, совершала вечерние прогулки, обутая в высокие желтые сапожки, с плеткой для верховой езды в руках. Да, с той поры прошло добрых сорок лет, да еще и с хвостиком… Теперь же этой дорогой шагали двое мужчин, вид у них был более чем будничный, и ни один из них не знал ничего толком ни о кээтеской Ильдекаарт, ни о ее желтых сапожках, а если что и знал, то лишь понаслышке. Они не заметили даже и того, что прошли через кээтеский заливной луг, прежде чем выйти к кээтескому дому, крыша которого виднелась между старыми липами (липы тоже были еще голые, они словно бы ждали приказа, чтобы разом, за одну ночь высунуть из почек зеленые язычки листочков); в отведенном под ригу конце дома и проживал Ээди со своей семьей.
По дороге Ханнес и Ээди поговорили о том, о сем, но все о своих собственных, а не о кээтеских делах (да и что за дела еще могли быть здесь у Кээте, если осенью сорок четвертого он отбыл, прихватив с собою Ильдекаарт и белую лошадь по кличке Тилу, а в придачу и охотничье ружье на всякий случай, – отбыл перво-наперво в Пярну, затем в Германию, затем в Америку, где он теперь и проживал).
Если Ээди нужны прутья для метел, сказал Ханнес, то пусть приходит за ними – в молодом лесочке за горой Мейеримяэ наберется несколько возов. Ээди ответил, что да, он возьмет, хотя совхоз и платит за метлу на две копейки меньше, чем давали в колхозе, но вязать все же можно…
Когда мужчины, доверительно беседуя, подошли наконец к кээтеской риге, Ханнес остановился и сказал:
– Чего мы эту наполовину выпитую бутылку будем вносить в дом, вытащу-ка я лучше целую.
– Вообще-то мамуля ворчать уже не станет… Ну да пусть будет так…
И приятели – Ханнес впереди, Ээди позади – вошли в кээтескую кухню.
– Видишь, мамуля, я сказал, что скоро вернусь, разве обманул? Да еще и гостя привел! – обратился Ээди к жене.
Низкорослая смуглая Альвийне – она хлопотала возле плиты, варила картошку свинье – подняла голову, и по ее лицу пробежала тень улыбки – похоже, она ничего не имела против гостя. (Правда, вскоре Ханнес заметил, что женщина была возбуждена, словно кого-то или чего-то ждала, а несколько позже он и узнал, что именно ждала Альвийне.) Мужчины присели на край скамейки возле кухонного стола, окутанные запахом варящейся свиной картошки, которым с незапамятных времен, с тех самых пор, как в Эстонии начали выращивать картофель и держать свиней, были пропитаны хуторские кухни – их бревенчатые стены, закопченные потолки, половые доски… во всяком случае, так обстояло дело здесь, в деревне Коорукесте, где не было хуторов с черными, предназначенными специально для надобностей скота, кухнями; даже тут, в доме Кээте (настоящее название хутора – Татрик), хотя здешний хозяин когда-то и славился по всей волости своими девяноста гектарами угодий, из которых тридцать было чистой пашни, – даже здесь картошку для свиней варили в большом котле все на той же кухонной плите, на той самой плите, возле которой теперь хлопотала Альвийне, время от времени с беспокойством поглядывая на стол, где красовалась бутылка «Экстры». Ханнес истолковал беспокойство Альвийне по своему разумению, он взял со стола бутылку, вначале в правую руку, затем в левую, сковырнул задеревеневшими от работы большим и указательным пальцами жестяной язычок пробки, сорвал ее с бутылки и огляделся, во что бы налить. На лоне природы дозволительно, и даже предпочтительнее, с бульканьем пить из горлышка бутылки, но если ты вежливенько сидишь в кухне и в обществе дамы, то это не годится. Альвийне заметила взгляд Ханнеса, прошла к кухонному буфету, отыскала там чайный стакан и с видимым сомнением поставила его на стол.
– У нас были и рюмки, да все они перешли в лучший мир, – сказала она, словно бы извиняясь.
– Эта беда – не беда, – ответил Ханнес, в свою очередь как бы утешая ее. – Возле одного корыта много добрых поросят помещается, ежели корыто большое.
– У нас вроде бы никто никакой дурной болезнью не страдает, – поддержал Ханнеса Ээди.
Ханнес наполнил стакан на три четверти, наливал специально так, чтобы водка лилась с бульканьем, чтобы вышло праздничнее. Затем поставил бутылку на стол, поднял стакан и протянул Альвийне.
– Ну, хозяюшка, хлебни!
Слегка застеснявшись, Альвийне приняла стакан, сдвинула левой рукой головной платок к затылку и только после этого пригубила.
– Вам и закусить-то нечем, сейчас я соберу. Ээди, ты чего-нибудь добыл в магазине или не удалось?
– Так ведь не всякий день колбасный… Сыру принес.
Ээди отлучился, чтобы снять с себя ватник, и вскоре – в одной руке сигарета, в другой пепельница – вернулся к столу и расположился рядом с Ханнесом.
Альвийне отыскала в заплечном мешке Ээди сыр, принесла из кладовки блюдечко с солеными огурцами, принесла из амбара ветчину на тарелке, поставила все это богатство на стол и сказала:
– Закусывайте, закусывайте, не то вас развезет, я-то сейчас не хочу, мне еще надо скотину накормить.
– У мамули сегодня беспокойный день, нигде себе места не находит, – сказал Ээди, глядя на дверь, за которой только что скрылась Альвийне.
– А что с ней, случилось что-нибудь? – спросил Ханнес из вежливости.
– Дочку ждет, больше ничего не случилось. Маарья должна сегодня домой вернуться…
Ээди, по-видимому, хотел поговорить об этом подробнее, он посмотрел на Ханнеса в ожидании, не спросит ли тот еще чего, но Ханнес превратно истолковал взгляд Ээди, – вновь взял бутылку, вновь наполнил стакан.
Они выпили за здоровье друг друга, водка, хранившая холод улицы, вызывала в теле дрожь, однако пошла хорошо. Пряный и, как это ни странно, все еще крепкий огурец разом снял во рту вкус водки, и вот появилось ощущение теплоты где-то под сердцем.
Ханнесу сделалось жарко, он рывком раздернул молнию куртки, снял с головы кепку и надел ее на колено. (Если бы он знал, что Александер Кээте, в доме которого они сейчас сидят, живет теперь в Америке, в городе Нью-Йорке, то он, Ханнес, не преминул бы отпустить шуточку и сказал бы: «Ну, в таком случае, он теперь тоже может купить себе кепку с такой пуговичкой!»)
– Стало быть, вот как вы тут обитаете, – не то вопросительно, не то утвердительно произнес Ханнес.
Это придало мыслям Ээди новое направление.
– Да, так мы тут и обитаем, две старые вороны.. – подтвердил он.
– Почтальон приносит пенсию на дом, в хлеву – корова и теленок, и подсвинок…
– Да, есть корова и есть подсвинок, – вновь подтвердил Ээди. И, слегка подумав, добавил: – Вообще* то, на жизнь грех жаловаться… Только иной раз, когда задумаешься, что за боль да муку пришлось пережить, так дрожь пробирает…
– Ты имеешь в виду то самое несчастье, которое с твоим сыном случилось? – спросил Ханнес.
– И это тоже…
– А что с ним, собственно, произошло, вроде бы погиб в аварии? Попал под машину, что ли?
Ээди помотал головой. – Да, Тойво и впрямь погиб через машину, но не под колесами.
Прежде чем начать рассказывать, Ээди прошел в комнату, порылся в шкафу, выдвигал и задвигал ящики, вернулся назад с бумажкой в руках.
– Погляди, тут все описано, что и как. Сотоварищи потом написали…
Ханнес взял с руки смятый, выцветший до желтизны, весь в пятнах, прошедший сквозь дождь, отчаяние и траур листок бумаги и попытался прочесть, что там написано. Но ничего путного из этого не вышло. Не потому, что написано было по-русски – с русским языком он бы сладил, – а потому, что буквы частично стерлись, частично расплылись.
Словно понимая это, Ээди стал сам рассказывать, сунув в руки Ханнеса фотокарточку сына. (Светлые волосы, брови дугой и так чертовски молод, что если бы не было веснушек, то для полноты впечатления их пришлось бы домыслить; кто бы мог подумать, что это – сын Ээди и Альвийне, но, может быть, и они сами в молодости тоже были такими же?!)
– Да, в этой бумаге все описано, как Тойво погиб… Один из его товарищей написал, когда вернулся с целины. Потом заехал к нам и привез еще вещи Тойво… Те, которые после него остались… И обо всем нам поведал…
И Ээди рассказал об этом событии так, как обычно рассказывают, когда со дня несчастья – каким бы удручающим, тяжелым и трагичным оно ни было – прошло уже много лет, и время, хотя и не стерло, но все же притупило боль утраты.
– Эта дорога, по которой они зерно возили, она шла меж горами. С одной стороны стеной стояла крутая скала… А с другой зияла глубокая пропасть… словно чертова могила. А на дороге были такие места, чуть пошире, где разъезжались. Только надо было угадать, когда появится встречная машина, и если ты оказывался там, на этом месте пошире, раньше, так должен был подождать… А тут и случись такое: один шофер не стал ждать, знать-то знал, что мой парень может с минуты на минуту из-за поворота дороги появиться… Поди разбери, то ли за длинным рублем гнался, то ли еще что… Не остановился, пер вперед – и все тут… Вот они и встретились на самом узком месте дороги… И случилось, – надо же было случиться! – что край этой бездонной чертовой могилы был справа от Тойво… Он умел водить и все такое, а тут прижался к самому краю дороги, чтобы встречной груженой машине легче было проехать… Не знаю, что там и как вышло – никто ведь того не видел, а этот единственный свидетель, этот, который в живых остался, вряд ли рассказал все, как было… Он ведь мог долбануть машину Тойво сбоку и случайно, когда проезжал мимо… Да, быстро полетела машина Тойво туда, в чертову могилу, ежели парень даже из кабины не успел выскочить… А внизу еще и полыхнула взрывом… Ничегошеньки от парня не осталось, хоронить-то вовсе нечего было…
– Понятно… – отозвался Ханнес. Он все еще держал в руках фотокарточку, все еще смотрело на него молодое, доверчиво улыбающееся лицо. – Черт побери! – чертыхнулся Ханнес (он поступил, как истинный эстонец: если сказать больше нечего, употребляешь это самое что ни на есть крепкое слово; не важно, что по сравнению с двух– и трехэтажными выражениями других народностей эстонский чертик кажется весьма легковесным – для больной души и это бальзам). – Один за длинным рублем гонится, а другой по его милости должен с жизнью расстаться!
– Да, не знаю, что за спешка такая у него была, – произнес Ээди, и в тоне его голоса не было ни обвинения, ни оправдания. – Но если начнешь думать, сколько я всего пережил, сколько лиха да горя повидал, так…
Он не успел договорить, в кухню вошла Альвийне и сказала:
– Слышь, старик, что ты пережил много, я знаю, но теперь тебе придется пережить еще кое-что: нужно вынести котел с картошкой. – Если со стороны Альвийне это и была подковырка, то вполне дозволенная, ведь Альвийне пережила ничуть не меньше.
– Я помогу, двоим мужикам такой котелок вынести – раз плюнуть! – предложил Ханнес.
Альвийне взглянула на часы.
– Может, автобус сегодня и не придет вовсе или как? – произнесла она.
– Не-ет, прийти-то он, паршивец, придет… Но опоздать вполне может, – высказал свое мнение Ханнес.
В хлеву, куда они отнесли котел, Ээди сказал:
– Мамуля ждет домой дочку. Маарья должна бы сегодня приехать, завтра ей снова на работу заступать.
– И далеко она уехала? – спросил Ханнес. И спросил вовсе не от большого интереса, а потому, что хозяева напустили вокруг этого дела какого-то тумана…
– Не знаю… – Ээди помотал головой.
– Как это не знаешь? Какая-нибудь цель у нее все же была, должна быть.
– Цель-то была, да неведомо где.
– Что же у нее за хлопоты?
– Мужа ищет…
– Мужа?!!
– Ну, этого, жениха, что ли…
– Вот оно что. Выходит, за какие-то два дня задумала жениха заполучить…
– Видишь ли, она все же знала, в какую сторону ей податься…
– Стало быть, он уже присмотрен?
– Присмотрен, ясное дело, присмотрен! Этот парень кантовался тут у нас, на стройке, штукатуром работал. А потом разругался с начальством вдрызг и умотал…
– Теперь я наконец-то все понял, – сказал Ханнес.
– Видишь ли, у них ребеночек заложен… Уже на четвертом месяце, и теперь надо бы отца…
– Да-а, теперь я и впрямь все понял, – повторил Ханнес. – Стало быть, ей все же известно, куда этот парень подался?
– Вернулся, откуда прибыл.
– А письма не прислал, что ли?
– Так не у всякого письма легко пишутся. У него вообще-то золотые рабочие руки, а карандаш или там ручку держать – не больно-то привычные.








