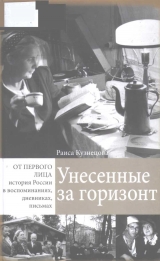
Текст книги "Унесенные за горизонт"
Автор книги: Раиса Кузнецова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 40 страниц)
Откуда я могу знать, что «...тогда ничем, ни кистью и ни словом не передать горячий их испуг...»?
Кисанька, ты наивна, как человек, смотрящий на луну и думающий, что это ее настоящая величина. Давай покончим, если ты ничего не имеешь против, с этим вопросом. Теперь приношу свои глубочайшие извинения за прошлое невероятно глупое письмо.
Теперь дальше. АБСОЛЮТНО никому не читаю и не буду читать твоих писем! Все-таки говорю, что тетя не так уж «взрослая» (ей богу смешно) и ни разу даже скептически не улыбнулась, читая твои письма (она сама пишет такие письма. Я посвящен во многие ее секреты, скрываемые от всех на свете).
Это все глупенькие, ничтожные, забивающие голову вопросы. Отметем их прочь и не будем к ним возвращаться. Хотя нет, я поспешил. Нужно еще один добавить. Наш договор о свободе действий остается в силе. Ревность ― это стул, утыканный иголками, на него больно садиться, да и не стоит. Делай все то, что тебе угодно!
Раиса, теперь замечательно интересно то, что ты приводишь чьи-то выступления в Коме, правде. Я их читал. В сущности, весь смысл этих выступлений сводится к тому, что художественность (не тема) вещь лишняя в художественном произведении. Писавшие это не понимают, что для построения социализма недостаточно того, чтобы знать Маркса и Ленина . Марксизм прекрасно знают и наши враги. Для того чтобы построить социализм, необходимо переделать психологию человека. Даже, вернее, подсознательное в психологии. И для такой работы каменные топоры Безыменских, Платошкиных, Жаровых недостаточны. Для этой работы нужны мастера, вооруженные Пастернаковскими, Фединскими, Бабелевскими бритвами. Я не говорю, что Пастернак, Федин и Бабель на 100% прямо помогают строительству социализма, нет, но они необходимы для того, чтобы Безыменские и Платошкины учились писать. Нужно развивать классовое подсознательное. (Это неправильно, что подсознательное бесклассово).
И вот для того, чтобы проникнуть в такую глубокую пещеру нашего бытия, необходимо высокое мастерство, направленное в нужную сторону мастерство, равное по своей убеждающей силе пастернаковскому. Это мое мнение. И потому выпад в Комсомольск, правде я считаю просто неумным (его не поддержал никто из авторитетных лиц, и о такой поддержке не может быть и разговора), и его нужно назвать, если это написали какие-нибудь начинающие писатели, прекрасными словами J1. Авербаха: «Бунт посредственности».
Теперь лично о себе. О том, что я могу исписаться. Это очень возможно. Ты говоришь, что если я стану писателем, что я всю жизнь должен этим заниматься. Не согласен. Это для меня не обязательно. А вообще, Раиса, я согласен хотя бы один раз прогреметь, а потом погибнуть. Черт с ним. «За миг блаженства вечность мрачных мук готов принять». И я думаю, что если бы я присутствовал среди гостей в Египетских ночах Пушкина, то я бы был четвертым среди тех смертников. Это, вообще, рассуждения на худший случай. А вообще говоря, Рая, то, что ты мне предлагаешь, это значит пойти по линии наименьшего сопротивления, опирающейся на боязнь лишиться среднего благополучия, а я считаю, что нужно дать все, что имеешь, и бояться исписаться нельзя, иначе не стоило брать в руки карты. Трусы в карты не играют. Может быть, и Гоголя хватило бы на больше, если бы он хуже писал, но зато и Гоголя не было бы. Я себя, конечно, не ставлю в ряд с Гоголем, но я должен дать все, что имею. Авось набежит новое.
Например, Раиса, я тебе сейчас процитирую кое-что.
«...B конце гостиной, под большой картиной, изображающей берег реки и бурлаков, тянущих баржу, стоял новый рояль, как рот негра с задранной вверх губой и прекрасными, сжатыми до скрежета белыми зубами.
Гриша взял несколько пробных аккордов и потом загремел на басах, поворачивая громы. Из открытой крышки рояля вырывались корчащиеся рожи, извивающиеся оранжевые змеи, и эти змеи тугим узлом связывали танцующие пары, грудь к груди, живот к животу, сближали горячие рты, и эти змеи вдруг удлинялись и, вытягиваясь, толкали пары танцующих подальше от рояля и, неожиданно сокращаясь в кипящие кольца, тянули их поближе ― к роялю, к трясущему шевелюрой Грише, ломающему руками прекрасные зубы в раскрытом рту негра».
Это не из той повести, которую я теперь пишу, это из другой вещи, я ее выбрал потому, что она более или менее самостоятельная. Я не говорю, что это лучшее из всего. Скажи мне, пожалуйста, неужели же вместо всей этой картины я должен был написать: «Гриша играл на рояле, а гости танцевали по натертому паркету» ― или как-нибудь еще проще? Ну ладно. В отношении же «сумасшествия» героев, то это очень длинная история.
Луначарский на вечере, посвященном Достоевскому, говорил, что для того, чтобы понять всю силу и все возможности воды, недостаточно ее видеть в ведре, нужно увидеть Ниагарский водопад, поэтому-то Достоевский делал своих героев немного необычными. Этого же принципа хочу придерживаться и я, только перейдя с плоскости «вечности» подсознательного на плоскость классового подсознательного. Может быть, я ошибаюсь ― тогда разберемся.
Милая Кисанька, письмо кончаю. Уже 1 час ночи. Я вернулся домой из артели в 11 часов (подготавливаю баланс) и очень утомлен ― ложусь спать.
Не употребляю никаких «стыдных» эпитетов ― они, наверно, тебя коробят.
Целую. Ох, перемножь всю таблицу умножения -
Арося
Еще раз Целую, целую
30/XII1929
Арося ― Рае (8 янв. 1930)
Кисанька! В любви важна непосредственность? Да.
Ну, а если ты пишешь: «эти наивные, смешные слова», я говорю о словах ласкательных, которые ты так назвала. Следовательно, если ты замечаешь ― ты, человек со стороны,– что эти слова наивны и смешны, то где же непосредственность? Значит, ты как-то умеешь двоиться (если ты любишь) и холодно, критикующе оценивать эти слова, а следовательно, и то, что хранится за этими словами, ― любовь! Почему мне не разрешается такое право? А вообще, говоря трескуче, к чему ласкательные слова?
Это оценка разума, а вон наверху, на первой строке, я написал «Кисанька». И написал, кажется, в «непосредственном» состоянии. Даже не «кажется», а вполне так.
Теперь я ужасно протестую против твоей теории «самопожертвования». Самопожертвование ― это значит то, когда человек, делая какое-нибудь дело, в то же время с каким-то тайным сожалением чувствует свое превосходство над кем-то другим, не делающим дело. А разве у меня это есть? Разве я горжусь тем, что я делаю? Да, я себе не представляю иного, чем то, что я делаю! А человек, занимающийся самопожертвованием, чувствует, что он мог бы по своему желанию делать и другое дело, а не то, что он делает, и что в конкретном случае самопожертвования он выступает в роли благодетеля. Можно привести много примеров, оправдывающих мою мысль.
Например, разве Левинсон был благодетелем, когда, оторвавшись от жены, которой он писал письма, «полные нежных слов», и, нужно думать, от спокойной, хорошей жизни, взял да и пошел в партизанью невзгодную жизнь? Это что, самопожертвование?
Это чувство, долг и, главное, сознание, необычайнейшее сознание правоты своих действий.
Раинька, насколько я вижу из твоего письма, ты потрясающе скверно живешь! Что может помочь? Деньги. А где их взять? Я не приложу ума.
Во мне борются сотни мыслей. Мне хочется сказать тебе: «Брось все!» Не удалось ― не надо. А сказав это, что я могу предложить тебе взамен? Свою мечтательность «неудачника», «среднего человека»?
Горькое сознание. Горько сознавать мне, что ничего у меня нет. У меня, может быть, сейфы, полные богатства, ключи от которых мне не вручили... И пока что приходится обходиться бряцанием медяков, а как ты говоришь, может быть, придется обходиться этим всю жизнь.
По крайней мере. Потерпи недельки две, может быть, я что-нибудь придумаю. Не решай ничего!
Ведь правда же ― «В этой жизни умирать не ново,
Сделать жизнь значительно трудней».
Нужно постараться одолеть ее. Все время делать ее. А умирать будем тогда, когда умрем ( говорю все это в иносказательном смысле).
Моя милая, любимая Кисанька (я не знаю, имею ли я право так называть тебя, я вспоминаю наш разговор в экспериментальном театре), мне почему-то кажется, что ты себя уговариваешь в том, что у меня громадный талант. Зачем ты уговариваешь себя? Обсуди это!
Может быть, ты меня и любишь только за то, что думаешь, что я человек «отмеченный»? А вдруг я пуст, как усталый сон, что тогда? Ведь ты меня ненавидеть будешь!
Эх, жизнь, чтоб она сгорела!
Ей богу, Раиса, и смешно! Чего ломать голову? Жизнь должна быть как морозкинский зеленый огурчик, а мы сами ее портим. Сами же виноваты.
Раинька, я знаю, мы с тобой оба в ужаснейшем положении. Трудно отказаться от взлелеянной мечты, и как перенесть то, если вдруг окажется, что эти мечты действительно мыльный пузырь?
Тебе, может быть, надоело это душеизлияние, я его кончу, но все-таки скажу:
Ну, хорошо. Пейзаж души без пользы?
Давай копать истории навал.
Ведь жизнь не цирк. И в ней совсем серьезно
Звенит пощечины сорвавшийся металл!
А как перенесть ее?
Пишу тебе это письмо в артели. Помещение совершенно пусто ― только я один. Так сказать, работаю. На столе ледники бумаги и раскрытых книг. За моей спиной темнота, только на столе горит лампа. За спиной ходики, абсолютно сумасшедшие, для кого-то и для чего-то тикают. На стене висят и пугают ― ей богу, пугают! ― брезентовые тусклые халаты с мертвенными, по швам, рукавами.
Кисанька! ― прости мне, что письмо такое грустное. Ты пишешь, что я должен поднимать твое настроение жизнерадостными песнями, а я вот что делаю!
Может быть, в этом виновато именно то, что я пишу письмо в такой мрачной, уединенной обстановке, и если бы я написал его в другом месте, то оно, может быть, было бы веселее, но я все-таки думаю, что ненамного.
Но вместе с тем мне кажется, что я еще не совсем пропащий человек. Только потому мне это кажется, что я, в сущности, еще ничего не пробовал делать. Но во мне есть страшная внутренняя опасность ― это обломовщина. Я могу построить дом и никого не позвать посмотреть, как он сделан. И дом будет стоять пустой. А еще вернее то, что я составлю прекрасные чертежи, возведу стены, а когда дело дойдет до крыши, у меня строить ее пропадет охота.
Поставь мне и себе обязательным условием, что только при оконченной постройке я могу получить приз ― тебя. А иначе нет. Несмотря на кажущиеся агромадные мои таланты.
Моя милая и любимая Кисанька! Все будет хорошо. Все образуется ― как говорил камердинер Облонского. И как знать, может быть, мы еще будем смеяться над нашими грустными письмами! А может быть, и нет! Черт его знает! Зачем загадывать? Ведь это тоже своего рода слабость мечтательных середняков. Давай будем изгонять хотя бы внешние их показатели.
Кисанька, милая, славная, хорошая, обещай мне, что если тебе станет трудно, ты не будешь себя из упрямства, из желания «доказать» продолжать мучить в Иркутске и поедешь в Москву! Обещай мне! Ведь Москва ― это все-таки Москва! Город с перспективами масс и личностей.
Обещаешь? Обещаешь?
Как жаль, что я не могу вот сейчас, сию минуту, услышать твой ответ!
Немедленно, сейчас же, пиши ответное письмо. Ты, я тебе же скажу по секрету, имеешь ту же грешную привычку, что и я ― таскать письма в кармане.
Целую, вот целую этот лист, на котором мелькнуло твое лицо.
Арося.
19-8/1-30 года
Рая ― Аросе (25 июня 1930 г.)
Когда ты ставил вопрос, «в чем ты не взрослый?», ты не получил конкретного ответа не потому, что я, может быть, обратного мнения, а лишь потому, что трудно было ухватить одно целое, ясное определение, из того, что складывается из целого ряда порой незаметных и незначительных моментов. И через 3 часа ты ответил на это!
Арося, милый! Ты знаешь, что любовь моя к тебе ― это не есть уже ребячество, ибо последнее для меня ― уже невозможно. Может быть, в свою очередь, я слишком много требую и взамен...но я иначе не могу, так как слишком серьезно смотрю на то, в чем ты, пожалуй, видишь больше увлекательной игры.
Я требую много, но должна признать, что моя требовательность не только по отношению к тебе существует. Она была всегда. И в первую очередь я требую чуткости. Самой внимательной, самой тонкой ― и в особенности сейчас. Ты знаешь, в силу сложившейся обстановки вокруг меня и около меня создалась целая цепь неприятностей ― с одной стороны, а с другой ― у меня не осталось никого ( кроме тебя), с кем я могла бы посоветоваться и просто излить душу. Это звучит не совсем хорошо, но ты также должен понимать, что с тобой, поскольку ты в моих делах ни принять участия, ни помочь конкретно не можешь, ― я могла именно не советоваться, а «изливать душу» Понимаю и твое состояние ― не совсем удобно служить громоотводом, но у меня, в моем состоянии, когда и обстановка, и люди вырисовываются в ином, никогда не виданном свете, ― это был единственный выход всего накопившегося, перед единственным человеком, которого я люблю и любила и которого уважала..
Но меня всегда поражали в тебе эти переходы от необычайной внимательности к страшной рассеянности, доходящей до полного забвения человека, сидящего или идущего рядом. И странно ― эти моменты особо ярко проявлялись тогда, когда мне хотелось кричать: Арося! Я боюсь одиночества, я боюсь... вокруг меня ...пустота, и ...я цепляюсь за тебя...
А вместе с пустотой рядом образуется и неверие в возможность, в то, что есть спасение, раз ты, тот, чье слово, чье желание было бы мне законом, отказываешься пойти мне навстречу.
И понимая, учитывая мое настроение, из-за детского самолюбия ты не хочешь спросить меня, что со мной, тем самым дав мне возможность выговориться до конца и не оставлять меня одну, когда я прошу об этом.
Тебе это непонятно и дико. И в этом твоя нечуткость, твоя детскость.
Я посылаю это письмо только с тем, чтобы объяснить тебе происшедшее. Мое «не знаю» не каприз, а действительное незнание, что будет со мной завтра.
Не подумай, что я рассердилась. Этого нет. Нужно ли нам встречаться дальше ― вопрос на твое разрешение. Ты должен отбросить детскость и подумать серьезно, и продумать, существует ли между нами разница, а раз она существует, в состоянии ли мы изжить ее. Я же тебя люблю, и отказаться самой я пока не в силах.
25/vi ― 30 г. Раиса.
Но, как бы ты ни решил, помни, что наше прошлое я буду хранить и беречь как самое лучшее, самое светлое в моей жизни.
PH.
Рая ― Аросе (приблизит, конец октября― начало ноября 1934)
Дорогое, любимое Солнышко! Пятнадцать дней тому назад в пасмурный, дождливый и ненастный день ты проводил меня на юг, к солнцу и морю. Пятнадцать дней! Так мало в условиях Москвы, так много в условиях курорта. Тысячи верст легли между нами, а главное не версты, а солнце. Оно явилось главным разлучником. Оно растопило мой мозг ― я обленилась. Но, мое Солнышко, греясь под лучами южного солнца, я ни на минуту не забывала о тебе, о тебе и о дочке. А от вас ни одной весточки. Признаюсь, по обычаю, начала сходить с ума , пока сегодня не получила твою телеграмму. Писем же пока нет. Мое самочувствие несколько улучшилось. Ты знаешь, дорогой, свою женку. Общительная она у тебя ― поскучала я первые дни, а потом потянуло к людям. Болтаю, пою, разговариваю, слушаю, что говорят.
Я писала тебе, что обслуживание в санатории никуда не годится. Через несколько дней я, однако, привыкла к мизерным порциям пищи, а к тому, что тут, собственно, нет никакого режима, и привыкать не надо. Дали мне комнату. Сперва одиночку. Нашлась женщина, которая в тот же день, что называется, слезно умолила меня обменяться с ней. Одиночка ― узкая, тесная комнатка с одним окном во двор. В обмен предлагалась комната в два окна, с видом на море, правда, в качестве приложения две соседки. Но ведь я людей не боюсь! Итак, с 23 числа я живу в лучшем корпусе санатория. Плохо сплю! Поэтому встаю с удовольствием ― рано. В 8 ч. 15 м. зарядка. Затем небольшой променад за газетой или просто посиделки на лавочке, где немного поупражняешься в остроумии, в 9 ч. завтрак. После ― на пляж ― под солнце, под воду. Плаваю все– таки не так далеко, как тянет. Боюсь за сердечко! Расширение, как видно, есть. Лечат меня т.н. местной Д” Арсонваль, а попросту лежишь на кушетке, и тебе какой-то трубочкой около груди водят. Но у меня почему-то сложилась уверенность, что это лечение мне не помогает, а, как говорится, наоборот. В частности, такой факт: при восхождении на Иверскую гору (открытку послала с видом, а об ощущениях ― устно) я неожиданно упала. Помнишь, как однажды я потеряла сознание в вагоне? Сейчас было очень похоже, только длилось это одно мгновение. Маленький мой! Ты только не беспокойся ― я ведь не для этого тебе пишу. Обещаю, что обязательно схожу к невропатологу. Тут, понимаешь, некоторое противоречие. Если у меня несколько сердце не в порядке ― нужно меньше ходить. Но ты представь себе ― ведь я со времени отъезда прибавила 4 кило 800 гр, вообрази ― у меня 68, 800 вес. Ведь это же ужас! Поэтому как можно больше стараюсь ходить. Обещаю тебе, что буду беречься всемерно.
Ароська! Милый! Ты, конечно, обратил внимание, что в своих письмах я избегаю описывать тебе свои впечатления. Мешает боязнь, неумение выразить свои чувства красочно. А быть тривиальной, повторять шаблонные, избитые фразы так не хочется. Поэтому устно, все расскажу устно, прямо из уст в уста. Одно могу сказать ― все здорово здесь, чудесно. Все мелочи быта отступают на задний план.
Дорогая детка! Пиши мне, как работается! Был ли ты у Топора? Что наша дочка, как себя чувствует, что болтает и поет нового? Ты ведь обещал мне писать подробно, подробно.
Между прочим ― о моих делах. Хотелось бы поехать в Сухум, Батум, Тифлис ― как говорила. Но мало денег. Наш сотрудник (он отдыхает здесь) передаст Топору мое письмо. 5/ XI справься у него, думает ли он прислать мне деньги, и немедленно телеграфируй мне.
Целую крепко. Рая
P.S.
Артур Маркович посвящен в мои деловые треволнения и сумеет лучше, нежели я могу написать, объяснить тебе, что меня смущает. Целую, Ароська, Соньку и Настю [99]99
Настя ― няня (прим. ред.)
[Закрыть]. Скучаю отчаянно.
Рая
Арося ― Рае (6 ноября 1934 г.)
Здравствуй, моя дорогая! За все время твоего отсутствия меня сопровождают, во всем, что бы я ни делал, ― волнения из-за неполучения от тебя писем.
1 ноября я уехал в Ожерелье, получив от тебя только одну телеграмму (не считая первого письма). В Ожерелье, увлеченный работой, я немного забылся, но пятого числа волнения опять нахлынули на меня, я взял билет на саратовский поезд и поехал ― в надежде, что дома есть письма.
И действительно, только вчера получены две открытки и письмо через гражданина, которого я не видел.
Я совершенно не понимаю, куда деваются письма, которые я тебе посылаю. Это письмо пятое, и я не уверен, что оно к тебе дойдет.
В Ожерелье я чрезвычайно продуктивно и хорошо работаю, втянул всю бригаду в писание книги. Жил я до 5/XI вместе с ними в общежитии ― стал среди них своим человеком. Те из минаевцев, которые умеют сами писать, пишут сами, а не умеющие диктуют, а я записываю. Все интересующее меня я тут же на месте и выясняю. Пока я обработал только пять человек, но материала набрал очень много. Головащенко ― это клад, а не человек, он мне все абсолютно рассказывает, и мы с ним большие приятели (как видно, для укрепления дружбы придется распить с ним пол-литра).
Вообще, очень много впечатлений, о них я расскажу, когда приедешь.
Сегодня опять уезжаю в Ожерелье.
Милая моя лапонька ― я очень обеспокоен состоянием твоего сердца. Ходи поменьше. Подъемы на гору ― как бы человек ни был толст, но если у него больное сердце, он не похудеет. Это только вредит. Меньше купайся.
За пять дней, которые я отсутствовал, Сонечка определенно подросла.
Мандарины она называет «падолинам», естественно, что раз есть «падолинам», то должно быть «по загорьям». Таким образом, она говорит ― «дай мне падолинам и загорьям».
Никак не сумею поговорить с Топором, сегодня уезжаю, перевожу тебе 75 рублей, если поедешь в командировку, обязательно сообщи.
Раинька, так соскучился по тебе, что ты себе и представить не можешь. Никогда так не скучал. Целую, милая, тебя тысячи тысяч раз. Получила ли ты мои снимки и Сонечкины? Три ночи подряд не спал ― проявлял и печатал их. Сейка освобожден от Красн. Армии, в Бирюлеве освятили дом, купил несколько хороших книг ― вот и все домашние новости. Пиши почаще, моя Лапонька, моя пятипудовая крошка. Когда ты приедешь, то я в сравнении с тобой буду, наверно, белым, как финн, и легковесным (без сравнения). Но так и должно быть ― у хорошего мужа жена толстая, а у хорошей жены муж толстый. Не обижайся, это я в шутку.
Дорогая моя, страшно хочется тебя скорее увидеть. Целую, целую все 68 килограмм, весь воздух вокруг тебя, тень твою.
Арося. 6/Х1– 34 года Москва
Рая ― Аросе (декабрь 1934)
Добрый день, мое милое, яркое, скорбящее Солнышко! Тени, падающие на твое личико, должны быть согнаны немедленно. Ведь в чем ты обвиняешь меня, мой маленький? Что роскошь и комфорт, все эти ванные, потолки, портьеры, гардины и пр. пр, а главное, танцы, музыка и ужины в ресторане Европейской гостиницы каким-то образом повлияют на продолжительность моего пребывания в г. Ленинграде. В этом перечне соблазнов, держащих меня, по твоему представлению, в цепких несокрушимых объятьях, мой единственный друг забыл назвать самое главное. Мою работу. А кто говорил моему маленькому, что если за внешней формой явлений забыть об их внутренней сущности, то это значит вообще искривить действительность, исказить, представить ее в уродливом, неверном виде. Я много раз говорила тебе об этом. И если бы ты, маленький, лучше слушал свою малютку, ты никогда бы не забыл, что главное в Лен-де для меня ― это моя работа, исключительно яркая, интересная, полная необычайных и трогательных переживаний. Я знаю, что ты воображаешь меня непременно сидящей в каком-нибудь ресторане, танцующей фокстрот, смеющейся, болтающей. А между тем, это далеко не так. Твоя Раинька, конечно, вырвала как-то минутку и потанцевала фокстрот в стиле «рюсс» ― не жеманно, а весело-непринужденно, и даже сорвала несколько аплодисментов, но, мое Солнышко, это были украденные минутки. Они даже необходимы были!
Ведь все остальное время я разговариваю с людьми, которые близко встречались с Сергеем Мироновичем Кировым. Ведь я бережу их раны. Вспоминая его, рассказывая о встречах с ним, о его душевной простоте и теплоте, ― многие из них тяжело и горько плачут. И часто, часто ― самое редкое один раз, плачу и я, плачет стенографистка. Я уже читаю эту, еще не написанную, созидаемую нами книгу, которая многих и многих еще взволнует. Нет, о том, что Кирова нет, нельзя вспоминать без отчаянья. Это был гениальнейший человек, величайшей воли ума и сердца. И чем больше я работаю, тем тяжелее переживаю я всю горечь этой потери.
Мое Солнышко! У каждого своя мировая скорбь ― это сказано хорошо. Мы переживаем сейчас величайшую скорбь ― она есть моя скорбь, она должна стать и твоей.
Мое отсутствие ― конечно, это печально, но сознание того, что я работаю, в сущности, над одним из памятников, показывающих подлинную, яркую народную скорбь и вместе с тем гнев и ненависть величайшего из народов, ― это сознание должно стать твоей гордостью. Мы развернули колоссальную работу самым широким фронтом. Создана такая «цепочка» познания и выискивания людей, когда почти каждый с нами разговаривающий вспоминает и указывает то или иное лицо, близко встречавшееся с т. Кировым.
Поэтому каждый день ― новые и новые люди. И ведь от каждого из них жалко отказаться. Большое количество собранных воспоминаний позволит нам сделать лучший отбор наиболее ценного материала. Но уже с 25/XII я уплотняю дни встреч. Размах все уже. 29/XII думаю круг замкнуть, и если удастся, в этот же день уехать. Во всяком случае, только дело удерживает меня здесь. Ведь я до сих пор нигде не была (только в первый день приезда ― в кино). Тебе, наверно, известно, что другие члены нашей бригады уже вернулись в Москву. Это, конечно, усложнило работу и замедлило ее темпы, но сделать ничего нельзя. И Резник, и Кацнельсон учатся. Это письмо надеюсь передать с Топором, который неожиданно приехал сюда. Телеграмма его о том, чтобы задержать Резника и Кацнельсона (и я ― за), была послана, к сожалению, не мне, а на кабинет и получена 24/XII, т.е. в тот день, когда Кацнельсон, оказывается, уже был у Топора. Конечно, если бы я сумела удержать их (на основании телеграммы Топора это, конечно, удалось бы, а меня они совсем не слушались и, несмотря на мое прямое распоряжение об отъезде 24/XII, они самовольно купили себе билеты на 23/XII), работу определенно сегодня можно было бы закончить. Но надо тебе сказать, что Леня Кацнельсон очень вспыльчив и мнителен, а Резник ― демагог, так что работать было трудно.
При наших темпах нужна была военная дисциплина + высокая степень сознательности. У них не было ни того, ни другого. Вернее ― всего понемногу. А т.к. у нас панибратские отношения сложились еще раньше, то в тех случаях, когда мне приходилось сильно нажимать ― я вдруг слышала: «Подчиняемся, тов. бригадир», ― подчас даже не затрудняя себя тем, чтобы объяснить мне, почему они за или против: этим подчеркивалось ироническое отношение.
Работать, конечно, оба умеют лишь чуть-чуть, а гонора много. Но поразительная черточка (я завидую такого сорта людям): умеют рассказать о своей деятельности. Они так красочно, оказывается, описали т.Топору всю напряженность их работы, что он дал им 3 выходных дня. Замечательно просто! Характерно, что по моему поручению они должны были составить докладную записку т. Топору ― и они ее так составили, что расписали чуть ли не часы своих выездов, но забыли рассказать, как работаем на заводах, потому что там они и не бывали.
Большая доля вины лежит на мне за это ― но ребятки себе избрали благую часть ― бегать только по учреждениям, помещающимся на Невском, а мне пришлось объездить все заводы. И ― проклятая черточка интеллигента ― мне было неудобно им об этом сказать, т.к. по учреждениям тоже надо ходить. Выходит, я погналась бы за более легкой работкой. И я застеснялась, а у них совести не хватило. Поэтому мне досталось. Кончики здесь трамвайные, по-моему, в 2 раза длиннее самой длинной трамвайной линии. Померзнуть пришлось. От заболевания, по-моему, спасает ванна. Придешь этак весь мерзлый, Заберешься в горячую воду на часок, распаришься, смотришь, ломота в ногах уже исчезла.
Почти каждый вечер у нас происходили приемы. Были вечера, на которых присутствовало до 30 чел. Я разоряю Профиздат. Угощаю рабочий класс ― пирожными, яблоками, мандаринами, конфетами, чаем. Сегодня тоже жду людей. Сейчас готовлю вопросы дл беседы.
Моя милая детка! Я попыталась тебе показать всю обстановку моей работы, для того чтобы ты понял, что мне приходится просто жутко работать.
Из чего складывается день. Разговоры по телефону (самое, по-моему, тяжелое дело ― ибо телефоны здесь допотопные), выезды на заводы с 1 до 6 ч. Один час на обед. С 7 час. беседы в номере. Расходимся самое раннее в 12 час. Наши стенографистки и то замучились. Они абсолютно не успевают расшифровывать свои записи...
Гляжу на себя ― пока все еще толстая, но, честное слово, аппетиту нет. Обедаю с трудом, несмотря на то, что, как правило, утром съедаю лишь 1 пирожок и стакан кофе. Поглощаю казенные фрукты и больше ничего...
Радуюсь, что работаешь! Почему ты не ходишь писать в библиотеку? По крайней мере, из письма этого не чувствуется.
Ты пишешь, что твоя книга «далеко не блестящая». Если это скромность ― это хорошо. Если же правда у тебя такое самосознание ― то тогда лучше бросить. Начало книги было, по-моему, прекрасным. Ты уловил, что надо. А теперь главное ― надо было больше написать. Оценку разрешите делать редактору.
Ароська, милый! Самое важное в любом деле ― меньше болтать, больше делать. Ты у меня молчаливый такой, значит, деловой. И я в тебя верю. Люб,..^ тебя и надеюсь на тебя. Но, мальчишка, ты все-таки ленив. Ты забыл Мартина Идена. Советую читать не только «Путешествие на край ночи», но завести себе настольные книги не из биографии наших современников (у них обычно более легкий путь, а поэтому и более легкая литература), а у всех настоящих писателей обычно тяжелый жизненный путь. И ты увидишь, что ты живешь и работаешь еще в царских условиях. От нас обычно требуется одно ― не лениться. А ты все-таки страдаешь этой болезнью. Я тоже не без греха. Такие экстазы, припадки работоспособности, какие я переживаю сейчас, ― конечно, редки. Да они и ненормальны. Но я люблю эти припадки, хотя они и мешают планомерному образу жизни, мешают мечтам об учебе.
И я, как обычно, продолжаю воображать, что вот-вот налажу и эту сторону своей жизни.
Вы, мое Солнышко нежное, к сожалению, мало помогаете мне ― от разговоров перейти к делу. Книга о Кирове ― это большое, ответственное дело. Для меня это дело чести, проверка собственных чаяний, надежд и, главное ― умения работать.
Пребывание в Лен-де, деятельность, развернутая здесь, как будто позволяют надеяться, что с заданием справлюсь.
Но, Солнышко! Прошу Вас, просмотрите Вы снова книгу Ильина и Галина «Люди СТЗ», «Пушкин в жизни» и в б-ке поищите ряд старых книг типа воспоминаний многих людей об одном. Форма книги, расположение материала, его группировка ― вот над чем мучительно я думаю с первых же дней своей работы. Не скрою, Солнышко, своей печали от того, что груда уже собранных воспоминаний пока ни на йоту не приблизила решения вопроса. Для меня ясно одно, что повторять книги о Ленине мы не должны.
Счастлива, что Вы здоровы! Как моя дочка ― наверное, стала болтать еще больше, чем раньше. Ты почему-то очень мало описал ее, углубившись в анализ своей мировой скорби. Мне, конечно, грустно, что тебе снятся другие женщины вместо меня, но почему, дорогой, Вы, совершая это преступление, обвиняете в нем меня ― это уже просто непонятно. Я же ― Вы знаете мои взгляды ― никогда не протестую против введения в В/жизнь других женщин при одном обязательном условии ― любить меня на высоко отличной степени, нежели ту Вашу незнакомку, приходящую к Вам по ночам.
Дорогой мой! Моя трагедия глубже. Я плохо сплю и совсем, еще ни разу не видела Вас во сне.
Но от этого любовь моя к Вам ведь не уменьшается. Вы знаете мой характер ― людей много встречаю, а сравнить с Вами ― никто Вашего мизинца не стоит. Вы, Солнышко, самородок, не знающий себе цены. И я уверена, что будет время, Вы так развернетесь, что совсем меня забудете. Вот написала ― стало страшно грустно. И вообще плакать захотелось. Нет, нет ― я улыбаюсь. Ведь мы скоро увидимся, и я буду крепко, крепко целовать тебя и свою дочку Соньку.








