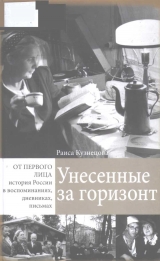
Текст книги "Унесенные за горизонт"
Автор книги: Раиса Кузнецова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
В своем последнем письме я уже радовалась, мое Солнышко, вместе с тобой твоему триумфу, хотя и в небольшом масштабе ― и хочу порадоваться еще раз. В «Комсом. Правде» от 7/XII-29 г. я, читая ст. Бариля и Алексеева об «эстетствующей литературе», где немного задевался и Агапов, ― невольно задумалась о пути, по которому идешь ты. И хотя моя оторванность от литературы, происходящая по причинам
1 ) недостатка времени и, главное, 2) неимения современной литературы в биб-ках г. Иркутска, ― затрудняет мне ответ на поставленный вопрос, но все же, учитывая твои субъективные данные, я немного содрогнулась: в тебе есть что-то «эстетствующее», по крайней мере, в вещах, наиболее мне знакомых.
Там здорово задевали Пастернака, хотя и не ругая его прямо, но как бы говоря, что это вопрос именно данной материи. Успокаивает меня то, что ты сейчас работаешь при «Н/газете». Думаю, там руководство поставлено лучше, а главное, Солнышко, возьмись изучать Плеханова. Ты увидишь, что это чудный и благодарный материал, который поможет тебе избежать многих ошибок. В отношении возражений на твою повесть. Конечно, я ничего не могу сказать, поскольку я не знаю твоей повести, но по существу некоторых возражений ― считаю их обоснованными по отношению ко всем твоим вещам, а именно: о загруженности образами и о том, что герои ― какие-то сумасшедшие люди. Думаю, что это очень меткие и верные замечания, ибо они как раз характеризуют твое творчество. Загруженность фразами, вернее образами, у тебя настолько велика, что, честное слово, я просто боюсь, что ты быстро испишешься. Умные писатели умеют свои редкие образы помещать так в груде других обыденных фраз, что свет на них падает со всех сторон таким образом, что эти образы приобретают в глазах читателя особую красочность и колоритность. У тебя же безбожное разбазаривание образов. Я, конечно, понимаю, что это «разбазаривание» ― понятие относительное, ибо здесь нужно принимать во внимание всю совокупность данных, имеющихся у каждого отдельного индивида-писателя, ибо здесь нужно принимать во внимание также, что часто у других людей имеется «мало», у других «много». Ты должен сам учесть это и понять, что если ты станешь писателем, то писать нужно будет всю жизнь, и не придется ли тебе пожалеть о прежней расточительности образами. И дальше: «герои какие-то сумасшедшие люди». Я думаю, это, наверно, так. Ты очень, Солнышко, любишь людей с громадными чувствами, с сильными страстями и, присоединяясь к мнению, что это живые люди, боюсь что-либо еще сказать. Буду ждать дальнейших событий, а в части советов я уже сказала, и, думаю, ты согласишься со мной: надо учиться и быть, главным образом, не диогенствующим молодым человеком, идущим по индивидуалистическому пути, а марксистом. Чтобы отрицать Маркса, надо его знать, а когда узнаешь досконально, уверена, преклонишься перед его гениальностью. До чего мне было трудно понимать его вначале, и до чего привыкла я теперь.
О своих успехах писала. О материальном положении ― очень скверно, но, в общем, неважно. Работу, если можно, бросай и займись основным делом. Приз ....твой...мой....
Итак: оба за учебу. Ипохондрию как неотъемлемую часть женского настроения ― изгоняю. Тебе, открывшему этот закон, да пусть будет стыдно ― он не вечен, ибо проистекает из весьма существенных моментов, из коих главный ― презренный металл. Но мы должны быть выше этого. Итак, за работу, мое тщеславное милое Солнышко.
Целую. Рая.
Рая ― Аросе (12 декабря 1929)
Никогда в жизни, с таким нетерпением, доходящим до отчаяния, ― ни от кого не ожидала я с таким нетерпением письма, как в этот раз от тебя. А оно долго, долго не поступало. Получила перевод с извещением о присылке бумаги, но и здесь преследовали неудачи. Когда на почте получала посылку, получила твое сообщение, и вдруг ― о, ужас! Мне подают большой ящик, из которого сыплется сахар. Разве мог ты послать это мне? В первый момент я даже растерялась и лишь с трудом разобралась, что эта посылка из дома. Твоей же посылки не оказалось. Только через 2 дня нашла на главном почтамте перевод от мамы и твою посылку. Я зубами разорвала мешочек, я на улице трясла и перетряхивала тетради, однако письма там не оказалось. Мне показалось это до того обидным, что почти с досадой я смотрела на тетради, вероятно, добытые тобой с таким трудом и спасающие меня из критического момента. И лишь сегодня, 4 дня спустя, я узнаю, что мне еще вчера пришло доплатное письмо, но его в общежитии не взяли ― у дежурного не было денег... Да, ведь я забыла. Я уехала из общежития. Но нет, начну по порядку.
Основное: мое письмо было написано под влиянием момента, момента, учитывать который ты не можешь, ибо весьма мало знаешь меня со стороны именно этой. Я необычайно возбудительна и страшно нервно реагирую на обстановку. Обстановка была тяжелая. Вот и сейчас ― я сижу в Партбюро, а в другой комнате, дверь у меня открыта, обсуждается именно этот вопрос, и фамилия моя фигурирует, и довольно часто, в выступлениях. Но ты видишь, я не принимаю участия в обсуждении, а пишу тебе письмо.
Там рядом ячейка комсомола ВУЗа, высшая ступень нашей организации. Я здесь работаю техсекретарем. Вопрос о моем уходе из общежития вместе с Тосей поставил вопрос об условиях жизни в общежитиях. Именно наш уход, потому что мы являли собой там известных «заправил»: Тося ― предкульткома, а я организатор и устроитель массовых вечеров и даже руководитель. Ведь здесь я не только нервничала, здесь, мое Солнышко ( разреши мне так называть тебя, выбросив всякие подозрения твои, основанные на простой мнительности, в сторону, но об этом ниже...), ― я работала, и очень много. Не считая академ. работы, которую мне пришлось нагонять и которую я все же нагнала, ― я руководила и организовала 2 постановки, отражающие октябрьские дни, и праздник КИМа. Эта штука тоже стоила мне нервов и здоровья.
Мое письмо ты истолковал неверно. Никогда я не думала, что ты мое искреннее бескорыстное желание рассказать тебе все мучительно зреющее во мне, рассказать без утайки о мыслях и чувствах, обуревающих меня в стенах общежития, будешь склонен рассмотреть это как этап подготовки к будущим признаниям о вине перед тобой или как стыдливое чувство с целью умолчания и скрытия чего-то. Это неверно. Моя жизнь со времени приезда в Иркутск не имеет ни одного пятна ― не только с этой стороны, но даже ни с какой другой, кроме одного, довольно смешного и грустного приключения, о котором я уже упоминала в одном из писем, но детали которого я просто не сумею рассказать и изложить письменно, а расскажу при свидании, но еще раз предупреждаю, что здесь ничего вредящего нашим отношениям нет. Просто это один из эпизодов, могущих быть и случающихся с каждым человеком.
О деле! Я переехала из общежития на квартиру, близко от университета, вместе с Тосей. Семья ― хозяйка и дочь, кончающая музтехникум. Хозяйка ― чудная женщина, которая заботится о нас, как мать о детях (фу, трафарету сколько), главное, покупает, и дело доходит до того, что готовит нам омуля к ужину и даже не разрешает нам мыть свою посуду. Обстановка прекрасная. Я отдыхаю и душой, и телом. Наслаждаюсь тишиной и покоем, наслаждаюсь возможностью быть самой собой и с самой собой. Работоспособность повысилась на все 100%, настроение тоже. И хотя немало неприятных минут пришлось пережить, когда при обсуждении нашего ухода громогласно метались и сыпались словоизвержения о нашем капитулянтстве, пасовке перед трудностями жизни в общежитии, о позорном бегстве, о том, что нас надо клеймить позором, но... мы отвоевали себе право заниматься учебой, а не разговорами. Не знаю, насколько убедительны были мои доводы, но их признали уважительными, и имя мое не моталось зря.
Мое чудное Солнышко! Мог ли ты сообщить большую радость, чем весть о признании Агаповым твоего таланта! Мое славное Солнышко, любимое! Я верю в твою настойчивость, верю всем трудностям твоей «одинокой» работы, но прости, никогда я не соглашалась с тобой, что настойчивость может создавать твои поистине прекрасные образы, подобных которым я не встречала. Это я тебе говорила не раз, говорю и теперь. Но я также не ощущаю момента упорной, настойчивой, повседневной работы. И я рада, что ты работаешь, рада, что сумел заставить себя забывать окружающее, доходить до той точки напряжения, которая возводит твое творчество до вершин творчества и собственного удовлетворения. Это лучший момент творчества. Ароська! Милый! Я счастлива вместе с тобой нашим общим торжеством. Конечно, нельзя строить все на одном мнении, хотя бы и авторитетного лица, но уже одно мнение да наше общее сознание ― это большая все же сумма. Я думаю, ты не против, что в этом деле, деле твоего восхождения на вершины, я хочу идти рядом с тобой, хотя бы мысленно, мысленно поддерживать тебя, вместе с тобой торжествовать и радоваться вместе ― если это и случится, разделить тяжесть неудавшегося риска, боль падения. Я хочу, чтобы ты не отделял меня от себя и так же, как я, порадовался также моему возрождению, порадовался сдаче моих зачетов, проработке моих вопросов. Конечно, никогда не брошу я с таким трудом добытое и завоеванное право учиться, право в перспективе дальнейшей жизни видеть бесконечный ряд новых познаний, бесконечный ряд новых разрешенных проблем, право на жизнь и ее поглощение в полном смысле этого слова. Мне так больно, что ты нашел у меня в письме какое-то притворство, мне так больно... А в то же время как-то до слез радостно. Наверно, ты меня любишь? И любишь здорово. Ты не можешь себе представить, до чего я люблю тебя в эти моменты. Мне кажется, что ты сейчас чувствуешь все бессилие моего пера, из-под которого выходят такие бледные, неяркие образы в описании таких красочных чувств.
Мое Солнышко! Подумай, ну кто может мне заменить тебя, твое искреннее, неподдельное чувство, дать мне так много! Ведь ты принимаешь меня за какого-то расточительного мота, чтобы я могла разбрасываться такими людьми и такими чувствами, как ты и твое.
Да нет! Нет у меня слов, чтобы выразить все негодование твоим подозрениям и опасениям. Неужели ты думаешь, что у меня, помимо чувств к тебе, нет еще и разума. Ведь одна мысль, мысль о тебе, согревает меня, ставит какую-то точку в Москве, к которой стремятся не только все мои мысли, но и дела... А дела мне говорят, что я приеду в Москву только при наличии определенных достижений. Летом мы увидимся, и очень рано, вероятно в мае. Мы переходим в работе на непрерывный год, будут даваться отпуска, я возьму в первую очередь. Скоро, скоро увидимся. Тогда в дым разлетятся все твои сомнения, и ты увидишь, что твоя Кисанька была, и есть, и останется... до той поры, когда успех твоего дела не закружит тебя, до той поры, когда, возмужав окончательно, ты окончательно определишь себя в отношении всех вопросов, связанных с твоей жизнью и твоим поведением в жизни.
В твоих заключительных строках чувствуется такое недоверие ко мне, такая уже холодность. Подумай, до чего ты договариваешься: «Писать тебе без ответа на мои письма я не буду, так что если ты хочешь, чтобы я тебе писал, то пиши мне» ― ведь это звучит прямо грубо и вразрез с тем условием, с которым мы расставались. Но я это объясняю твоим болезненным состоянием. Кстати, ты опять закурил запоем, ты знаешь, как это вредно, и систематически отравляешь себя, а ведь давал слово, что бросишь. Ну что с тобой поделаешь!
Да, еще: разве я оставляла хоть одно твое письмо без ответа или промедлила ответом? В этом ты упрекнуть меня не можешь...
В общем, мое Солнышко, можно ли считать недоразумение исчерпанным? Надеюсь, что да, и думаю, твое письмо не замедлит ответить мне подробно, в какой области ты работаешь, что пишешь. Если можно, вышли вопросники к литературе, которую разбираете, чтобы я могла читать систематически. Пиши подробно.
Адрес: Иркутск 2-Красноармейская, д 29 кв 1, внизу, мне.
Спасибо за тетради. Целую 1000000 раз
Твоя Рая
Арося ― Рае (21 дек. ― 29 г.)
Честное слово, Раинька, мне хочется начать письмо с «моя милая, родная, славная и т.п.», но потому, что все письма начинаются с этого, я боюсь с этого начать, потому что ты подумаешь ― «это штамп, истертые силуэты, даже не чувств, а слов». Так ты подумаешь.
Помнишь? Мы с тобой как-то говорили о пушкинском «мечты, мечты, где ваша сладость?». Тоже затрепали. Так сказать, живительное прикосновение царя природы ― человека...
Вообще, у меня в последнее время такое настроение, что по своей белизне и ясности оно может сравниться с темнотою негровой за... виноват, ноздри.
Недоволен всем на свете.
Получилась такая история:
Папаша зарабатывает слабо, мама лежит в кровати, ей требуется усиленное питание, нужны деньги на докторов, а я перестал работать.
Деньги нужны сейчас, сию же минуту, а я ради удовлетворения самого себя, забыв обо всем и всех, вдолбил себе в голову, что через две-три недели я окончу повесть, бросил работу и перешел на казенные хлеба.
Ведь что получается? Что я у больной мамы, я, здоровый коблина, вырываю изо рта кусок хлеба!
Третьего дня я пошел на биржу, и вчера меня послали на работу, и вчера же я договорился с одной небольшой артелью, я с ней уже и раньше говорил, но вчера договорился окончательно, что буду вечерами вести у них бухгалтерию. И если бы я мог найти еще одну работу, еще на десять часов в сутки, то я бы взял ее! И если бы я не взял ее, то я был бы преступником! Потому что маму мою нужно питать, и если ей нужны икра, сливки и масло, а денег нет, то кровь с горла, узлом свяжись, а деньги достань! !
Судьба надо мной просто-таки издевается. Если я раньше, ненавидя и страдая, работал 6 часов, то теперь я буду работать 10 часов кроме того, взяв на себя ответственность за правильную отчетность, пусть в небольшом, но самостоятельном деле.
И если судьба существует, и если бы она была каким-нибудь фактически ощутимым фактом, и если она думает, что из-за этого я откажусь от того, что я хочу, чего я добиваюсь, то мы еще с ней поборемся. Стоя буду спать, людей не буду видеть, но победу буду праздновать я! А то я не переживу, если мне придется сказать: «Судьба индейка, жисть копейка, а я пылинка».
Пусть моя повесть движется немного медленнее, но и ты бы, я думаю, так поступила. Ведь те 170 ― 180 рублей, которые я теперь заработаю, необходимы для моей матери, и, конечно, каких бы то ни было колебаний здесь не может быть.
Раинька! Ты ужасно смешная! Ты говоришь о каком-то охлаждении и в доказательство цитируешь из моего письма строки: «Я не буду тебе писать, если ты мне не будешь отвечать». Но ведь ты сама вынудила меня так написать!
Ты в своем письме говорила, что мол я так расстроена, у меня такое настроение, в Никарагуа президент не кушает яичницу и т. п., и потому, мой дорогой, не сердись, если я тебе не буду отвечать, а жарь письмами, и никаких гвоздей! Что же получается? Вполне естественно, что я подумал, что тебе просто неинтересно мне писать, это для тебя обуза, но вместе с тем ты еще идешь на такое самопожертвование, как чтение моих писем.. И подумав так, я обозлился и секунд на пять тебя смертельно возненавидел. Уж очень большое самолюбие во мне, это раз, а во-вторых, «Нет, нет, не нам, не нам давать названья...»
Кисанька, я прочел твое письмо. Ей богу, тупоумие (это тоже, по-моему, пережиток старого, и оно абсолютно недопустимо у нас, и, по-моему, о нем нужно говорить как о государственном преступлении) безраздельно царствует в головах очень многих граждан ССР! Я говорю об этом твоем и Тосином «злостном» поступке. О бегстве из общежития! Неужели же у кого-нибудь хватило ума почти судить вас? Пусть, может быть, это никому не интересно, но передай всему вашему активу, начиная с секретаря ячейки (должно быть, глубокомысленный парень, если мог даже подумать разрешить такой суд), что в свое время, в давние времена, в глубокой древности (тогда, наверно, тоже был Москвошвей), люди тоже ходили, не стыдясь, по улицам, не пряча эту часть тела под материю, в то время как ей место под материей. Я говорю об их головах.
Прости мне, Кисанька, у меня паршивое настроение.
Так все по-старому. Строим пятилетку... свою человеческую жизнь проживем в 2/3 времени. Но кто сказал, что есть вечные 3/3? Человеческая жизнь зависит от условий. Теперь такие условия. И, следовательно, жить мы будем 3/3 времени, хотя бы мы жили 5-ть дней! В общем, я что-то такое сам с собою спорю! Мне, наверно, нужно развлечься, в кого-нибудь страстно и плотоядно влюбиться и тебе об этом не написать.
В общем, я говорю глупости, моя милая, моя любимая Кисанька. Этого быть не может!
Просто из характера не позволю себе этого! (Ударяю себя в грудь).
Если ты следишь за газетами и журналами, то, наверно, знаешь, какое жесткое наступление сейчас ведется на переверзевский метод в литературоведении. Уже четыре дня в ком– академии идет на эту тему диспут.
Во вторник я буду мылить шею Блюму. Он мне доказывал, что у Гоголя потому плохой пейзаж, что он был мелкопоместным дворянином, а у Толстого потому хороший, что он был крупнопоместным дворянином. Я говорил, что это в корне неправильно, что нельзя только экономическим фактором оценивать произведения, но сегодня в газете я прочел, что как раз за это самое, т.е. за утверждение Блюма, кроют и Переверзева. Ты уже, наверно, представляешь себе меня с газетой в руках влетающим в библиотеку, обрушивающимся на Шпилько (она поддерживала Блюма) и потом с нетерпением ожидающим его самого. А я уже представляю себе, как будет вести себя Блюм. Он по-женски затянется папиросой, указательным пальцем струсит не нагоревший еще как следует пепел, потом скажет «Гм, гм,» ― поведет носом, поморгает за стеклами очков и скажет, что в Чикаго марсиане, континентально угоревши, улызымынывают спирализмы, желудевое кофе и высокий дух.
Я ничего не пойму, и он сам не поймет и окажется правым.
В блеснувших молниях, в сыпучих звездах,
В горячих мерзлостях зимы.
Вот хотел написать тебе что-нибудь, но передумал. Настроение такое, что, наверно, получится какая-нибудь гробовая серенада. Пишу тебе письмо у товарища, он сидит напротив за столом, ест шпроты, пьет портвейн и все время доказывает мне, что письмо к женщине всегда успеется, а портвейн, если я буду продолжать писать, он весь до дна выпьет.
Я ему только что сказал, чтобы он хоть рюмку оставил мне. Ужасная сволочь в этом отношении. Он партиец и председатель той артели, в которой я буду работать. 1/2 жалованья он всегда пропивает. На производстве он держит водку в конторке, я ему предложил, чтобы он держал ее в Красном уголке в бюсте Ленина (большой бюст из гипса с углублением по направлению к голове внутри). Он не соглашается. Вообще считает себя 100% выдержанным.
Отвечай скорей. Целую. Арося.
21/XII1929 года.
Рая ― Аросе (30 декабря 1929)
30/XII
Закончив письмо, поняла, что упустила весьма существенный момент о моей дилемме. Солнышко! Это сказано под горячую руку, и хоть я, безусловно, человек средний, я руками, ногами, ногтями и зубами буду бороться за право учиться.
Послала домой телеграмму. Этот шаг уже говорит за многое, на что я решилась: я иду на просьбы. Пока не ответили, но, думаю, не откажут... В общем, ты должен быть спокоен. Кисанька не подкачает. И не обращай внимания на все мои жалкие слова. Это «в минуту жизни трудную» ― я только прошу тебя простить меня за то огорчение, которое я, быть может, доставлю тебе этим своим сообщением о моем настроении. Но ты не должен быть в претензии. Кому же, как не Солнышку, изольет Кисанька свои наболевшие вопросы, и почему я не могу любимому поведать часть своих неудач и огорчений? Не сердишься? Милый, любимый Аросенька! Не сердись, мое ясное Солнышко! Все пройдет. И я хочу верить, что настанут такие времена, когда мы оба поднимемся выше этой мелочи житейской суеты. Ну их к черту, эти деньги!
Ах! Я так хочу видеть тебя
Отвечай немедленно. И не таскай письмо в кармане по неделе. Стыдно!
Знаешь, мне ужасно нравится, как кроют Уткина в «Литературной газете» от 16/XII. Ну и здорово! Какой контраст с теми лестными отзывами, которые помещались в «Комсомольской Правде». А по-моему, за дело кроют, и при том страшно остроумно.
Я не спец, чтобы судить Переверзева, но я думаю, что вопросы механического подхода его к вещам я чуть ли даже не с тобой разбирала. Вернее, сообщала в виде информации после разбора «Преступления и наказания». Да, ты ведь недавно читал эту книгу. Если захочешь ограничить свои пылкие восторги, свое «зверь» ― перед этой книгой, ты возьми на эту тему Переверзева, и ты увидишь, как, механически подойдя к этому вопросу, Переверзев разложил на атомы Достоевского и преподнес в виде золотых пилюль, внутри содержащих дырочки от баранок, ― читателю Достоевского. И если в критике Белинского Пушкин выступает еще ярче, еще образней,
Переверзев из гиганта Достоевского делает мальчика с мальчиковым содержанием. Это меня особенно возмущало. Все герои по разрядам, по циклам. Каждому свою определенную клеточку ― и «не рыпайся».
Ох! За дело его кроют! Ты сообщай, как кончится дело. А еще обрати внимание на ст. Батрака «О психологии творчества» в этом же номере Литгаза. Есть ценные мысли, необходимые твоему творчеству... Довольно, довольно! Когда пишу тебе, все кажется, что ничего не написала, вот почему мои письма громоздки по объему и по содержанию ничего не выражают.
ЦЕЛУЮ свое Солнышко.
Рая.
Рая ― Аросе (Скорее всего конец декабря 29 г. ― начало янв. 30 г.)
Если тебе хотелось начать письмо свое ласково, почему ты этого не сделал? В любви (если она существует) важна непосредственность, прямота, все то характерное, что идет от сердца, а не из головы. Мне в эту тяжелую минуту, которую я переживаю, важнее были бы несколько ласковых слов, тот подъем и энтузиазм, которыми дышали твои первые письма. Твои письма заражали меня бодростью, давали мне зарядку на долго, долго дней, до получения следующего письма. А мне она необходима!
Мое Солнышко! Если ты грустишь о тех медленных темпах, которыми должно идти твое творчество в силу тех материальных условий, из которых сложилась жизнь твоя и около тебя, я грущу вместе с тобой, и я еще грустно улыбаюсь тем речам, которыми ты хочешь заглушить боль твоего самопожертвования. Я против громких речей (прими в порядке самокритики) ― но и я считаю, что здоровье мамы все же должно стоять на первом плане ― в сравнении с темпами. Еще хорошо то, что перед тобой не стоит дилемма выбора ― бывает и хуже, Арося! Бывает, мое ясное, милое Солнышко!– что перед нами ставят право выбора: или то, ли это. А решить, что «то» или «это» ― для человека труднее всего, тем паче если в одном из этих элементов находится мечта, мечта, быть может взлелеянная в течение долгого времени. А я, мое Солнышко! стою перед такой дилеммой; материальные (все они, проклятые) условия таковы, что всерьез ставлю вопрос, могу ли я учиться и имею ли я, именно я, право на такое счастье; я, очевидно, из породы неудачников. Ах, нет! Здесь явное противоречие. Когда-то я считала себя очень счастливой в смысле устройства своих материальных ресурсов. Теперь не то!
Это не ипохондрия, это только один страшный момент, когда приходится взглянуть настоящей правде в лицо. И кажется мне, Арося, что ты роковым образом сходен в этом со мной. Подумай, что значит материальная необеспеченность в те минуты и дни, когда надо совсем забыть о такого рода делах. Я не знаю, встретимся ли мы в жизни, но мне кажется, мы оба останемся, в силу этих проклятых условий, тем, чем были: «мечтателями» ― это удел всех средних людей. Выше головы не прыгнешь. Ты веришь, я плачу, это непростительная слабость ― не поддержать тебя в твоем решении, а навеять большую грусть и большую тоску. Это даже не слабость, быть может,, это преступление, ибо мои рассуждения в отношении тебя ― это, пожалуй, и более чем слабая теория. Нет, нет ― все, что говорила о тебе, безусловно, абсурд, ведь у тебя не только желание, у тебя громадный талант, мое Солнышко, и ведь смогут же перемениться обстоятельства так, что ты получишь большую возможность работать над его усовершенствованием, расти и развиваться в сторону правильного направления твоих сил. Это неправильно, мои разговоры, ― и я от них отрекаюсь. Я надеюсь на тебя (если моя надежда для тебя что-то значит) ― и уверена, что тебя не сумеет затянуть зашибание 170 ― 180 р. и рюмка портвейна, потягиваемая после 10-часовой работы, не дающей ни уму ни сердцу никакой пищи, уверена, что ты все с таким же жадным вниманием будешь следить за перипетиями и исходами всевозможной борьбы, разгорающейся вокруг формирующегося истинного писателя, все с таким же энтузиазмом будешь совать в нос своим оппонентам подтверждение твоих умозаключений, изложенных в какой-нибудь из популярнейших статей одной из авторитетнейших газет. Я хочу надеяться, что тебя не оставит острота наблюдений и остроумное суммирование их в одно изящное целое, я уверена, что и в дальнейшем в речах твоих будет много огня, энтузиазма, а для меня, для меня... несколько теплых слов...
Я редко перечитываю письма во время писания, сейчас отступила от этого правила...и поразилась. Какой безнадежный пессимизм! Неверно это! И хотя я могла бы зачеркнуть, т.е. не послать тебе первый лист ― я этого не сделаю ― пусть, раз это вырвалось, будет известно и тебе... Но я оговариваюсь:
Мой пессимизм навеян весьма грустными происшествиями, случившимися в ВУЗе. В один и тот же день 26/XII ушли из жизни 2 студентки педфака, обе с литературного отделения, одна Ш-го, другая I-го курса. Взаимной связи их трагического конца нет, но совпадение весьма показательно. Сейчас я вернулась с Бюро, где часа 4 подряд печатала «знаменитый» протокол вечера Самокритики и критики, где и вкривь и вкось «критикнули» Молчанову. Она защищалась, ее же обвиняли в том, что ее муж. (от которого незадолго ушла из-за побоев) получает 250 р, в том, что любит хорошую одежду, пудру, духи и целованье ручек. А это значит отрыв от массы, потеря комсомольского лица. Она застрелилась (III курс). Другая в общежитии, где жила, отравилась эссенцией. Удалось спасти. Говорят, « реклама для получения стипендии» ― хороша реклама! Многие же ребята «рыцарски» объясняют этот случай тем, что она за ними «бегала», но «мы» (самодовольно) ― «давали отпор».
Мое материальное положение весьма скверно. Из дома не получила ни копейки, а ты знаешь, сколько денег я взяла с собой. Но я особенно не унывала, занимала под «получку» ― и только сегодня расстроилась в связи с этими делами. Подумай, уж, верно, нелегко было жить, коль человек пошел на такую «рекламу» ― ведь чем докажешь? ― а у нас смеются и кричат: «Усову выбросить из общежития, она заражает ребят плохим настроением». Так как она только «рекламировала» самоубийство ― с корыстной целью, ― лишите ее и в дальнейшем стипендии...
Однако довольно. Думаю, для тебя неинтересны всевозможного рода «уголовные» дела, коими я столь обильно снабдила мое письмо.
В отношении зачетов ― прекрасно! На В.У.! Почему-то популярна и заметна в ВУЗе. Знают почти все по фамилии, я же мало кого. Апатия имеется, честное слово, изгоню. Никуда не хожу. И сейчас ― Тося на вечере, я дома. Так идет с момента нашего переезда сюда. Из литературы ничего не читаю, нет книг. Страшно некогда. Пропадаю в Бюро коллектива. Чувствую, как становлюсь односторонне развитой, но все же на литер, диспуте на тему: «Студенчество в худ. литер.» ― даже доходила до определения искусства и художественной литературы (в выступлении). Однако недостаток литературы весьма ощутителен.
Тебя люблю очень. Часто думаю и фантазирую о нашей будущей встрече. Страшно ждала этого письма. Теперь буду отмечать даты своей посылки и точно высчитывать сроки. Меньше муки. Пиши. Люблю. Целую.
Раиса
Арося ― Тосе (30 дек. 1929)
Тося! Протягиваю Вам руку, жмите ее!
Вы, как видно, прекрасная подруга, всегда готовая своим правдивым словом отстаивать святую правду! Ваше выступление, столь приятное и неожиданное, сердечное и твердое (с подробным изложением курса корабля Вашей жизни), заставило меня искренне смеяться! Честное слово!
Вы выступили, так сказать, в роли тяжелой артиллерии, долженствующей разбить все мои сомнения в отношении нравственной стороны рейса жизненного корабля Раисы. Но даю Вам слово, что не нужно было писать, что я думаю, «...что она якобы забыла учебу, увлекается и ведет любовные интриги...» И что Вы еще этим, т.е. моими мыслями, даже возмущаетесь. Предположим, что я так думаю. Но неужели же Вы думаете, что после Ваших слов я как-то изменю свое мнение?! Ни в коем случае. Вы ведь подруга, на пере которой в данную минуту сидит Раиса. И если бы Вы захотели написать что-нибудь другое, то Раиса уперлась бы ногой (знаете, как правят в саночках), и Ваше перо ничего не могло бы поделать. Но, к слову говоря, я ничего из того, что Вы мне приписываете, никогда не думал.
Теперь ― в отношении программы Вашей жизни. То, что я буду говорить, я буду говорить совершенно серьезно, как высшая объективность, «как Господь Бог из куста на Синайской горе»!
Я думаю, что нужно было бы переставить порядок Ваших «слоев».
Первым должно было бы быть ― любовные дела, затем горячая переписка с Москвой и затем общественная работа. Почему? Да потому, что тогда не будет разрыва теории с практикой.
Нет, нет, не верьте, что я так думаю! Это я просто так ― для слова.
А еще...простите, уважаемая Тося! Никогда и ни в коем случае не буду протестовать в отношении чтения моих писем! Читайте сколько влезет! А если Вам действительно в них что-нибудь нравится, то заучивайте наизусть! И говорите со сна!
Тося, я ужасно любопытный человек. Я обязательно хочу видеть того, с кем я говорю. Опишите себя! Какого Вы роста, какие у Вас волосы, какие у Вас глаза и, главное, какие у Вас нос и губы. Но я Вам заявляю (не говорите об этом Раисе), что нос у Вас должен быть обязательно греческий или -гм, гм ― такой, как у меня, т.е. великолепный. Но я шучу. Нос у меня очень некрасивый. Из самолюбия, конечно, не добавляю, что и все остальное... Замнем этот разговор. (Все зачеркнутое я Вам напишу после, когда мы познакомимся немного поближе).
(Зачеркнута строка).
Жму Вашу, мне почему-то кажется, смуглую руку.
(Роспись)
30/ XII1929 года.
Через 23 дня оболтусу, подписавшему это письмо, исполнится 20 лет. Эх, бежит молодость! А вы говорите, что моя перестановка слоев неправильна и вредна.
Арося ― Рае (30 дек. 1929)
Любимая, милая Кисанька!
За что ты на меня взъелась с этой Надей? Да клянусь бородой Калинина, я ей не показывал ни одного твоего письма! Она спрашивает: ― Пишет Раиса? ― Я говорю: ― Да, иногда. ― Что у ней слышно, как занятия? ― Я говорю: ― О занятиях она не пишет, а пишет о драмкружке, о внезапном упадке духа и т.п. И больше ничего. Истинную правду! Я даже не читал, что она тебе писала, она черкнула свою записку, я вложил ее в конверт, тут же запечатал и бросил в ящик! Меня самого интересует, что она там написала! А то, что она сказала, что ты человек с раскрытой душой, то это факт. За два дня нашего знакомства ты мне рассказала все свои трагедии, а Шпилько ― «мы интересовались рифмой» ― прочла «Щепоткою расцвеченной сирени». Почему я Шпилько такое не написал, а тебе написал?








