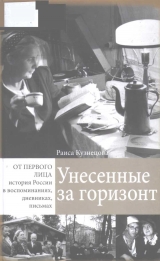
Текст книги "Унесенные за горизонт"
Автор книги: Раиса Кузнецова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)
Поездка в Крым
Отдохнув немного, Ваня почувствовал себя хорошо и тотчас погрузился в работу, выполняя плановые задания института, редактируя материалы для «Вопросов философии» и «Науки и жизни». Жизнь потекла спокойно и нормально. Единственное, что мне не нравилось, ― это возросшая занятость Вани в институте. Он-το со мной с восторгом делился своими успехами по части организации работы сектора, тем, что начали получаться книжки по вопросам философии естествознания, и перспективами их издания. Все это требовало от него много сил, внимания и времени. Не пропускал он и заседаний дирекции и собраний парторганизации. Я с тревогой наблюдала его возбуждение, его лихорадочную деятельность. Звонила в институт, спрашивала, как там себя чувствует Иван Васильевич, не жалуется ли на головную боль, на сердце.
– Нет, ― обычно отвечала мне секретарша. ― Он выглядит отлично, румянец во всю щеку, глаза блестят, на месте не сидит.
– Ради бога, ― молила я секретаршу, ― напомните ему, чтобы принял лекарство, ведь все это признаки, что у него поднялось давление!
А вечером получала «выговор»:
– Ну, зачем ты беспокоишь людей?
– А затем, ― отвечала я. ― Держу пари, что давление и сейчас у тебя высокое.
Он покорно позволял измерить давление и со вздохом, бывало, признавал мою правоту.
– Тебе все-таки надо сократить объем работы, ― просила я его.
– Нет и нет! Тогда мое давление станет еще выше, я не могу оставить сейчас сектор, где удалось достаточно рационально организовать работу.
Когда ему присвоили звание профессора, он сообщил мне об этом даже несколько смущаясь, но чувствовалось, что очень рад признанию его заслуг. А я, конечно, гордилась его успехами, хотя тревога не оставляла меня, несмотря на то, что зима и весна прошли для него благополучно.
Рано переехали на дачу: дети подросли, и мы оставили их на Мавру Петровну заканчивать занятия в школе. Ивану Васильевичу институт пошел навстречу ― разрешив являться на работу, когда он сочтет это необходимым. Наличие машины делало эти поездки приятными и неутомительными. Обычно я старалась его сопровождать, заодно навещала детей, закупала продукты. Но погода летом шестьдесят второго года оказалось очень плохой ― холодной и дождливой, атмосферное давление было, как правило, низким. Ваня не жаловался, но чувствовалось, что ему не по себе. Стала советоваться с диспансерным врачом, она не отговаривала, наоборот, активно поддержала мое предложение «поехать туда, где тепло». К этому времени чета Литинецких вновь прислала нам предложение о совместном отдыхе ― на этот раз в Крыму, где у них в Международном лагере для студентов был «большой блат» и где, уверяли они, нам будут созданы исключительные условия для отдыха. И мы, как бабочки на огонек, полетели на машине в Крым.
Первая часть пути прошла прекрасно. Но уже в кемпинге под Харьковом нас обступила жаркая, душная ночь. Ваня стал задыхаться. Перепуганная, я стала его умолять вернуться.
– Ни в коем случае, ― отрезал он, ― посмотри, как счастливы дети, что едут в Крым, да и перед Литинецкими неудобно, второй раз их обманем, ведь послали телеграмму, что выехали.
И так всегда, забота о собственном состоянии отступала перед заботой о других. Прохладным утром ему стало лучше, и это успокоило. Мы продолжили наше путешествие. Дети, которые спали в кемпинге, даже не ощутили, какую беспокойную ночь мы провели. Единственное, что сделал Ваня, ― на весь день отдал руль машины Володе, чему тот был безмерно рад.
С восторгом любовались мы морем, когда оно открывалось перед нами с высоты горной дороги, что шла от Симферополя до «Рабочего уголка», где и ждали нас друзья. Было уже очень жарко, но Ваня вроде бы чувствовал себя неплохо. Полюбовались Ялтой, затем спустились к морю, в «Рабочий уголок». Наши друзья встретили нас восторженным «ура!». На первое время устроили в изоляторе лагеря, благо больных не было. Он находился совсем недалеко от моря. Но даже на берегу Ваня задыхался ― так ему было жарко, в то время как я и дети нисколько не страдали от жары, хотя она достигала тридцати шести градусов.
В изоляторе ему было не легче, а даже хуже. Я мучилась от сознания, что не сумела его уговорить вернуться из Харькова. Так прошло двое суток, когда нам сообщили, что мы можем перебираться в отдельный домик наверху. Ночь прошла очень тяжело, поэтому встали чуть свет, собрали вещи, вышли из изолятора и остановились в раздумье: идти наверх, где нас ждал домик, или спуститься вниз, к машине, чтобы пуститься наутек из этого райского, но такого жаркого уголка. Пошли наверх, и я увидела, как побледнел Ваня, как судорожно стал дышать.
– Идем вниз! ― скомандовала я.
Дети хоть и скривились, но молча подчинились. И мы пустились в обратный путь. Из Симферополя сообщила телеграммой Литинецким о причине нашего отъезда. Ваню я посадила на заднее сиденье, сама села рядом. Володя вел машину. Я сразу намочила махровое полотенце и окутала им Ваню. К вечеру добрались до Запорожья и остановились в гостинице, сиявшей своими огнями недалеко от шоссе. Нам повезло: получили трехместный номер, добавили две раскладушки, в буфете нашлись фруктовая вода и какие-то продукты. Ване стало значительно легче, но все же духота продолжала его томить. Выехали рано, пополнив запасы холодной воды, которой продолжала смачивать полотенце и окутывать его грудь. После Харькова погода резко изменилась: дул холодный ветер, моросил мелкий противный дождь, но Ваня сразу ожил и даже помогал Володе ставить запаску, когда у нас после Белгорода лопнула шина. А я дрожала в свом летнем пальто, хотя дети, одетые тоже по-летнему, вели себя просто молодцами. Испорченный домкрат намного удлинил нашу стоянку под дождем, и я, мысленно проклиная все на свете, стала про себя твердить, что никогда, никогда не насадить нам запаску (я уже приметила, что когда я всерьез не верю во что-то хорошее, оно происходит. И наоборот, верю или похвастаюсь чем-либо, все получается плохо). И действительно, домкрат, несмотря на скользкую дорогу, установить под машину удалось быстро, и запаску надели.
И вот наша машина тормозит у внуковской дачи.
Самочувствие Вани резко улучшилось, и уже через день-два он уселся писать для «Вопросов философии» обещанную статью.
Вернулись в город в конце августа. Жизнь текла своим чередом, спокойно и весело. Я занималась общественной работой в Московском профкоме драматургов и в Союзе кинематографистов. А еще продолжала писать сценарии для Киевской и Свердловской студий н/п фильмов
Второй инфаркт
Радостно встретили новый, 1963 год, не ведая, что нес он нам много печали.
11 апреля отметили двадцатилетие нашей совместной жизни походом в театр. Помню, смотрели пародийный спектакль «Гурий Львович Синичкин». В антракте увиделись с Назымом Хикметом ― дружески поздоровались и отошли. Я обратила внимание на то, как красив и весел был Назым, Нельзя было даже подумать, что через 50 дней его не станет.
А у нас несчастья начались в ночь с 14 на 15 апреля, всего через три дня после так хорошо проведенного нашего с Ваней праздника.
14-го мы ходили в кино, на вечерний сеанс. Когда вернулись домой, я заметила, что Ваня явно устал и как-то возбужден. Мы довольно быстро заснули, но вдруг я проснулась, будто меня кто толкнул: Вани рядом со мной не было. Он стоял у стола и, задыхаясь, что-то глотал...Я разбудила Веру Федоровну, которая заночевала тогда у нас, ― она сделала ему укол, мы положили к рукам и ногам грелки, но его продолжал бить озноб, потом открылась рвота. Я вызвала из академической поликлиники «Скорую».
Врач сразу начала делать внутривенные уколы в обе руки, а медсестра колола его подкожно. Доктор объяснила потом, что Иван Васильевич был близок к коллапсу.
Картина этого приступа выглядела гораздо страшнее, чем в 1957 году. Я очень испугалась. И просто умолила Веру Федоровну пока пожить у нас: все-таки она медик, с ней мне было спокойнее.
И опять были врачи, известные профессора-кардиологи. Они настаивали на госпитализации. Я была против, но что мои слова по сравнению с их авторитетом? В тот момент, когда Ваню переносили в машину, подъехал молодой доктор, ученик Лукомского, с которым мы договаривались о дежурствах. Я быстро объяснила ему ситуацию, на что он укоризненно покачал головой, так как считал, что Иван Васильевич пока нетранспортабелен.
Когда мы с Верой Федоровной приехали в больницу, в палату нас не пустили. Ночью, как выяснилось позже, Ване было настолько плохо, что ему хотелось умереть. Приступ не могли снять больше шести часов. Впоследствии он сказал мне:
– Если бы я тогда лежал у окна, клянусь, я бы выбросился из него...
Но об этом он рассказал спустя много времени. А тогда... Меня пустили к нему только во второй половине следующего дня. Я вошла и увидела: он лежал такой измученный... И я подумала: «Кончено!» Но он улыбнулся и прошептал:
– Не волнуйся. Все обошлось. Думаю, больше не повторится...
Меня удалили из палаты, и я сидела у двери. А лечащий врач (не буду называть ее имени, пусть будет Икс, и Бог ей судья), проходя мимо меня говорила:
– Не уходите, он может умереть каждую минуту.
Ее и зав. отделением злило, что я приглашала для консультаций известных врачей. Когда приехал проф. Лукомский, они просто взбесились (кстати, его пригласила не я, а П.Н. Федосеев). Когда я после ухода Лукомского вошла в палату, Ваня сказал мне:
– Ты знаешь, что она сказала? Ваша жена воображает, что вас спасут знаменитости! Неужели мое дело так плохо?
Я, конечно, твердо заявила, что все это глупости, что все врачи говорят: «Он обязательно поправится!» А в ушах звенели слова Лукомского: «Шансов почти нет, но будет сделано все, чтобы его спасти».
Опущу подробности, но не могу не вспомнить тех, кто спас тогда моего мужа. Это профессора Лукомский и Василенко, профессор Ольга Ивановна Глазова, которая подала нам надежду. Она сказала:
– Он тяжелый больной, но из худших он еще лучший. Его можно и нужно вытянуть.
А В. Х. Василенко, который сначала поддержал мнение лечащих врачей, после разговора с О. И. Глазовой поддержал ее. Икс и ее консультанты обрушились на Василенко:
– Вы что, отказываетесь от первоначального мнения?
На что он ответил:
– Мне жаль, но жизнь больного дороже, чем честь мундира.
И они вынуждены были отменить почти все свои прежние назначения.
А еще я благодарна главврачу больницы (к сожалению, не помню его имени). Он искренне сочувствовал мне и поддерживал мои старания. Именно он посоветовал мне обратиться к В. Х. Василенко.
К счастью, Икс собралась в отпуск. Она заявила мне:
– Не думаю, что вашего больного захочет добровольно взять кто-нибудь из врачей.
Такой доктор нашелся. Екатерина Дорофеевна. Она потом сказала мне, что его история болезни была так описана лечащим врачом Икс, что оставалось только добавить слова: летальный исход такого-то числа.
Как мне стало известно позже, ситуация с Иваном Васильевичем серьезно обсуждалась на конференции врачей, и дело закончилось тем, что из больницы АН СССР были уволены Икс и врач, перевозившая на «Скорой» нетранспортабельного больного.
Смерть Кости
Володя только что окончил школу, и ему предстояли вступительные экзамены на физфак МГУ. Учился он не столь блестяще, как старшие наши дети. С математикой и физикой дело, правда, обстояло неплохо, но Ваня очень беспокоился, особенно за русский и литературу. Короче говоря, до проходного балла Володя не дотянул. Но Ване я об этом не сказала. И тут мне помогла бывшая аспирантка Ивана Васильевича, а теперь преподаватель философии Любовь Ивановна Щекина. Она узнала, на какое отделение физфака был недобор, и добилась, чтобы Володю туда зачислили. Ваня, не знавший обо всех наших треволнениях, весь сиял, когда узнал, что Володя стал студентом. Самочувствие его улучшалось с каждым днем.
Врачи сказали, что после больницы желательно вывезти его из Москвы на свежий воздух. Наша хибара не годилась для жизни зимой. Поделилась своей заботой с Зиной Маркиной. Та предложила свою довольно благоустроенную дачу, ту самую, где когда-то жили Соня с Костей и маленьким Ванечкой. Мы переехали туда в ноябре. С нами поселились Вера Федоровна и Володя ― чтобы в случае чего была возможность быстро увезти Ивана Васильевича в город. Однако возникла проблема: Володя желал ездить в университет только на машине, мотивируя это тем, что трудно везти в руках заказанные продукты. Я, конечно, уступала ему. В итоге моя уступчивость обошлась нам очень дорого. Володя завалил весеннюю сессию. Тайком от Вани я снова обратилась к Любе Щекиной, она поговорила с деканом, и я по ее совету написала на его имя заявление, в котором в качестве причины Володиной неуспеваемости называла болезнь его отца. Декан хорошо знал Ивана Васильевича и пошел навстречу: разрешил Володе сдать сессию осенью и для этого освободил его от «летнего семестра» ― работы в стройотряде.
Пока мы жили у Зины Маркиной, в нашем домике шли работы по его благоустройству, чтобы в нем было комфортно жить не только летом. И с огромной радостью уже в апреле 64-го года мы перебрались в наш собственный дом. Ваня был счастлив.
На нашем участке был еще маленький летний домик, который я и отдала Володе для занятий, чтобы его ничто не отвлекало. Но когда я входила к нему, чтобы, например, позвать его обедать, то всегда происходило одно и то же: Володя торопливо прятал книжку или журнал, которые не имели никакого отношения ни к математике, ни к физике. Я пыталась убедить его, что если он не возьмет себя в руки, то попадет в армию. На это он отвечал: «Не пугай. Мне и в армии будет хорошо».
И вместо того чтобы заниматься, добивался отсрочки экзаменов. В конце концов его личное дело оказалось в военкомате, и он отправился на три года в железнодорожные войска.
Я, конечно, опасалась в связи с этим за здоровье Вани. Но он перенес достаточно стойко этот удар и запретил мне добиваться отсрочки призыва. Нельзя начинать жизнь с фальши, считал он.
А тут новая и гораздо более страшная беда: заболел Сонин муж Костя. Впервые болезнь проявилась, когда он во время отпуска был в Сибири, в экспедиции с друзьями-геологами. В Нижне-Ангарске он попал в больницу с очень высокой температурой и увеличенными лимфоузлами, но скоро приступ прошел, и его выписали. Когда он вернулся, он показался нам очень бледным и исхудавшим. А в середине сентября снова оказался в больнице, в клинике Б. Петровского, который прямо сказал Соне и Костиной матери, что Костя болен неизлечимо, у него лимфогранулематоз. Его облучали, проводили химиотерапию. Правда, два раза наступала ремиссия, Костя даже возвращался на работу, и Соня продолжала надеяться на выздоровление. Однако состояние его все ухудшалось, и в марте 1965 года он умер. Ему не было и 34-х лет.
Костя умирал дома. Ванечке было тогда почти 11 лет. Он плакал и говорил:
– Почему не могут спасти папу? Надо перелить ему всю кровь!
Временами я думаю, что в решении Сониных сыновей Вани и Алеши стать врачами большую роль сыграла чудовищно ранняя смерть их отца.

На курорте в Крыму, лето 1939 г

Сходня, май 1941 г. Сережа Кузнецов и его дедушка Борис Владомгрович Ермолов (известный хирург) на даче. Подпись гласит: «Сверкает солнце прямо в нос У ног сидит послушный пес».

Раиса Харитоновна в период эвакуации. Свердловск, 1942 г

Лето 1946 г. Истра, на даче. Василий Иванович, Александра Васильевна, Иван Васильевич, Раиса Харитоновна Кузнецовы.

29 апреля 1946 г., Совинформбюро. Соломон Абрамович Лозовский и его сотрудники (справа Раиса Харитоновна)

Середина 1940-х годов. Работа в Управлении пропаганды ЦК ВКП(б): Иван Васильевич Кузнецов и Сергей Георгиевич Суворов.

21. 1949 г. Выступление Р.Х. Кузнецовой на митинге.

22. Сергей Иванович Вавилов – президент АН СССР. Из семейного архива Ивана Васильевича.

23. 11 июня 1946 г., Москва, Гоголевский бульвар. Маленький сын Володя (13 месяцев и 1 день), Соня (старшая дочь) и Раиса Харитоновна.

24. Демонстрация 1 мая 1946 г., Москва. Раиса Харитоновна ― слева.

25. Санаторий АН СССР «Узкое», 1956 г. Работа над новым учебником «Основы марксистской философии».

Пионеры разработки «философских проблем естествознания» в СССР, слева направо: Овчинников Николай Федорович, Кузнецов Иван Васильевич, Кедров Бонифатий Михайлович, Омельяновский Михаил Эразмович. Начало 1950-х гг.

25. 1950 г. Иван Васильевич с дочерью Наташей на даче в Пионерской (Подмосковье).

26 апреля 1952 г. Елена Борисовна Ермолова-Кузнецова.

29. 1953 г., Соня и Костя Алексеевы (студенты физического факультетг МГУ). Годовщина свадьбы.

1952 г. Новая ― отдельная! ― квартира. Сережа, Наташа, Раиса Харитоновна, Иван Васильевич, Эдик

32. 1957 г., Болшево, санаторий: Раиса Харитоновна навещает Ивана Васильевича.

33. Рождение первого внука Ивана (литературный редактор этой книги). Июль 1954 г., на даче в Пионерской: Серафим Тимофеевич Мелюхин, Иван Васильевич, Раиса Харитоновна держит Ванечку, Соня (молодая мама), дети ― Наташа и Володя

1954 г. Георгий Федорович Рыбкин, главный редактор Физматгиза.

34. 1962 г., Иван Васильевич дома, в своем рабочем кабинете (фото С.Т. Мелюхина).

35. 1963 г., Иван Васильевич Кузнецов ― заведующий сектором философских проблем естествознания Института философии АН СССР. Именно этот портрет и сейчас висит в секторе философских проблем физики Института философии РАН
Приложение 1. Письма Игоря ― Рае
Письмо 1 (12 янв. 29 г.)
Я не знаю, разорвешь ли ты это письмо или прочтешь его, я не знаю, как нужно обращаться к тебе ― на официальное «вы» или более привычное и дружественное «ты». Последнее естественнее ― я так и буду писать. Во мне не говорит желание оправдать себя, уменьшить свою вину перед тобой, я просто хочу объяснить... Ты можешь сказать, что это неинтересно да и не нужно тебе ― сам это понимаю, но все же пишу, Так тяжело, очень тяжело уходить из жизни любимой женщины, оставив презрение, а может быть, и ненависть к себе с ее стороны. Твое письмо, кажется единственное, я смог прочитать только в день суда, 28 декабря, т.к. оно было пришито к делу. Лишь за 20 минут до начала судебного заседания я получил в руки дело, а вместе с ним твое письмо. С болью, тяжелой болью я читал страницы, исписанные твоей рукой. В письме звучали и недоумение, и мольба о помощи тонущего человека, и отчаяние любящей женщины. Ты писала, страдая, и плакала, очевидно, а я в это время метался, как дикий зверь, по камере, зная твое состояние, сознавая свое полное бессилие помочь тебе, быть около тебя. Ты писала, что в тяжелую минуту я покинул тебя, бросив на поругание. А я в эту минуту сидел в тюрьме, неся наказание за отчаянную попытку спасти твою любовь, сохранить нашу совместную семейную жизнь.
Правда, я не сказал тебе ни слова правды, кроме «фамилии, имени и отчества». Но ведь обо мне ты сначала слышала от других ― тебе сказали, что я и кто я.
Сначала я обманывал других, а когда от этих других узнала обо мне ты, мне пришлось выбирать: или открыть тебе сразу правду и потерять тебя, т. к. вряд ли зарождающаяся, да еще в таких тяжелых для тебя условиях, твоя любовь смогла бы перебороть хотя и правду, но правду горькую.
Я выбрал более легкий для себя, да и для тебя, путь ― поддерживал в тебе неверное обо мне представление ― вначале я думал постепенно прояснить тебе все, но... добрыми намерениями дорога в ад вымощена ― я запутался, ложь следовала за ложью, обман за обманом ― я катился все быстрее и быстрее по наклонной плоскости, увлекая за собой и тебя.
Но есть и была правда в моих словах ― я действительно сделал изобретение, и изобретение ценное и важное, даже не одно, а два. Я действительно написал сценарии (да ты это сама знаешь) и был уверен, что они будут поставлены. Ты можешь пойти к председателю Осовиахима на Никольской, и он тебе скажет, что действительно сценарий был принят к постановке. То же было и на 1-ой кинофабрике. Я знал, что получу деньги из Осовиахима и за изобретение из Древтреста ― а из этого вытекал мой образ действия.
Да я и получил бы деньги, но получил бы, благодаря оттяжкам и волоките, слишком поздно ― поздно для нас (к сожалению, об этих задержках узнал, когда уже был запутан до максимума).
Может быть, и лучше было бы рассказать тебе всю правду еще тогда, но у меня не поворачивался язык, а главное, моя любовь к тебе ширилась и увеличивалась с каждым днем, и правдой была моя любовь.
Знаешь, так много хочется сказать тебе, что всего не уложишь на бумаге.
Меня судили ― я получил 3,5 года лишения свободы и еще долго, очень долго буду под замком.
Много воды утечет за это время, много людей на своем пути встретишь ты.
Слишком сильным испытаниям подвергал я твою любовь ко мне, так что вряд ли что-либо кроме презрения, а в лучшем случае жалости, осталось в твоем сердце.
Каждый ― кузнец своего счастья, свое счастье ― тебя ― я потерял, и потерял безвозвратно.
И может быть, теперь или скоро ты встретишь другого человека, полюбишь его и рука об руку с ним пройдешь свой жизненный путь. Мне остается только всем сердцем, всей душой пожелать тебе счастья с твоим избранником ― надеюсь, что еще раз тебе не придется испытывать таких ударов и потрясений, какие нанес я тебе.
На моем пути было много женщин, но ни одну я не любил ― настоящая любовь приходит только раз, ― и для меня она пришла в твоем лице.
Тебя я любил, люблю и буду любить. Но слова любви, слова нежные и баюкающие, может произносить свободный человек, а не человек, навсегда выкинутый из жизни. Такой человек, как я, не может ждать к себе любви и нежности и вряд ли может мечтать даже о сочувствии и дружбе.
Если ты захочешь набросать несколько строк ― хотя бы сухих и суровых, ― я буду рад, т.к. этим самым я узнаю, что ты прочла и не уничтожила мое письмо. Человеку, потерявшему все ― и свободу, и любимую женщину, и честь, ― терять нечего, нечего ему и лгать. Я думаю, что ты понимаешь это и поверишь всему написанному мною.
С тобой я хотел найти покой, любовь и счастье ― судьба решила иначе. И к тяжелым переживаниям, к тяжелой жизни в тюрьме лишней тяжестью ложится на душу сознание, что многое, если не все, потеряно по собственной вине.
Медленно тянутся дни в тюрьме, еще медленнее будут ползти они теперь для меня в ожидании неизвестного дня, когда придет от тебя письмо (если оно вообще будет). Пиши лучше заказным.
Еще раз желаю когда-то моей Рае счастливой жизни, любимого и любящего мужа, покоя и уюта семьи.
Если разрешишь ― крепко целую тебя. Игорь
Мой адрес. Ленинград, Выборгская стор. Арсенальная наб. д.5, Изолятор Спец/назн. Срочно-заключ. Винаверу Игорю Андр.
Письмо 2 (июнь 1929)
Ленинград, 12/VI– 1929 г. Дом заключения.
Милая Рая!
Редко в тюрьме бывают такие неожиданности, как получение письма от тебя. Я думал, что отсутствие ответа от тебя ― это конец переписки, ― и рад, что это не так.
Легче стало на душе, когда прочел твои слова о возрожденной жизни, о появившейся цели, к которой ты стремишься, о работе, которой ты, как видно, увлекаешься. Бесконечно рад, что миновала у тебя полоса апатии и отчаяния.
Если мои письма обидели тебя, прости ― у меня не было желания огорчить тебя. Но слишком больно было видеть такое полное и холодное недоверие, почти вражду, звучащую в твоем письме ― хотя права и ты, высказывая недоверие, ты на это имеешь право.
В отличие от философов-циников некоторые немецкие философы ударились в сентиментальный подход к жизни, и хотя в наш суровый, холодный век мы с улыбкой смотрим на проявление сентиментальности ― сами мы, если только искренне, по-настоящему любим, сентиментальны в проявлении любви, некоторые из нас больше, другие меньше ― это дело характера, взглядов и техники. Некоторые в проявлениях любви бурны и откровенны, другие ― молчаливей, любят замкнуто и тихо, но каждый искренен в своем чувстве.
Слишком сильно мое чувство к тебе, чтобы я мог холодно и абстрактно говорить и писать о нем ― и если я был сентиментален, то ты, как женщина, должна была почувствовать, почему это так.
Не из скрытности я умалчивал о своей жизни ― я боялся снова натолкнуться на недоверие, пусть законное, но все же обидное, да и слишком монотонная и однообразная жизнь в тюрьме, слишком мало перемен, чтобы можно было сообщить что-то новое.
По-старому работаю на ящичной фабрике тюрьмы старшим (мастером). Получаю 75 копеек в день, из которых 50 коп. откладывают в неприкосновенный фонд до моего освобождения.
Свободное время посвящаю занятиям немецким языком (у нас здесь есть группа в 7 человек), много работаю по физике и литературе ― пишу и читаю.
Окно камеры выходит на Финляндскую жел. дор., и когда видим проносящиеся поезда, переполненные публикой, стремящейся на дачу, на берег моря, ― больно сжимается сердце.
Погода чудная, да толку в ней мало, так как прогулка у нас один час, а остальное время либо в душной камере, либо в пыли фабрики.
Получаем газеты, слушаем радио («Хриплоговоритель»), так что не совсем отрезаны от мира.
Медленно, медленно тянется время, и очень большим кажется оставшийся срок.
Убивает полное незнание будущего, гнетет сознание того, что ты не человек, а пешка в руках других ― холодных, казенных людей.
Вот сейчас ночь ― вернувшись в камеру с работы на фабрике, я пишу это письмо и не уверен, что следующую ночь буду ночевать в этой камере или даже в этой тюрьме. Утром в любой день могут войти, приказать собирать вещи и готовиться на отправку ― может быть, очень далеко, на север, восток или еще куда подальше.
Сейчас еще, например, спокоен каждый ― но через месяц после заседания Распределительной комиссии опять могут быть различные отправки и перетасовки.
Тяжело и общество, в котором приходится жить и работать, ― мало уму, еще меньше сердцу может оно дать. Воры– рецидивисты и другая подобная публика представлена у нас очень полно и красочно.
И много типов описал я в своих заметках, которые думаю тщательно проработать.
Настолько велик оставшийся срок, так далеко до окончательного освобождения, что я совсем почти не думаю о будущем.
Решил твердо одно: по выходе из тюрьмы уеду в Среднюю Азию и постараюсь устроиться там на работу и постоянное жительство.
28 июня заседание Наблюдательной Комиссии, на которой будет рассматриваться мое заявление о переводе в средний разряд. Есть надежда, что в августе удастся получить указанный в Испр-труд. Кодексе 7-дневный отпуск.
Если только получу отпуск, то даже не буду знать, что с ним делать, куда ехать и как использовать.
Милая, дорогая девочка! Разве может обиженное самолюбие, досада и другое подобное чувство вытеснить и изгнать из сердца настоящую любовь ― конечно, не может, и когда я писал, что любил, люблю и буду любить тебя, то писал то, что есть, то, что переживал и переживаю.
Дело не только в обиженном самолюбии ― ты любила меня, твоя любовь в прошлом, кроме горечи, пожалуй, ты сейчас ничего не чувствуешь ко мне (спасибо за то, что нет ненависти), для тебя я «мертвец», который своими письмами взбудоражил старые незажившие раны ( ты даже в гневе была на мое первое письмо ― это читалось между строк). И вот, боясь вновь задеть тебя, боясь получить от тебя лишний раз упрек в сентиментальности, я в письмах стараюсь сдерживать себя.
Знаешь, так много сейчас хотелось написать, рассказать тебе, что с большим усилием удерживаешь себя от этого.
Когда человек любит, но не добился обладания любимой женщиной, ему больно, тяжело ― но еще больнее и тяжелее, когда любил и любишь, когда обладал любимой и безвозвратно потерял ее (вот видишь, и опять выглянуло сентиментальное чувство).
С этим (с сентиментальностью) ничего не поделаешь, да и делать не хочется ― я не марксист, не материалист, и скорее мне ближе старая школа философии, чем более трескучая, но, быть может, в стократ более жизненная философия современного общества ― и твоя в том числе.
Я понял, что ты писала и хотела написать. Но среди понятого есть твоя просьба быть трезвым, и реальным, и откровенным. Сейчас я почти откровенен. Я более чем трезв, более чем реален, и мне совсем чужды иллюзии и самообольщения. Кроме тяжелого пути, впереди у меня ничего нет. Кроме прошлого, которым нельзя похвалиться, ничего не осталось позади.
И вот, когда я анализирую прошлое, еще ближе, любимей и дороже становится для меня твой образ, выплывающий из мрака, образ, бывший самой светлой минутой той, прошлой жизни.
Знаешь, трудно сразу развязать язык ― за год я стал скрытным, молчаливым, привык углубляться в себя (видно, сказалось 7-месячное одиночное заключение) ― может быть, в дальнейшем, если только мы будем писать друг другу, я напишу тебе письмо, в котором постараюсь быть еще более откровенным.
Сейчас стану заканчивать письмо, так как по отделению уже приходят и отбирают почту, а хочется сегодня отправить ответ.
Ты ошибаешься, когда думаешь, что я жду набросков и сценариев ― пишу я сейчас, и пишу много, ― но если не трудно, вышли то, что я просил, т.к. это мне понадобится.
Свою карточку вышлю, как только снимусь ― у нас это не так просто, т.к. фотографии нет и нужно ждать редких наездов фотографа.
А твою карточку жду ― и думаю, что ты не станешь задерживать, ― сама понимаешь, как рад я буду иметь ее.
Если будет желание, пиши ― пиши чаще.
Адрес. Ленинград, Выборг. Сторона. Нижегородская ул. д.39 Дом заключения, IV отд., к № 170, И.А. Винаверу
Крепко целую когда-то мою Раю ― Игорь
Письмо 3 (июнь 29)
Ленинград 16/ VI-29 г. Дом заключенияМилая девочка!
Видишь, как рьяно я исполняю твою просьбу написать ― за одну неделю два письма. Правда, не уверен, получишь ли ты первые письма, т.к., кажется, напутал адрес. Сегодня воскресенье ― фабрика не работает, а следовательно, еще медленнее, тоскливее тянется время.
Сейчас (полчаса назад) закончил рассказ ― из туркестанских воспоминаний и впечатлений.
Как только перепишу начисто, отправлю в редакцию журнала. (Невольно вспомнил тебя. Полусонную, валящуюся с ног, но все же переписывающую сценарий).
Перечитал твое письмо ― и если бы знала ты, как больно сжалось сердце от сознания, что по собственной вине потеряно так много и такое ценное.
Одно хорошо ― это что ты вышла из полосы упадка и неудач и перед тобой опять ясная, прямая дорога.
Права ты ― разные у нас пути, и, видно, с каждым днем совершенствуясь и преуспевая, ты все дальше и дальше будешь уходить от воспоминаний о нашей совместной краткой жизни.
Что в том, что я люблю тебя, ― собственно, ведь о любви я даже не имею права писать, не имею права оживлять умирающие воспоминания. И права ты будешь, если станешь вновь упрекать в сентиментальности.
Думаешь, легко мне говорить о своей любви, хотя и искренней, но безнадежной, как «ничто». Разве не гнетет сознание, что по собственной вине потеряна любимая и любящая жена? Все это так тяжело, так мучительно, что трудно быть откровенным.








