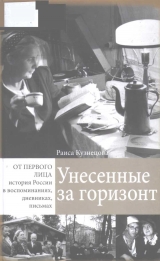
Текст книги "Унесенные за горизонт"
Автор книги: Раиса Кузнецова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Новая профессия
Но устроил меня Ваня. Совершенно случайно встретил он на улице Александра Сергеевича Федорова, главного редактора журнала «Техника молодежи». И тот вдруг спросил, не знает ли Иван Васильевич кого-то, кто мог бы пойти на редакторскую работу во вновь организуемый Главк научно-популярной кинематографии, куда его назначили начальником.
– Знаю, ― сказал Ваня. ― Это моя жена.
И выдал Федорову на меня такую характеристику, что у того челюсть отвисла.
Федоров сказал Ване, что договорится со студией научно-популярных фильмов, чтобы я за пару месяцев познакомилась со спецификой кино, после чего он возьмет меня в главк.
Перспектива заняться кинематографом привлекала, однако все-таки было страшновато. Но Ваня сказал:
– Ты человек способный. А кинематограф, вернее, литературный сценарий фильма для тебя, сделавшей столько книг, я уверен, проблемой не станет. Справишься!
Человек слова и дела, он уже на следующий день притащил из библиотеки ЦК все, какие только смог там достать, книги о кинофильмах, сценариях и прочее. И я с жаром принялась их штудировать. Через несколько дней поняла, что «не так страшен черт, как его малюют», и отправилась на свидание к главному редактору студии Григорию Борисовичу Зельдовичу. Он принял меня приветливо и сказал, что приступить к работе я смогу сразу после Нового года.
Когда 3-го января 1947 года я пришла на студию, у меня уже была «задержка», но я надеялась, что связана она с акклиматизацией. И, конечно, напрасно. Очень скоро «тайное» стало явным.
Из-за тесноты в редакторской комнате Зельдович устроил меня вначале работать в редакции киножурнала «Наука и техника». Крикливый зав. производством журнала Ефим Потиевский через мою голову вел непрерывные разговоры с режиссерами и операторами, снимавшими сюжеты для журнала. Уже на третий день терпение мое лопнуло, и я пошла к Зельдовичу с «требованием» создать условия для «плодотворной редакторской работы». Зельдович впоследствии со смехом вспоминал, как я тогда ворвалась к нему. Была красная, возбужденная, берет сбился набок, грозилась совсем уйти.
– Но я не мог расстаться с вами. Вы же кадр Федорова, и потому пришлось временно посадить вас в моем кабинете. Помните?
Еще бы не помнить! В кабинет постоянно приходили сотрудники, но говорили тихо, с опаской поглядывая на меня. Разговоры Зельдовича с режиссерами и сценаристами, которые я невольно слушала, очень помогли мне сориентироваться в «специфике» требований к литературным и режиссерским сценариям, наконец, просто освоить нужную терминологию. Хозяин кабинета тоже прислушивался к моим переговорам со сценаристами, порой вмешивался, но очень деликатно, подоброму. Зельдович помогал мне удивительно охотно; я относила это на счет его доброжелательного отношения к людям. Однако когда на студию пришла «новенькая», я убедилась, что это не совсем так. К тому времени отыскалась для меня отдельная тесная комнатушка, куда сразу подселили «новенькую». Заметила, что, вернувшись от Зельдовича, она плачет:
– Что случилось? ― спросила я.
– Не понимаю его замечаний на полях сценария, а спрашиваю ― рычит!
Я не выдержала, сказала Зельдовичу об этих слезах.
– Она бездарь, не разбирается в существе дела, неверно формулирует заключения.
Я замолчала. Подумала, что подобного рода ошибки допускала и я, но он спокойно разъяснял их мне. Иногда я даже спорила с ним, но он не раздражался, а спокойно повторял свои замечания. Поделилась своим недоумением с Ваней.
– Он считается с тобой потому, что ты «кадр Федорова», а еще, возможно, потому, что знает: твой муж работает в ЦК.
Позже мы работали с Зельдовичем уже «на равных», когда оба были главными редакторами Главного управления научно-популярных фильмов при Министерстве кинематографии СССР.
Здесь каждый курировал свою тематику. Я вела фильмы по сельскому хозяйству и географические. С идеей создания последних носился Владимир Адольфович Шнейдеров. Он жаловался мне, что нигде не находит поддержки, отрицательно отнесся к его предложению и Федоров. Мне же очень импонировала идея выпустить сорок-пятьдесят фильмов, в которых было бы рассказано о природе и экономике нашей страны, о ее красоте и богатстве. Ваня тоже нашел эту идею привлекательной, и я, вооруженная его аргументацией, с жаром убеждала Федорова в необходимости создания этой серии. Наконец в план 1948 года впервые были включены несколько названий будущего «Киноатласа СССР». Впоследствии эти фильмы, которые стали ежегодно выпускаться нами, легли в основу «Клуба кинопутешествий», организованного на телевидении В. А. Шнейдеровым
Дочь
А пока вернусь в 1947 год, когда все явственнее для окружающих обрисовывался мой растущий живот. По форме он мало отличался от того, каким был в 1945 году, поэтому «знатоки» находили, что у меня вновь родится сын. Ваня сокрушался:
– Так хочется дочку!
– Раз мечтаешь, значит, сбудется, ― отвечала я. ― Когда ходила Володей, дышать хотела только выхлопными газами, а сейчас меня от них тошнит.
Летом жили на даче ЦК, на 42-м километре Казанской железной дороги. С нами были Ванины родители. Было тесно, всего две комнаты да маленькая терраса, но удобство заключалось в том, что на всю семью выдавались из общей кухни обеды, да и плата за дачу мизерная ― из расчета 32 копейки за метр помещения. Декретный отпуск мне дали рано: по расчетам врачей, я должна была родить примерно 10 августа. Уезжать с дачи не хотелось, а срок подошел. Стояла сильная жара, я задыхалась, да и сосновый лес, видно, вызывал одышку. И хотя предстояли пятые в моей жизни роды, я очень боялась. А тут услышала, что беременная женщина, проживавшая по соседству ― я часто встречала ее во время прогулок по лесу, ― умерла при родах в кремлевской больнице. Имела глупость поделиться своими тревогами с Ваней. Боже! Какой переполох я вызвала! Едва успокоила обещанием поехать к А. М. Гельфанду. Пришла к старому испытанному другу, поделилась с ним нашими страхами, а он меня высмеял, да еще обидно так:
– У нас, ― сказал, ― недавно аптекарь умер, так и мне прикажете готовиться?
Посмотрел мои анализы, послушал сердце и дал единственный совет: побольше двигаться и поменьше забивать голову всякими страхами.
Возмущенная, рассказала об «остроумии» Гельфанда, а Ваня засмеялся:
– Единственное, чего я боюсь теперь, что не успеем с дачи доехать до родильного дома. Давай останемся в Москве.
Но мне было жаль уезжать с дачи ― он же так недавно ушел в отпуск! Его родители, на что-то рассердившись, без объяснения причин перебрались в город, а я уговорила Ваню задержаться на даче. Лишь 25 августа предложила переехать, и он, бросив диссертацию, которой мог уделять только отпускное время, поехал со мной в Москву. Детей оставили на няню. 27 августа, заметив, что я кое-как перемогаюсь, Ваня отвез меня в филиал кремлевской больницы ― в Бауманский роддом.
Меня положили в предродовую палату, где я думала не столько о предстоящих родах, сколько о том, что и следующий наш ребенок окажется оформленным только на меня, «мать-одиночку».
Но Ваня, как оказалось, был озабочен тем же самым не меньше моего и уже давно начал действовать. О разводе надо было объявлять в газете «Вечерняя Москва». Справиться с потоком объявлений газета не могла, хотя и печатала их ежедневно. Люди ждали своей очереди годами. Лена согласилась дать объявление поздно, когда увидела, как Ваня страдает от того, что и второй его ребенок будет «незаконнорожденным». Меня они в это дело не посвящали. К счастью, нашелся «великий блат», и дело с публикацией в газете продвинулось быстро. Но бракоразводный процесс затянулся, и к тому времени, когда я лежала в палате в ожидании появления на свет нового человечка, его судьба еще не была решена. Настроение у Вани было прескверное, и, хотя он скрывал это, наполняя свои письма нежными словами, я чувствовала, что происходит что-то нехорошее. Уже потом я узнала, что объявление о разводе, несмотря на то, что оно было от Лены, вызвало бурную реакцию у Суворова и Федосеева: мол, негоже работнику аппарата ЦК разводиться. В ответ Иван Васильевич напомнил Сергею Георгиевичу, что пришел в аппарат вопреки желанию и готов уйти.
Ваня давно тяготился работой в аппарате, где меньше всего ценилась инициатива, а требовалась лишь точная, слепая исполнительность. Раньше двух ночи он дома не появлялся, а в 9-30 утра его уже ожидала машина ― на сон оставалось не больше пяти часов в сутки. Отдавая семье кремлевский обед в виде сухого пайка, он фактически жил на чае с бутербродами, которые я ему давала с собой, и ужинал со мной по ночам. До его возвращения я никогда не ложилась спать, не снимала хороших платьев, старалась быть подтянутой и причесанной. Ему это явно нравилось. И мы, тихо разговаривая, иной раз так долго подводили итоги прошедшего дня, что вроде и спать было некогда. Незаметно для себя мы сильно растолстели. Я это объясняла своими беременностями ― с пятидесяти восьми килограммов в год встречи с Ваней к 1947 году я добралась до восьмидесяти пяти. Но Ваня! Не помню его веса, но из сорок восьмого размера одежды, которую начали покупать уже совместно, он «перелез» в пятьдесят четвертый, стал полным, солидным, ничуть не напоминая того худенького мальчика, каким впервые предстал передо мной.
Но главное, что его угнетало, ― невозможность отдаться целиком и полностью науке! Диссертация, обдуманная еще в окопах, к концу лета 1947 года насчитывала лишь около тридцати страниц. Писать ее на работе он не мог: был по горло занят и, будучи человеком исключительно добросовестным, даже подумать не мог, чтобы урвать какое-то рабочее время на «свою науку». А то, что творилось в научной жизни страны, о которой он знал из первых рук, угнетало и раздражало до бесконечности. Он просто ненавидел «всесильного» в то время Т. Д. Лысенко.
– Преследование генетиков, ― возмущался Иван Васильевич, ― отбрасывает биологию на десятки лет назад!
С этим был согласен и заведующий отделом С. Г. Суворов. Когда весной 1947 года происходили выборы в Академию наук, они убедили A. A. Жданова, который как секретарь ЦК курировал их отдел, что необходимо оставить в списках на выдвижение в члены-корреспонденты генетика Н. П. Дубинина, чтобы дать возможность развиваться всем направлениям в биологии. Иван Васильевич и Сергей Георгиевич оба присутствовали на этом собрании. Работники аппарата не позволяли себе в то время активно выступать в защиту или против какой-либо кандидатуры, чтобы не оказывать давления авторитетом ЦК на мнение собрания АН СССР. Они были лишь наблюдателями того, что происходило. А происходила небывалая по наглости подтасовка фактов и документов со стороны «лысенковцев», причем Трофим Денисович лично выступал с оскорбительными выпадами против генетиков и, в частности, мешал с грязью Н. П. Дубинина. Его клевреты якобы «потеряли» по дороге нужные документы Николая Петровича, одним словом, чинили всяческие препятствия избранию генетика и протаскивали своего кандидата (забыла его фамилию). Однако академики оказались не на их стороне. Они единодушно отвергли лысенковских протеже, и генетик Дубинин почти единогласно был утвержден в звании члена-корреспондента АН СССР. Ваня со злорадством, для него совсем не характерным, рассказывал, как возмущался Лысенко пассивностью работников ЦК, которые не противодействовали избранию «вейсманиста-морганиста». Вообще, Лысенко имел «большой зуб» против отдела науки ЦК, в особенности после того, как позвонил Суворову и пожаловался на академика Сукачева. Тот, видите ли, отказался, как главный редактор журнала «Биология», напечатать его статью, и Лысенко потребовал «надавить» на Сукачева. Суворов ответил, что вопрос о том, печатать или не печатать ту или иную статью, дело только редколлегии журнала и что Отдел науки не считает возможным в это вмешиваться. В ответ послышались брань и угрозы. Рассвирепевший Лысенко заявил, что припомнит при случае «этот разговор». И что же? Припомнил...
Но об этом после, а пока я лежала в палате роддома. Утром 30 августа врач осмотрела меня и сказала:
– Хочу, чтобы вы родили до моего ухода. Перейдите в родильное отделение.
Я схваток не чувствовала, удивилась, но пошла. Там врач с силой промассировала мне живот, проделала еще какие-то манипуляции, и вдруг, почти безболезненно, ребенок оказался у нее на руках. Я поняла, что он родился, лишь услышав крик.
– Девочка! ― сказала акушерка.
Радость моя была беспредельна. А Ваня, услышав эту весть, назвал меня «волшебницей», исполняющей самые сокровенные желания.
Он настоял, чтобы нас выписали на день раньше срока, ― ему очень хотелось повозить меня по Москве, роскошно иллюминированной в честь ее 800-летия. Никогда ― ни до этого, ни потом ― не видела я такой шикарной иллюминации! И мы с нашей длинноносой крошкой (что с гордостью сразу отметил отец) путешествовали по городу несколько часов. С первой же минуты он взял этот драгоценный сверток и все эти часы держал ее, прижимая к себе [82]82
Когда мы впервые узнали, что Наташу интересует философия (она еще школьницей бегала на лекции в МГУ), я напомнила ему о наших разъездах с новорожденной на его руках:
– Уж не тогда ли ты почувствовал, что прижимаешь к себе не только родную дочку, а будущую преемницу и по своей науке философии?
– Да, возможно! согласился он.
Сейчас, когда пишу эти строки, она уже давно кандидат философских наук. (А теперь ― уже доктор филос. наук, профессор РГГУ. ― Прим. ред.)
[Закрыть].
Еще в машине, любуясь расцвеченным городом, Ваня поделился со мной важным событием: состоялось первое заседание народного суда по делу о разводе, где им с Леной предложили помириться, несмотря на то, что он давно с ней не живет, а от другой женщины имеет двух детей. Но проформа была соблюдена, дело было отложено. На втором суде, через месяц, Лена категорически заявила о невозможности примирения, и решение суда о разводе наконец состоялось.
Наша дочка тотчас была зарегистрирована и получила фамилию своего законного отца. Тогда же в том же ЗАГСе, в скромной комнатке, был зафиксирован и наш брак. Это произошло 23 сентября 1947 года, но мы записали, тогда это разрешалось, подлинную дату ― 11 апреля 1943 года.
Кузнецовская гребенка
При регистрации брака Ваня добился от меня согласия на смену фамилии, и я, сорокалетняя женщина, имевшая некоторую известность в литературе в виде книжек, подписанных «редактор Нечепуренко», сделалась Кузнецовой. В главке Министерства кинематографии СССР пришлось вывешивать приказ об изменении фамилии, менять паспорт, партбилет.
Много было хлопот! Но Ване досталось их не меньше, когда стал он заниматься усыновлением детей ― моих и своего сына Володи. Особенно удачным этот акт оказался для Сони. Из эвакуации она вернулась со справкой из школы, где училась под моей фамилией ― так и в Москве осталось. А получая комсомольский билет, не обратила внимания, что вместо отчества «Ароновна» ей записали «Арнольдовна». Хотели идти в райком комсомола объясняться, но Ваня успокоил:
– Ничего страшного, после усыновления поменяет и комсомольский билет.
В результате Соня со своим, по сути, «фальшивым» комсомольским билетом никаких эксцессов не пережила, а меняя документы, писала: «прошу впредь именовать меня согласно усыновлению «Софья Ивановна Кузнецова».
– Все мы, ― смеялась я, ― теперь подстрижены под одну, «кузнецовскую гребенку».
Так не только фактически, но и юридически у Ивана Васильевича оказалась большая семья ― жена и пятеро детей.
Безработный
Неожиданно в конце 1947 г. сняли с должности Г. Ф. Александрова, начальника Управления пропаганды ЦК. Говорили, что за выпуск книги по истории западной философии, в которой он допустил «грубые ошибки»: не так сильно, как положено, ругал Гегеля и других западных философов, а главное, «слабо хвалил» советскую философию и ее «главу». Однако он все же был назначен директором Института философии. Я, узнав об этом, стала уговаривать Ваню уйти из ЦК «по собственному желанию» и договориться с Александровым о работе в Институте, чтобы заняться научной деятельностью. Он тоже хотел этого, но колебался ― как из соображений материальных, так и моральных:
– Ты понимаешь, никто и никогда мне не поверит, что я ушел из аппарата по собственному желанию. Такого случая, говорят, еще не бывало. Оттуда люди уходят или «на укрепление», или по запросам, как в свое время мы в ОГИЗ.
– Ну и что же? ― возражала я. ― Ведь ты уйдешь оттуда, чтобы заниматься наукой, а не ее организацией. Если тебе удастся что-то сделать, никто и не вспомнит, что ты променял почетную работу в ЦК на свою философию.
Ваня остро переживал пренебрежение нового, пришедшего на смену Александрову руководства к работе Отдела.
Вместе с Суворовым он подготовил документ, в котором говорилось об отставании советской философии в вопросах философского осмысления достижений современных естественных наук. Изложив в записке огромное количество новых фундаментальных закономерностей, открытых за последнее время физиками, генетиками, биохимиками, они указывали, что советские философы почти не занимаются коренными вопросами естествознания, а Институт философии не привлекает к работе крупных советских ученых-естественников, вследствие чего они не всегда умеют отстоять позиции диалектического материализма; в то же время советские философы не оказывают должной поддержки таким прогрессивным ученым-естественникам, как Поль Ланжевен, Жолио Кюри, Холдейн, Тодор Павлов, выступающим против идеализма и поповщины. «Наша работа по философии естествознания в значительной мере утратила боевой наступательный дух», ― писали Суворов и Кузнецов и просили организовать подготовку специальных кадров. Они доказывали, что философам необходимо изучать современные науки, а естественникам
– философию. Записка эта, поддержанная Александровым, новым руководством была, по сути, забыта.
– Зачем тебе с ними мучиться? ― твердила я. ― Уходи, обязательно уходи.
– Но я рискую остаться безработным. Александров сказал, что будет рад моему приходу, но у него вакансии только для кандидатов наук.
– Ну и что же? Тем лучше! У тебя будет свободное время, чтобы, наконец, закончить диссертацию, ― беспечно отвечала я, верившая в Ванин талант.
Было время ― в первый год нашей жизни, ― когда я пугалась смелости его суждений, его полемического задора. Помню, как поразила меня его острая критическая статья, направленная против опубликованной в «Правде» статьи весьма уважаемых в то время физиков ― сына Тимирязева Аркадия и его соавтора.
– Неужели ты думаешь, ― удивлялась я, ― что твоя статья будет опубликована?
– Конечно, я в этом уверен.
Так оно и было!
И к моему чувству любви к этому «мальчику» добавилось чувство огромного восхищения его знаниями и талантом.
Меня удивляли и даже, признаюсь, пугали его высказывания по поводу четвертой главы «Истории ВКП(б)». Как известно, глава эта была написана самим Сталиным и изучалась коммунистами с особым трепетом и почтением. Каждое слово буквально заучивалось наизусть. А тут вдруг молоденький лейтенант, лежа у меня на тахте, доказывал метафизичность и ошибочность формулировки четвертого положения закона диалектики и возмущался тем, что потерян «закон отрицания отрицанием», тем, что «смазаны» точные ленинские формулировки [83]83
В 1951 году, когда готовилось первое издание очерков марксистско-ленинской философии, одним из авторов которых он был, ему удалось убедить авторский коллектив, и «четвертый пункт» был опущен, а понятие закона «отрицания» введено...
[Закрыть].
Осенью 1947-го Ваня написал заявление о своем желании уйти из аппарата ЦК, чтобы целиком заняться научной работой. Суворов настойчиво уговаривал не делать этого, но Иван Васильевич остался непреклонен.
Шепилов, заместитель начальника Управления пропаганды [84]84
Впоследствии он вошел в историю под «именем» «и примкнувший к ним Шепилов» как участник затеянного в 1957 году Маленковым, Первухиным и Кагановичем заговора против Хрущева.
[Закрыть], сказал ему:
– Если бы вы уходили не по собственному желанию, мы бы вас направили на какую-нибудь ответственную работу, а так мы заниматься этим не будем.
– Я хочу посвятить себя научной работе, ― ответил Иван Васильевич, ― мне должность не нужна!
– Ну, смотрите! Как бы не пришлось пожалеть!
– Надеюсь!
И Шепилов наложил резолюцию: «Просьбу считаю возможным удовлетворить».
Конечно, наше материальное положение сразу ухудшилось: накоплений у нас не было. Отвлекаться на писание статей, чтобы получать гонорары, было некогда ― теперь все зависело от скорейшего завершения диссертации, дававшей надежду на работу в Институте философии. Кандидатский минимум, сданный еще до войны, Ване засчитали.
А тут пошли разговоры о девальвации денег. Девальвация нас не пугала, ведь зарплаты она не касалась, волновались те, кто имел накопления. Никак не думали, что и мы что-то потеряем, однако ошиблись. За рождение четвертого ребенка полагалось получить пособие ― тысячу пятьсот рублей. Рассчитывая на них, я даже позволила себе занять у Эрнестины Владимировны Менджерицкой семьсот рублей, чтобы купить жалкий мерлушковый воротничок для нового зимнего пальто, которое отдала шить еще в «хорошие» времена. Приобретенную раньше чернобурую лису месяц назад я подарила Лене, которая пожаловалась, что не может забрать из ателье давно сшитое пальто ― не хватало воротника. Этот мой жест, сделанный от чистого сердца, очень удивил Ваню, но вместе с тем и обрадовал, что вполне «компенсировало» мне утрату шикарного воротника.
– И тебе не жалко? ― спросил он, когда Лена ушла.
– Нисколько, ― ответила я вполне искренне.
– Все-таки есть в твоем характере что-то восточное!
Одного я не учла, что воротник придется приобретать за деньги, взятые в долг. Но мы смотрели на предстоящие материальные лишения весьма оптимистично, тем более что, готовясь к уходу Вани из ЦК, я еще с лета начала закупать впрок всякого рода консервы, сухие колбасы, конфеты.
Наташа родилась 30 августа, и решение исполкома о выдаче пособия мы ожидали получить в начале октября. Однако оно пришло с указанием даты получения пособия 20 декабря, а 16-го была объявлена девальвация. И все же я надеялась, что нас она не коснется, поскольку решение исполкома было принято в октябре, Ваня смотрел на вещи более реально. И он оказался прав.








