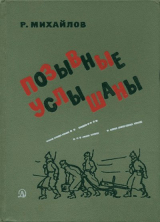
Текст книги "Позывные услышаны"
Автор книги: Рафаэль Михайлов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Да. Она будет счастлива. Только сразу ли? «Можно, я приглашу тебя на танец, Эдик?.. Я решила идти в электротехнический, а ты?.. Вальс – это самый красивый танец… Жизнь – это самая замечательная штука.
Миша, кажется, тоже в ЛЭТИ… А Шаров и Феноменов – в медицинский… Будыко – тот откопал астрофизику, Майка – сероводород… Расходятся наши пути, но где-то же они должны сойтись? Только где и когда?»
Учителя знают: долго их не удержишь в зале. Такова традиция: на набережную Невы и занять всю мостовую, не иначе!
Их принимает прозрачная белая ночь. Безмолвно наблюдают за ними бронзовые матросы с памятника «Стерегущему». Молодой Суворов повелительно призывает их со своего гранитного пьедестала к постоянству. Терракотовые кубы Марсова поля вызывают в их памяти героев, создававших наиновейшую историю.
– Ребята, – сказал кто-то вполголоса. – Смотрите. Здесь погребен комиссар Восков Семен Петрович. Сильва, а ведь ты тоже Воскова и… Семеновна. Послушай, а это…
Она предупредила вопросы:
– Здесь лежит мой отец, ребята.

Они стояли недоуменные, сбитые с толку ее ровным голосом, не понимая, как же это они проучились десять лет рядом с дочерью такого человека и ничего об этом не знали.
– Могла бы открыться и раньше, – вздохнула Лола.
– Да, жизнь-то у твоего отца какая героическая! – поддержали ребята. – Рассказала бы нам…
Она ответила коротко:
– Видеть отца мне не довелось.
Замолчали. И только когда подошли уже к Летнему саду, Миша Хант тихо спросил:
– А Иван Михайлович?
– Это мой второй отец, Миша. Он воспитал меня и многим, очень многим я обязана ему.
Ей захотелось домой.
– Ребята, вы не сердитесь… Мне нужно к маме.
– Последняя наша ночь! – возразил кто-то.
Сальма Ивановна не спала, вышла к дочери с книгой.
– Мама, я стою перед трудным выбором. Могу стать инженером, врачом, могу идти на литфак. Что делал отец, когда ему нужно было выбирать, вот так, как мне?
Сальма Ивановна заглянула в глаза дочери.
– Ты это серьезно? Не ожидала. У Воскова никогда не было возможности для подобного выбора. Иногда случалось, он стоял перед дилеммой – бездействовать или действовать и сигануть за решетку. Я однажды попыталась подсчитать, сколько раз он сидел в тюрьмах – невозможно!
– Мама, но и в революции есть разные пути.
– Я тебя понимаю. Он рассказывал, что когда-то в Харькове его спросили в комитете: «Что ты предпочитаешь, товарищ Семен, каторгу или эмиграцию?»
– Мам, да ведь это же настоящая жизнь – из пучины в пучину, из бездны – в пламя…
– Да, ты действительно дочь Воскова.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
КЛАД В ПОЛТАВСКОМ САДУ
Между ним и Родиной оказался океан. А еще недавно его звали к себе полтавчане, екатеринославцы, звала рабочая Одесса. Они знали, что товарищ Семен обставит жандармов там, где спасуют другие.
Неожиданный вызов в комитет.
– Семья большая?
– Здесь один. В Полтаве – мать и четверо младшеньких.
– Имей в виду, за тобою слежка. Они поставили на ноги всех своих филеров. На квартиру к Фишкареву не возвращайся. Вообще-то надо бы тебе уехать. Но…
– В чем дело, товарищ? Не тяни кота за хвост.
– Нам нужна типография, товарищ Семен. Мы обшарили весь Харьков – ни одной наборной кассы без надзора полиции. Кто-то из эсеров проговорился, что у них кассы зарыты в Полтаве. Это будет твое последнее задание для Харькова. Возьмешься?
Задумался.
– Дайте Фишкарева и еще двух ребят, владеющих оружием. Типография будет.
Он начал энергично действовать. Двое парней, отданных ему под начало – совсем еще мальчишечка Родион, подносчик тары с завода «Гельферих-Саде», и второй, постарше, репортер из газеты «Волна», – обходили знакомых им эсеров, искали следы наборных касс. Семен в это время, вспоминая подарок ялтинцев, кроил чемоданы, в которых можно было бы уложить для перевозки шрифты. Илье он поручил немедленно примириться с отцом и выхлопотать себе комнатку рядом с прачечной. Илья запротестовал.
– Зачем я пойду к отцу? – кричал он. – Кланяться в ножки? Мы с ним идейные враги!
– Да это же прекрасно, – уговаривал его Семен, в душе искренне жалея товарища, – когда идейный враг работает на наше общее дело.
– Идейный враг вообще, но не отец, – выходил из себя Илья. – Разве у теоретиков где-нибудь сказано, что революционер вправе унижать себя для пользы дела?!
– Теоретики-революционеры всегда мечтали о своей типографии, – отшучивался Семен.
Ежедневно он менял жилье, о котором знал только Илья.
Подал о себе знать репортер. Они встретились в сквере.
– Эсер Яшка Френч знает, где зарыты кассы. Знает, но молчит. Слушайте, Семен Петрович, вы не учились с этим типом? Я видел у него школьную фотографию, и вроде бы рядом с ним сидите вы.
– Ну как же. Яшка – полтавчанин. Год мы отсидели на одной скамье, только школа была ремесленной. – Улыбнулся. – Вы что, по развернутым ушам[5] меня узнали?
В этот же вечер Семен пошел к Френчу. Он знал, что Яшка захватывал с эсерами оружейную мастерскую, но как только началась волна арестов, быстро объявил, что заблуждался, и на всякий случай женился на дочери исправника полиции. Френч встретил Семена радушно, подал знак жене, и на столе появились дорогие вина, закуски. Семен от трапезы не отказался, с полчаса утолял голод, пока его однокашник упоенно вспоминал о «порывах восставшей юности».
– А ты сейчас с кем, Самоша? – спохватился тот. – На что живешь, где лямку тянешь?
Семен дал понять, что это не общий разговор. Яков Френч вскочил из-за стола, извинился, выпроводил жену из комнаты.
– Говори же, – нервно предложил он. – В какой ты партии?
Семен нарочно замедлил с ответом.
– Наша группа пока вне всех партий, – грозно шепнул он. – Террористы-индивидуалисты. Охотимся за знатным лицом. Но это только подход, Яша, к фигуре, облаченной еще большей властью.
Френч схватил рюмку, жадно выпил, глаза его недобро сверкнули:
– Это что-то новое. Я думал, Самоша, у тебя хватит смекалки понять, что время уже не то. Надо же, – вырвалось у него, – террористы, да еще с уклоном в высокопоставленную фигуру. Предупреждаю, я этого не слышал.
Восков аккуратно положил себе на тарелку салат.
– Не слышал – и не надо. Но я думаю, старому товарищу ты не откажешься помочь. Приюти на две-три ночи.
Френч встал из-за стола, для чего-то подошел к двери, прислушался.
– К сожалению, Самоша, эта квартира не моя. Она принадлежит тестю, а он служит… гм… в полиции.
– Видишь ли, – Семен понял, чем его взять. – Меня схватят, как только я высуну нос на улицу.
– Тогда ты не имел права заходить сюда! – взвизгнул Френч. – Это элементарное нарушение конспирации! Меня тоже могут забрать. У меня боевое прошлое! – Он перехватил насмешливый взгляд Семена и вдруг жалобно застонал: – Честное слово, я все для тебя готов сделать. Только не подведи меня сейчас.
Семен тоже встал, поправил галстук.
– Ладно, Яшка… Я попробую уйти. Но в одном только случае: скажи, где у вас зарыта типография?
Яшка вдруг почувствовал себя хозяином положения.
– Это тайна моей партии, – высокомерно сказал он.
Семен кивнул, снова уселся, отрезал ломоть дыни.
– Нет, мне все же придется остаться у тебя, – раздумывал он вслух. – Моя последняя надежда была на то, что удастся спастись от ареста, выдав им типографию.
Губы у Якова задрожали. Он достал портсигар, закурил.
– Ты вынуждаешь меня нарушить клятву… Мы зарыли кассы в Полтаве… гм… в конце Почтамской, у самого Кадетского плаца.
Семен искоса взглянул на него.
– Кого ты хочешь надуть? Полтавчанина? Как же, поверю я, что там, где с утра до ночи шныряют гимназисты, вы рылись в земле?
Френч метнулся к комоду, с грохотом выдвинул нижний ящик, выковырнул из щели клочок бумаги, бросил перед Семеном на стол:
– На, подавись! Вот план. Я не соврал – Полтава. Только Ново-Кременчугская, девять. Во всех четырех углах сада копались. И сматывайся сразу. – В дверях он снова начал «играть»: – И это справедливо – шантажировать друга юности?
Семен усмехнулся:
– Дурачина, ты теперь всю жизнь можешь хвастать, что хоть один раз оказал услугу рабочему делу.
В тот же вечер вчетвером они выехали в Полтаву. У каждого был в руках чемодан среднего размера, темной кожи. Вряд ли можно было заподозрить, что дно такого чемодана схоже с пчелиными сотами.
Всегда веселая, живописная Полтава показалась мрачной. Перед серым вокзальным зданием гарцевали жандармы, у моста через Ворсклу были выставлены караульные посты.
Приезжие договорились, что день проведут порознь, а ближе к полуночи встретятся на Ново-Кременчугской.
Семен поднялся на гору к Соборной площади и остановился у крутого обрыва. Под ним затейливыми зигзагами тянулась железнодорожная колея, словно бы отсекавшая хуторки белых и красных мазанок друг от друга. С горы казалось, что они поддерживают тянущиеся ввысь белоснежные стены церквей и золотистые купола колоколен. В розоватой дымке утра наплывала многоколонная громада памятника Петру, увенчанная щитом и древнерусским шлемом, а слева и справа просыпались и начинали свой хлопотливый бег спадающие к реке полтавские улочки..
– Господин первый раз в нашем городе?
Не спеша обернулся: высокая девушка, большие внимательные глаза.
– Да, проездом.
– Господину есть где остановиться?
Что за надоеда! Небрежно ответил:
– У меня рекомендательное письмо к графине Елагиной.
– Простите, но вот уже год, как она переехала в Петербург.
Так можно и засыпаться! И вдруг звонкий смех:
– Семен Петрович, я же Лиза, Лиза! Не узнаете?
– Лизонька, простите. Пришел полюбоваться с горушки своей Полтавой и вдруг – филер в девичьем обличье. Почему вы здесь? Где Анна Илларионовна?
Она сжала губы.
– Я думала, вы знаете. Маме пришлось скрыться. Ловлю вас, чтобы предупредить. И у вас под окнами жандармы. Так что…
– Все это так, но я должен повидать мать.
– Она ждет вас у соседки.
…Они сидят за столом друг напротив друга, мать и сын. Они просто рады, что смотрят друг другу в глаза.
– Самоша, вырос как… Неужто такого тебя родила?
– Что вы, мама! Меня губернатор откормил. Уважает.
– Не бреши, – строго предупреждает она. – Или у меня глаз нету? Щеки завалились, как плетень у твоего дяди Ефима. Домой не потянуло еще? Или как там у вас, у смутьянов, говорится: мой дом – весь шар земной…
– О, вы ученая стали, мамо. А я вам денег немножко привез.
Всматривается в нее с болью: волосы точно снегом посыпаны, морщин прибавилось и забот, верно, тоже.
– Самоша, – она говорит резко, прямо, крутить не привыкла. – Воз тащу по привычке, сил уже ну никаких. Свалюсь – посмотри, чтобы хлопцы в люди вышли.
– Постараюсь, мамо… если на воле буду.
– Ну, значит, угадала мать, что тебя гложет. Или пусть меня любимый пес за пятку ухватит!
Ох, и любил же он ее прибаутки. Они попрощались молча.
В полночь встретились с ребятами у высокой садовой ограды.
– Меньше травы вот в том углу, – сообщил Родион.
– Двое будут копать, двое охранять, – приказал Семен.
Начали рыть Семен и репортер. Грунт был мягкий, поддавался легко, но земля не раскрыла тайн. Илье и Родиону, которые взяли полевее, повезло больше. Лопата Ильи уперлась в доски.
– Ящик! – громким шепотом позвал он Семена. – Все наверх!
Их ждало разочарование: в ящике лежала переписка эсеров. Наборные кассы они обнаружили только в третьем углу сада.
– Ура! – шепотом сказал Илья. – Харьковский пролетариат имеет свою типографию, а мой папаша – новое для него предприятие. Поздравь меня, Семен, я уже с ним примирился, и он разрешил мне один раз в неделю водиться с аферистами, то есть с вами.
Шрифты переплыли в чемоданы. Раму для печатного станка уложили в мешок. Их никто не остановил.
И через несколько дней из маленького подвального отсека через прачечную господина Фишкарева две молодые прачки начали выносить корзины, в которых вполне могло быть выстиранное и выглаженное белье, но лежали листовки. Они же разносили листовки по адресам, которыми снабдил их Семен.
– Как тебе это удалось сделать? – недоумевал Илья. – Прачки дорожат своим местом у отца.
– Рабочий человек прежде всего дорожит своим классом, – упрямо ответил Семен. – Кроме всего прочего, я сделал для них подставки, чтоб удобнее было стирать, и они поняли, что с ними говорит тоже рабочий человек.
Прокламации писали поочередно члены комитета. Однажды попросили это сделать Воскова. Полночи он не давал Илье спать, читал ему отрывки из своего обращения к новобранцам.
– Все понятно. Но просто.
– Мы же не для дворян пишем, – огорчился Семен.
Листовка имела успех. Но в тот же день прибежал Илья и сказал, что одну из прачек накрыли. Буквально в полчаса они вывезли типографию. Семен уходил последним, в дверях его чуть не сбили с ног ворвавшиеся в прачечную жандармы.
– Вы кто? – спросил офицер, руководивший обыском.
– Это наш постоянный заказчик, – ласково пояснила старшая прачка. – У них, господин офицер, белье со своей монограммой.
– Проходите, – грубо сказал офицер.
А потом – заседание комитета, которому Восков дает отчет в явках, связях, оружии, типографском имуществе.
– Предлагаю работу товарища Семена в Харькове оценить как очень полезную, – сказал человек, сидевший в углу, и Семен вдруг узнал в нем своего старого знакомого Болотова.
– Хорошо, что это ты говоришь, – заметил председатель. – Тебе и принимать от товарища Семена людей и оружие.
Семен растерялся.
– Почему «принимать»? А мне куда?
– Испугался? – пошутил председатель. – Жандармов не пугался, а от моих слов лицом аж побелел. Ну, томить не буду. Тебя уже занесли в черные списки персональных врагов династии Романовых. Выбирай сам: каторгу или эмиграцию.
В комнате наступило молчание.
– А средний путь? – спросил вовсе не своим, каким-то глуховатым голосом.
– Среднего пути для тебя уже нет. Пойми, товарищ. Ты нужен нам и еще больше будешь нужен, когда наша борьба разгорится.
Семен молчал.
– Не ты первый, не ты последний, – вздохнул председатель. – Ленин в эмиграции сражается не хуже нас.
Семен молчал.
– Мы будем посылать к тебе людей на выучку.
Семен молчал.
– Это приказ, – заключил председатель.
Дороги, подводы, продуваемые ветром площадки поездов, фиктивные справки, подложные паспорта… Его обыскивали солдаты русского пограничного поста, потом австрийские жандармы, затащившие эмигранта в комендатуру.
– Зачем вы пожаловали к нам, господин Се-ми-о-нов? – читая по складам его новую фамилию, спросил молоденький офицер.
– Я хороший столяр, господин капитан, – миролюбиво ответил Семен. – В России сейчас мало квалифицированной работы. Хочу попытать счастья у вас.
– У нас – счастье? – маленькие ежиком торчащие усики затанцевали. – Господин хороший столяр, я хочу вас проверить. Этот старинный столик хромает на трех ножках…
Четвертая ножка получилась отменная, Семен постарался.
– Да, вы есть столяр, – заключил офицер. – Поезжайте в Фронлейтен, там будет много работы для такого мастера, и вы станете там верноподданным нашего монарха.
Маленький австрийский городок пропитан запахом свежих стружек, хвои и клея. Тускло светят уличные фонари. Гладко обструганные доски тротуара настолько глянцевиты, что их легко принять за камень.
Никаких адресов у Семена с собою не было, он медленно шел по улочкам, которые то вдруг круто взбегали на холм, то вплетались в лесную просеку. Издали приплыла переливчатая мелодия губной гармошки, в окнах сидели люди, вдыхающие после обжигающего солнцем дня спасительную вечернюю прохладу.

Наконец он увидел то, что искал. На дверях бревенчатой избушки был приколочен фанерный щиток: «Хольцбеарбейтерунион»[6]. Он постучал, но никто не отозвался. Сел на крылечко: без ласки встречаешь, чужбина…
В полумраке увидел, что к нему подходит невысокий, сутулящийся человек. Тот заговорил по-немецки, по-английски и вдруг – по-украински. Семен радостно отозвался:
– Та размовляю, гарно размовляю!
Оказалось, что Фердинанд Штифтер, механик пилорамы, входил в правление союза деревообделочников. Он завел приезжего в помещение союза, показал на широкий диван:
– Извините, коллега. Пружины немножко могут покусать.
Убежал и вскоре вернулся с простынями и кульком бутербродов.
– Извините, коллега, это все, что удалось найти дома.
– Данке шён, дьякую, спасибо…
Семен повеселел. И на чужбине есть славные рабочие ребята.
– К себе на работу устроите?
Штифтер уклончиво сказал:
– Это решаю не я… Каких взглядов, коллега, вы придерживались у себя в России?
Что-то не понравилось в тоне вопроса. Осторожно ответил:
– Левых. Демократических.
Секретарь союза мягко сказал:
– Династия Габсбургов тоже считает себя демократами. Может быть, вы пребывали в партии террористов или большевиков?
Семен резко сказал:
– А если бы и так?
Штифтер покраснел, потер висок.
– Вы меня плохо поняли, коллега. Мы не жандармы, чтобы преследовать человека за его убеждения. Но лично наше правление заинтересовано сохранить за работающими их места. У нас столяры, краснодеревцы, пилорамщики, даже плотники имеют недурные заработки. Мы против серьезных конфликтов с предпринимателями.
Восков понял, улыбнулся.
– Уговорили, коллега Штифтер. Я остаюсь у вас.
Семен обошел несколько мелких заводов, мастерских, но их владельцы, узнав, что он русский эмигрант, интересовались авторитетными рекомендациями и места не предлагали. Наконец Штифтер пожалел приезжего, переговорил с владельцем пилорамы, и Семена взяли в маленькую столярку.
Работать он умел толково, красиво, его быстро признали. Он снимал комнатку у вдовы офицера-кавалериста, и вечерами здесь засиживались его новые товарищи, он рассказывал о революционных событиях в России, о восстании на «Потемкине», о баррикадных боях в Екатеринославе…
Узнав о популярности приезжего, правление союза пригласило его на свое заседание с просьбой поделиться впечатлениями о русской революции.
– Слушать о революционных событиях в России, – сказал он под конец, – и не замечать, что бежавших из нее людей обсчитывают, надувают, унижают, – это мало благородно. Жить нужно жизнью мировой, мыслить масштабами не своей должности и не своего города. Не удивляйтесь, если наша столярка поднимает людей на борьбу.

Но наутро Семен из столярки был уволен. Штифтер чувствовал себя неловко, в глаза Семену не смотрел.
– Коллега, – сказал он жалко. – Не судите нас строго. Каждый из нас уже вкусил безработицу. У нас у всех дети.
– Коллега, – ответил Семен. – Я услышал у вас пословицу: «Без хорошей занозы и рука не инструмент». Кто побаивается – пусть не лезет в рабочее правление. Скоро вы услышите, что думает о вас Фронлейтен.
Они услышали. В городке появились листовки: «Правление союза в сговоре с заводчиками! Заменим его своими верными товарищами!» Три мастерских прекратили работу в знак протеста против унижения русских эмигрантов.
Жандармы ворвались к Семену в этот же вечер.
– Господин унтер-офицер, – обратился Восков к хмурому человеку, который руководил обыском. – У меня нет ни одной бомбы, у меня только идеи.
– Замолчите! – рявкнул жандарм. – У вас подложные документы. Мы отправим вас назад, в Россию!
Он очень хотел назад, но партия велела иначе. Он сбежал от жандармов по дороге в тюрьму, переезжал из одной провинции Австро-Венгрии в другую, работал среди австрийских, украинских, еврейских столяров, пока австрийская полиция не объявила розыск русского эмигранта господина Семионова.
И господин Семионов оказался среди пассажиров корабля, который вез эмигрантов в Америку.
Нью-Йорк встретил беженцев из Европы приветливо. Статуя Свободы, подаренная американцам французами, гостеприимно показывала приезжим на бесчисленное количество островов, где они могли обрести рай. На одном из них с ласковым названием Эллис они обрели райскую жизнь на две недели. В этом таможенном карантине проверяли и цель их приезда, и имущественный ценз, и их выносливость к голоду и унижениям. Его приняла поначалу артель паркетчиков. Три ночи он провел в сквере, а после первой же получки снял по совету товарищей маленькую комнатку на одной из авеню Манхаттана[7]. И опять у него вечерами набивались люди, которым он рассказывал о России, о революции, о русских социал-демократах.
От друзей письма приходили все реже и реже: он догадывался, что одни – в глубоком подполье и не всегда имеют возможность вырвать время для переписки, другие – в тюрьмах, на каторге.
На Америку надвигался «золотой кризис». Предприниматели пачками выбрасывали рабочих на улицу. Меньше всего они церемонились с эмигрантами и особенно – из России.
Восков нашел свое место. После рабочего дня он носился из одного района Нью-Йорка в другой, собирал летучие митинги русских эмигрантов-столяров. Он помог создать эмигрантскую столовую, в которой беженцы из Европы могли дешево пообедать, эмигрантскую кассу, которая спасла от самоубийства не одного кормильца семьи, эмигрантский клуб, который знакомил рабочих с положением в России. А в самый разгар борьбы за сплочение русских эмигрантов в клубе выступил представитель анархистов.
– Хватит с нас, Восков, социалистических идей! – кинул он в зал. – Мы по горло сыты были ими в России.
– Как же, помню! – откликнулся Восков с места. – Я сам однажды заделался эксом и ходил по квартирам, собирая с буржуев деньги в обмен на липовые справки. Не такие ли дела вас пресытили, господин анархист?
Зал отозвался смехом.
– Демагогия! Клевета! – раскричался анархист. – Так или иначе, но мы были движущей силой в революции. Мы потерпели поражение и теперь знаем, как и куда идти. Никакой организации! Свободное изъявление воли каждого. Никаких ограничений для личности! Все дозволено.
Этого Восков уже стерпеть не смог. Он поднялся на маленькую эстраду и, как это всегда у него было в минуты волнения, наклонился вперед, слегка вздернув кверху угловатые плечи.
– Кого вы пугаете организацией? – спросил он своим ясным сильным тенором, плавным жестом руки обводя аудиторию. – Людей, у которых ее и без того нет? Несчастных беженцев, приговоренных к ссылкам и каторге? Работяг, которых пригнали в Америку голод и безработица? Которым платят ниже всех и которых обворовывают чаще всех?
У него даже губы искривились от негодования, напряженно сомкнулись брови.
– Красиво звучит, ребята, а? «Свободное изъявление воли»… Сиди без цента в кармане и запивай водичкой из Гудзона.
Он сжал пальцы в кулак и взмахнул им в воздухе.
– Нам нужна организация, и она у нас будет. И если мне понадобится для этого всю Америку обшагать и всех русских эмигрантов в ней найти, – я обшагаю и найду!
Зал ответил горячими аплодисментами. К эстраде подошли люди, которым Семен, еще не остыв от спора, излагал свою мечту о русских рабочих союзах.
– Однако вы подросли за это время, Восков! – раздался высокий женский голос, и Семен, повернувшись, вдруг встретил так хорошо знакомые ему черные глаза.
– Лиза! – чуть не закричал он. – Первая полтавчанка за год моей жизни в Нью-Йорке! Исключительный случай! Впрочем, нет, – поправил он себя, – в любой случайности есть и доля закономерности.
– Восков, Восков, – укоризненно сказала она. – Вы уже сошли с трибуны, а продолжаете цитировать на весь зал законы диалектики. Поведите же меня куда-нибудь в более тихое место, и мы вспомним Полтаву.
Он смутился.
– Дело в том, Лиза, что я… как раз… перед получкой.
Она хохотнула.
– Ясно, Семен Петрович. Запиваем водичкой из Гудзона. У меня дела не лучше. Посидим просто в сквере.
Она рассказывала ему о том, что отец погиб в тюрьме, что мать и она подвергались беспрерывным преследованиям жандармского отделения и наконец решили уехать.
– Лиза, почему вы ничего не говорите о моей семье? – напряженно спросил Семен.
Она нахмурилась.
– Тете Гильде плохо, Семен. Ее мучают боли, она редко встает с постели. Шико и Миша работают.
Он грустно сказал:
– Поверите? Предчувствие такое было, что дома не ладится. Да и может ли в семье революционера быть благополучие?
Они договорились о встрече, но Семен надолго исчез. Потом Лиза встретила его на Третьей авеню. Он только что выступал перед собравшейся толпой, горел еще полемикой. Лизе обрадовался, начал расспрашивать, но все время подходили люди, и он перемежал беседу с ней и советы товарищам.
– Лизонька, я был уже в Чикаго и на юге… Союзы русских рабочих пускают корни… Да, да, товарищ, царская охранка будет нам мешать – Николашка понимает, что эмигранты не вечно будут эмигрантами… Перевел маме получку, Лизонька… Да не голодаю, жив… Вы учтите, дорогой товарищ, если с трибуны верещал наш русский поп – значит русская охранка не спит. Проверяйте своих людей… Когда же мы увидимся, Лизонька?
Но его уже ждали на Пятой авеню, и он не успел договориться о встрече. Его открытое, со смеющимися глазами лицо здесь знали – он выступал на уличных митингах по нескольку раз в день.
– Не морочьте людям головы! – крикнули ему из толпы. – Вам нужны кадры для баррикад в России.
– Не нужно волноваться, мистер, – зазвучал его громкий голос на перекрестке. – На баррикады насильно не тащат. Вступите в рабочий союз, и у вас прояснится в башке.
Его закидывали вопросами, ему бросали записки. Он шел навстречу спорщикам, зачитывал записки, разъяснял. И только две скрыл от митинга.
Одна – от Лизы: «Полтава теряет надежду вас увидеть, но вы знаете, что мы с мамой вам всегда будем рады».
Вторая была без подписи: «В воскресенье, украинский жлоб, ты хочешь выступить в Броунзвилле[8]. Знай, что это будет твое последнее слово».
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
КОМНАТА – ГОРОД – ПЛАНЕТА
– Он сказал?.. Сказал что-нибудь напоследок?
– Бредил… Шуру какую-то поминал… Стометровку хотел бежать… И еще сказал: «У меня туго с векторным анализом, но я подучу…» Потом замолчал.
Володя Жаринов отошел к окну и открыл фрамугу: холодный воздух ворвался в аудиторию. Володя сделал несколько быстрых коротких глотков, чтобы унять волнение, и захлопнул раму.
– Ну, вот и все. Сережу похоронили там же, на Кирке[9]. Белофинны нас поливали пулеметным огнем, но ребятам уже сам черт не страшен был. А те все лезли и лезли. Когда иссякли патроны, отбивались ножами. К ночи нас осталось на высоте трое. До подхода полка чудом продержались.
Лена сказала:
– Мы с Сережей вместе к математике готовились. Он страшно переживал каждую свою неудачу…
– Ленка, а что же мы сидим в стороне! – жалобно сказала Сильва.
– Будет время, – возразил Роман, приятель Лены, студент-гидроакустик, – и нас всех позовут.
– Нет, – возразила Сильва. – Ты как хочешь, а я долго ждать приглашения не собираюсь. Я уже ждала порядком.
Володя посмотрел на нее с недоумением, она встретила его взгляд с вызовом, но объяснять своих слов не собиралась.
Все два с половиной года занятий в институте ее преследовала тревожная мысль, что она чего-то не успевает, к чему-то не подготовлена, не обладает решительностью. Эта тревога особенно усилилась после истории с Иваном Михайловичем.
Лето поступления в институт принесло и радости и заботы. Вместе с родителями она совершила поход по Военно-Осетинской дороге. В памяти остались впечатления, которые будут сопровождать еще не один год: резкие очертания гор, в которые врезаются луга всех цветов – густо-изумрудные, бирюзовые, салатные, – головокружительные спуски, на которые пастухи умудряются пригонять стада баранов и где угощают туристов у костров наперченным шашлыком, и – что больше всего поразило ее воображение – совершенно зеленый лед, который можно увидеть только на могучих вершинах.
– Ну почему люди живут в комнатах? – смеялась она.
В комнаты пришлось вернуться. Их, носящих звучное имя абитуриента, опрашивали в старинном здании, выходящем готическим фронтоном на Аптекарский проспект, в тех самых аудиториях, где когда-то читал курс физики изобретатель радио Попов и где скрывался от жандармских филеров Ленин. От этого становилось торжественнее и страшнее.
Надо же, в разгар вступительных она подхватила ангину. «В постель! – сказала Сальма Ивановна. – И не дури, Сивка!» Но она сдурила и продолжала сдавать экзамены.
Миша Хант, Володя Стогов, поступавшие вместе с нею в электротехнический, помогли Сильве пробиться сквозь толпу новичков, гудевших у стеклянных щитов со списками зачисленных, и она увидела в колонках фамилий свою: «Воскова С. С…, ЭФФ[10], группа 12».
– Мальчики, – простуженно сказала она. – Смотрите. «Вишнякова Е. П.» Это не наша вожатая Лена? Вот здорово, если она! Мальчики, я, кажется, окончательно заангинила. Побегу домой. Поздравляю вас, мальчики, и себя тоже.
Как всегда, новичков ошеломляло и обилие новых технических терминов, и обилие заданий, которые они получили не на день, не на неделю, а до Нового года.
С замиранием сердца они взирали на знаменитых ученых, которые, как равные, шли с ними по коридору или поедали рядом с ними булочки у буфетных стоек.
– Мама, – начинала уже в дверях, – сегодня один удивительный человек рассказывал нам, как он строил Волховскую ГЭС. Об этом нужно писать поэму. Решай: быть мне инженером или поэтессой?
– Ты становишься поэтом или просто двоечницей, Сильва? – отозвалась Сальма Ивановна, но думала о своем.
– Неприятности, мама?
– Какие еще неприятности… У тебя вечером опять спортзал?
Да, спортзал. И еще – важный разговор. Она собралась, наконец, подойти к Лене Вишняковой и сказать ей то, что уже давно просилось. «Лена, будем дружить, – скажет она. – Я умею хорошо дружить».
– Как ты думаешь, – спросила она у Ивана Михайловича, – что главное в дружбе?
Он ответил после некоторого размышления:
– Вероятно, одним словом тут не отделаешься. В друге должно быть нечто такое, чего недостает тебе. Еще – требовательность. Безусловная требовательность – к себе же. И, конечно, отношение к жизни, которое ты разделяешь.
– Пять шаров, – сказала она, подражая старшекурсникам. – За красивый вывод формулы и доходчивость.
Нет, к Лене она так и не подошла в этот вечер. Лена, коротко подстриженная, черноволосая, смуглая, была окружена болельщиками и поклонниками. Но она еще подойдет. После встречи со сборной вузов.
Прошла встреча со сборной вузов. И прошли «январские встречи со сборной экзаменаторов», как окрестил их первую сессию Миша Хант, а она все так и не могла решиться заговорить с Вишняковой.
К тому же почувствовала: у родителей что-то неблагополучно. Всегда оживленно обсуждавшие события в мединституте, они сейчас говорили о войне в Испании, о папанинцах, о Сильвиных делах, но только не о своих служебных. Сосед их по лестничной площадке и сослуживец Ивана Михайловича некий Зыбин однажды постучался к ним, церемонно вошел, спросил, не готов ли отзыв на его научно-исторический труд.
– История там есть, – сухо сказал Иван Михайлович, – а наукой, извините, не пахнет. Вам нужно бы в клинике поработать, Маркэл Демидович, материала побольше накопить. И потом – по поводу освещения истории. Не совсем у вас марксистский подход…








