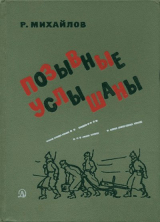
Текст книги "Позывные услышаны"
Автор книги: Рафаэль Михайлов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
– Ты права, Сильва, – быстро вставил Мишка. – Но, кроме Татьяны, не мешало бы посмотреть на лицо Варвары Ивановны.
– Подождите минутку! – крикнула Сильва.
Она влетела в школьный подъезд и поднялась в учительскую. Оттуда доносились громкие голоса. Сильва приоткрыла дверь, ее увидела Бахирева, вышла к ней. Учительница с трудом сдерживала волнение.
– Что тебе, Воскова?
– Варвара Ивановна, – не сказала – выпалила, – я, наверно, вас очень подвела. Простите меня… Я не подумала…
Учительница с интересом посмотрела на Сильву.
– Ты… жалеешь о сказанном? Ты изменила свое мнение?
– Что вы, Варвара Ивановна… Но если у вас будут неприятности… Если вы… Я пойду и в роно, и в гороно. Мы все пойдем. Нас больше.
Бахирева не сдержала улыбки.
– Разве я учила вас, что вопросы художественного творчества могут решаться простым голосованием? О девочка, тогда все было бы значительно проще. Не волнуйся. Этот бой не нов.
Восьмиклассникам боев и турниров хватало. Вместо Пигаревой, которая должна была заканчивать педагогический институт, к ним пришла пионервожатой старшеклассница Лена Вишнякова. Держалась она просто, яростно любила спорт, сумела наполнить отрядную жизнь интересными делами. Сильва сразу почувствовала в ней человека, с которым хочется дружить. Иногда, забившись в уголок спортзала, подолгу наблюдала, как бегает по баскетбольной площадке и точно, сильно обрабатывает мяч Лена.
А рядом с виртуозами мяча начали «проявляться» будущие математики, физики, географы.
Подошло время «Онегина». Бахирева попросила восьмиклассников прочесть книгу и изложить свои первые впечатления в домашнем сочинении. Писали все увлеченно, они любили эти «первые впечатления». Учительница сложила работы и сказала, что вернется к ним после разбора романа в классе. Все с нетерпением ждали этого часа, и надо же: на урок явилась новый инспектор роно Алевтина Карповна Пигарева – их Леля.
Инспектор Пигарева попросила разрешения присутствовать и бегло просмотрела тетрадки. Варвара Ивановна задала ученикам ряд вопросов. Инспектор сказала:
– Разрешите и мне, Варвара Ивановна. Любопытно мыслит ваш класс…
– Пожалуйста, спрашивайте.
– Вот вы, Будыко, – инспектор говорила медленно, будто подбирая слова, – читали роман, слушали объяснения учителя. Согласны ли вы и теперь с тем, что написали? Зачитываю: «Поэт хотел показать те большие силы, которые зрели в русском обществе, но еще не пробили себе выхода».
Будыко поднялся, почему-то угрюмый, подтвердил:
– Угу. Согласен с собой.
– А не кажется ли вам, Будыко, – продолжала инспектор, – что основная идея романа – это безусловное требование возврата в поместье?
– Возврата кого? – недоуменно спросил Юра.
– Дворянства, – не без гордости пояснила Леля. – Для его же оздоровления. Разве вы не говорили им об этом, Варвара Ивановна?
Класс замер.
– Я немного иначе понимаю основную идею романа, – спокойно пояснила Бахирева.
– Возможно, возможно, – приветливо сказала инспектор. – Хотя наш советский учебник понимает основную идею «Онегина» именно так.
Она выбрала еще одно сочинение.
– Воскова, у меня и к вам ряд вопросов.
Сильва встала.
– Вот вы пишете: «Сильный, одухотворенный образ Онегина, несмотря на его сложный характер, притягивает к себе читателя, наводит на размышления о месте и назначении человека…» Ну, и так далее. Вы и сейчас, Воскова, так понимаете этот образ?
Сильва сказала:
– Да. И сейчас.
– А не кажется ли вам, Воскова, после пояснений учителя, – продолжала инспектор, – что поэт выразил в Онегине отблеск заката дворянства как прогрессивного класса своей эпохи? Что он придал Онегину черты экономического оскудения (вспомним: «И промотался – наконец»), культурного распада (вспомним: «Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить») и моральной деградации (вспомним: «Как рано мог он лицемерить…»)?
Сильва хотела было возразить, но что-то ее остановило.
– Так. Значит, из пояснений учителя вы не сделали такого вывода?
В классе загудели, но укоризненный взгляд Бахиревой заставил утихнуть.
– И вот еще одно место в вашем сочинении, Воскова, вызывает тревогу, – упоенно продолжала Пигарева. – Вы пишете о «милом образе Татьяны», это я вас цитирую, «мечтательной русской девушке, мысль о которой всегда будет сопровождать человека в его поисках красоты, поэзии, волшебства родной природы». И это, по-вашему, пушкинская Татьяна? А где же вы оставили место для Татьяны как высокого синтеза поместных условий жизни и торжества возврата в поместье в сочетании с хозэффектом, основанным на нравственной силе?
– Какой хозэффект? – прыснул Мишка.
– Вам слова не дали, Хант, – пояснила Пигарева. – Я спрашиваю Воскову.
Нет, Сильва больше не могла отделываться репликами.
– Хорошо, я отвечу. Вы, Алевтина Карповна, увидели в Онегине отблеск заката дворянства, а я вижу молодого человека с мятущейся и сложной душой. Он очень на многое способен и многое в силах сделать. Но ему мешают узы традиций и ограниченность общества. Он не понял Татьяну, разбил ее девичьи мечтанья… И в этот момент я переживала за него не меньше, чем за Таню. Но разве нельзя Онегину многое простить ради ума, внутренних терзаний, благородных порывов! А чего стоит только одна характеристика, которую Онегин дает российскому тирану…

– «Путешествие Онегина» не входит в программу, – нервно перебила ее инспектор.
– И Татьяну я вам не отдам, – уже веселее сказала Сильва. – Никакой она не «синтез возврата в поместье и хозэффекта». Пушкин показал, что хотел показать. Для поэта она – «Татьяна, милая Татьяна!» А для меня она – вся в этих строчках:
За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Алевтина Карповна, – закончила она, – ведь такая Татьяна мир может перевернуть, если б ее к нам, сюда…
Она села без разрешения и отвернулась к окну.

– Варвара Ивановна! – Пигарева сорвалась на крик. – Я требую, чтобы вы выставили Будыко и Восковой «неуд» по литературе в четверти. А Восковой еще и «неуд» по поведению. Предупреждаю, я проведу это через роно.
Ребята зашумели. Володя Стогов крикнул с места:
– За что? Вы не имеете права!
Бахирева потребовала:
– Немедленно замолчите. – В классе водворилась тишина. – Алевтина Карповна, – сказала она вполголоса, очень вежливо, подчеркивая, что обращается только к инспектору. – Мы с вами коллеги, я прошу вас проявить больше широты…
– О вашей широте в противовес советским учебникам будет также поставлен вопрос! – отчеканила Пигарева.
Бахирева побледнела. Она села за учительский столик и раскрыла журнал.
– За развернутый ответ я ставлю Сильвии Восковой отметку «очень хорошо», – сказала учительница.
В этот же день делегация класса побывала у заведующего районным отделом народного образования. В воздухе парили сначала восклицания, прозаизмы XX века, затем – бессмертные пушкинские строки. Прощаясь с ребятами, заведующий также процитировал из «Онегина»:
Мне ваша искренность мила…
А когда они ушли, он недоуменно пробормотал:
– Неужели товарищ Пигарева уже закончила педагогический?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
РУЖЬЯ, А ТАКЖЕ МАСКИ И КУКЛЫ
– Доктор принимать больше не будет, – сказала сестра, выйдя к больным. – Он себя плохо почувствовал.
Да и не только доктор… Все они, собравшиеся сейчас в его кабинете, вожаки рабочих с завода «Гельферих-Саде», испытывали чувство растерянности. Вновь назначенный харьковский губернатор заявил, что революция задохнется в тюремных камерах. Начались обыски, аресты. Полиция выпустила на волю уголовников, развязала руки «черной сотне».
– Хоть типографию уберечь, – помечтал кто-то.
Вошла сестра.
– Простите, доктор, один пациент не уходит. Называет себя Семеном Петровичем и все время улыбается.
– Впустите, – сказал доктор. – О нем сообщал комитет.
Он вошел, действительно улыбаясь, словно тая в упругой фигуре, крутых плечах, твердом взгляде сгусток энергии.
– Вы откуда к нам, Семен Петрович? – спросил доктор. – И почему в такое грустное время?
– Екатеринослав–Полтава–Харьков, – пояснил приезжий. – А время… Грустные бывают люди, а не время, доктор. Меня прислали для боевой работы. Командуйте.
Но команды сразу не поступило. Разговор был долог.
– Берегите людей, – сказал под конец доктор. – Нужно вырвать из тюрем лучших наших бойцов. Привлекайте к процессам сочувствующих адвокатов. Нам понадобятся средства. Подумайте об этом, Семен Петрович.
Воскова решили поселить у Фишкарева. Черноглазый, суетливый Илья сразу выложил новому товарищу всю свою «шестнадцатилетнюю биографию».
– Понимаете, Семен Петрович, – ораторствовал он, – отец хотел приспособить меня к своему прачечному производству, но я твердо заявил ему, что посвящу свою жизнь изъятию производства из рук капитала на всей планете и начну с его прачечной. Тогда он меня выгнал из дому, и я пошел, Семен Петрович, на штурм губернской тюрьмы.
– Выходит, мы крестники, – засмеялся Семен. – Я уже брал не одну тюрьму. Слушай, Илья, – вдруг предложил он, – зови ты меня по имени, мы же одногодки.
Илья даже присвистнул от удивления.
– Мамоньки, и так вымахал!
Илья снимал комнату на Екатеринославской, в торговом квартале. Вернее сказать, это была не комната, а крошечная квартирка с вместительным подвалом, где подпольщики хранили патроны, револьверы, динамитные палочки.
– Насчет жратвы у меня похуже, – сокрушенно отметил Илья. – Могу предложить чудесный сухарь, который еще помнит начало нашей революции. Хожу в черных списках. – Вздохнул: – Пошамать бы у какого-нибудь буржуя.
– Ну нет, – Семен усмехнулся. – Благодетелями сыт с детства.
– А все равно придется обходить буржуев. В комитете просили не пренебрегать пожертвованиями.
Семен зашагал по комнате, что-то обдумывая.
– Это дело. Пришла в голову забавная мысль…
…В мануфактурный магазин по Шляпному переулку вошли двое молодых людей. Один – рослый, грудь колесом, в новеньком студенческом мундире, явно тесном в плечах, второй – маленький, во фраке. Уединились с владельцем магазина в конторке.
– Господин Фадеичев, – сказал студент, – мы из дружины самообороны. Взгляните на этот список, – и он достал из желтого портфеля, который держал под мышкой, отпечатанный на машинке лист бумаги. – Здесь адреса шести магазинов. По нашим сведениям хулиганы готовят на них налеты. Двое владельцев, как видите, уже внесли свой пай в фонд нашей дружины.
Фадеичев схватил список, просмотрел, ткнул толстым пальцем:
– А Маркелов всю сумму сразу дал?
– Вот его расписка, господин Фадеичев.
Фадеичев взял перо, аккуратно вписал свою фамилию. Извлек бумажник, отсчитал ассигнации.
– Вы уж, господа, того… Установите пост круглосуточный.
– Спите спокойно, – сказал тот, что был во фраке. – Вы под надежной охраной людей, преданных царю, отечеству и частной собственности на средства производства и мануфактурные товары.
На улице Семен сердито сказал:
– Зачем ты полез к нему со средствами производства? Будь он чуть образованнее – позвал бы жандарма.
– Ничего, скушал. – Илья заглянул в свою записную книжку. – Двинем на Сумскую. К самому Циммерману.
Узнав о цели визита, владелец маленького ресторана предложил визитерам кофе, сигары.
– И не говорите, и не говорите! – согласился он. – Погромщики ведут себя так, будто они получили взятку у самого господина полицмейстера. А откуда я знаю, – спохватился Циммерман, – что вы представляете именно дружину и именно самообороны?
Семен достал из портфеля чековую книжку, на которой они предварительно оттиснули самодельную печать лимонным соком, попросил у хозяина свечку, подогрел ею чек, на котором явственно проступили слова: «Харьковская дружина самообороны».
– Мы вынуждены прибегать к конспирации, – пояснил он.
Циммерман с жаром пожал им руки. Фокус со свечкой его покорил.
Все собранные деньги они сдавали в комитет.
– Будут боевые задания? – спрашивал Семен.
– Переждать надо, – отвечали ему. – Идет волна арестов.
Нет, он не умел и не хотел ждать. И после длинных походов, валясь на свою лежанку, с горечью говорил Илье:
– Годы идут, кто-то брал Бастилию, кто-то создавал Парижскую Коммуну, а ты рискуешь ничего не взять и ничего не создать.
– Ты уже брал несколько тюрем штурмом, – посмеивался Илья. – Нельзя быть революционером такого узкого профиля.
Восков вдруг вскочил с лежанки.
– А сейчас у меня какой профиль? – резко спросил он. – Кем я стал? Экспроприатором. Ладно бы еще заводы изымал у буржуев. А я простой мелкий экс. Почти налетчик…
Получая от них очередной взнос, член комитета вдруг спросил:
– Ребята, много что-то. Все добровольные пожертвования?
– Почти, – засмеялся Илья. – Жертвователь стоит перед фактом: отдать нам или бандюгам. Мы ему симпатичнее.
Член комитета повторил, отрубая слоги:
– Нам или бан-дю-гам? – Покрылся краской. – Вы что это, товарищи, шутите?
– Ну, пошутили разок-другой с богатеями, – запинаясь, отозвался Илья.
– Да вы… Да вы просто… – Член комитета сдержал себя, перехватил тоскливый взгляд Воскова. – Семен Петрович, мы вас бережем для серьезного дела. Просили ждать. Как вы могли? На что это похоже?
– На эксов, – грубо сказал он. – Стал заурядным эксом. Со всеми их штучками, карнавальными масками и подложными справками. Разок даже отстреливался.
Член комитета достал из ящика ассигнации, швырнул их на стол. Позвал товарищей, громко сказал:
– Поглядите на них. Числятся в социал-демократах, а стали эксами. Так вот – дверь открыта! Авантюристы и эксы нам не нужны.
…Разговор в комитете лег тяжестью на сердце. Илья видел, как подавлен Семен. Газеты, которые подкладывал товарищу Илья, оставались нечитанными, к похлебке, над которой он колдовал весь вечер, Семен даже не притронулся.
– Может быть, вы теперь обедаете, Восков, у господина Циммермана? – ехидно спросил Илья.
Семен мягко сказал:
– Ты замечательный парень, Илья. Возможно, я обидел тебя чем-то. Но пойми, не каждый день человек задумывается, как жить дальше.
По утрам он уходил в комитет и возвращался неразговорчивым, с потемневшим лицом, на котором лихорадочно блестели глаза.
– Поручений нет, – горько сообщал он Илье. – Все правильно. Нужно уметь отвечать за свои ошибки.
Но однажды вернулся иным, легонько насвистывая. Поставил посреди комнаты табурет, сел, скрестил на груди руки.
– Ну, вот и все, Илья. Поверили и доверили. Задание боевое – вооружить рабочие дружины.
– За счет чего? – Илья растерялся.
Семен ответил с усмешкой:
– Я и сам долго думал. Вооружим за счет царских заказов.
Начали раздобывать сведения на железной дороге. Одолжив у знакомого костюмера мундир артиллерийского прапорщика, Восков явился к начальнику крупной товарной станции в ста километрах за Харьковом, представился посланцем интендантов и строго спросил, почему тот задерживает на путях военные эшелоны.
– Такого не было, клянусь честью, господин прапорщик, – залепетал испуганный начальник, хорошо знавший приказ генерал-губернатора о «зеленой улице» для составов с оружием. – Извольте взглянуть, на завтра вагоны с винтовочками ожидаем – у меня уже составлен график их продвижения.
Друзья лежали в кустах за железнодорожной насыпью и прислушивались к дальним шумам. Вот просвистел ветер по сухой украинской степи, где-то нежно запела гармошка, долетело издалека тяжелое дыхание паровоза.
– Нашему еще рано, – отметил Илья.
Семен, с улыбкой глядя в небо, припомнил:
– В комитете спросил: «Изъятие оружия не приравняете к действиям экса?» Получил еще один урок: «Товарищ Семен, – сказали мне. – Пора бы уж понять различие между эсдеками и анархистами. Читаете мало. Оставить душителей нашей революции без оружия – это не то же самое, что обчистить карман человека…»
Даль озвучил гудок.
– Наш, – встрепенулся Семен. – Предпоследний вагон – мой, а ты оседлаешь «хвост». В случае чего – сигналь, спрыгнем.
Когда товарняк поравнялся с ними, Семен прямо с насыпи прыгнул на подножку, вцепился в поручни, дождался, пока рывки не перекрыла сила инерции, и тогда оглянулся. Илья, как видно, тоже «погрузился». Дверная скоба была опутана мотком проволоки и опечатана пломбой. Перекусил их клещами, припасенными с собой. Балансируя на узкой кромке, которую оставляла от пола дверь, изловчился и рванул скобу. Дверь легко открылась против хода движения.
В вагоне в три этажа лежали продолговатые ящики. Он не поверил удаче, сорвал одну доску… Винтовки! Русские трехлинеечки! Хотелось пуститься в пляс, но время шло, и уже впереди замаячили дымки Основы[4]. Начал перетаскивать ящики к двери, потом сбрасывать их под откос – винтовки через несколько минут будут подобраны товарищами. Закатал дверь на место, помахал платком Илье и спрыгнул под откос.

По Харькову были расклеены объявления, обещавшие награду «за поимку злоумышленников, кои вскрывают на станционных путях пломбированные вагоны».
– За что жандармам платят гроши? – хохотал Илья. – Они воображают, что мы проделываем это прямо на станциях!
– Они не такие простачки, – остановил его Восков.
И однажды Семен почувствовал, что к нему привязался «хвост».
Восков заметил шпика еще на путях. Выбирались из депо по одному, и мелькнувшая за ним тень была явно против уговора. Шпик, если это был шпик, сел вместе с ним в конку на Никольской площади, часто доставал из жилетного кармана часы, но косил взглядом куда-то вбок. Сел с Семеном в один трамвайный вагон, вышел с ним на одной остановке.
Семен завернул за угол, увидел свободный экипаж, быстро вскочил на подножку, укрылся под кожухом, а мимо пронесся перепуганный его исчезновением шпик.
Друзей подстерегали неожиданности. Илья как-то оказался в плену у поездного кондуктора, и туго бы ему пришлось, если бы Семен не перелез на последнюю площадку. В другой раз в товарном вагоне оказалось двое солдат, и Семен доехал с ними благополучно до Харькова, рассказывая всю дорогу смешные истории.
Они находили в вагонах винтовки, патроны, динамит. В грузах оказывались и косы, флаконы с духами, а однажды Илья и Семен, сорвав с ящика крышку, вдруг увидели огромные детские куклы.
– У тебя есть сестры, Илья? – спросил Семен, рассматривая куклу с открывающимися глазами.
– Есть. Одна. Если насчет кукол – у нее их вдосталь.
– Мои сестры этой радости были лишены, – сказал Семен. – Пришел как-то домой пораньше – ревут. В чем дело? Плюшевого зайца увидели у соседской девочки, взяли поиграть, а мать ее, лавочница, выскочила и отхлестала их мокрым веником. Ревут мои ревмя. Сел я для них зайца из дерева вырезать. Только успел уши обстругать, полиция нагрянула. Меня – в кутузку, а брусок, как вещественное доказательство, к делу приобщили. Длинные уши за жандармские приняли. Я им – про зайца, они мне – про филеров. Так и не договорились. А девчонки без зайца остались.
Семен нагнулся над ящиком и извлек какую-то этикетку.
– Тут все ясно, – сказал он. – Ее императорское величество посылает свой дар для бала Харьковского благотворительного общества. С детских лет люблю, – вырвалось у него, – всех этих благодетелей. Эх, Илья, пойти бы в ближнюю деревню. Найти девчонок… Самых что ни на есть беднячек…
– Нельзя, – сказал Илья.
– Сегодня нельзя, – яростно сказал Семен, – поглядим, что завтра от их императорских останется!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
– Не забудьте своих кукол, девочки. Это не стыдно – любить свои первые куклы. А «считалки» наши все помните?
Она старается говорить весело, а на глаза навертываются слезы. Сегодня она прощается со школой. Ну, разве могла она не прийти именно сегодня к своим октябрятам, к своим «ежикам», как она их прозвала.
– Помним, помним, Сильва Семеновна! – со смехом кричат «ежики».
– А вы, Мальчиши-Кибальчиши, – обращается она к ребятам, – не таскайте девочек за косички, потому что косички – это так же красиво, как первая весенняя листва, как узоры Деда Мороза на окнах…
«Коса была у Татьяны Лариной, – вдруг вспоминает она. – До свидания, милая, милая Таня! Теперь за вас будут сражаться другие девчонки и мальчишки. До свидания, Евгений Онегин! Извините, если мы вначале плохо о вас думали.
Прощай и ты, мой класс, прощай, моя парта…
А с вами, дорогие учителя, мы не расстанемся. Наверное, мы придем к вам расспросить, почему что-то в жизни оказалось не так, как вы и мы хотели».
Сегодня выпускной бал. Интересно, кто из мальчишек пригласит ее на вальс? Она знает, ребята не очень-то смелы с нею. Ну и пусть. Кому нужны эти ухаживания, эти записочки? А все-таки жалко, что он не решился ее поцеловать.
Она обходила этаж за этажом, потом снова зашла в свой класс. «Ну, здравствуй. Можно мне еще погостить у тебя пять минуточек? Помнишь, что случилось в твоем правом углу, у доски? Мы написали мелом на стене бином Ньютона, чтобы Лола Диц не засыпалась, а она прислонилась к стене и платьем стерла весь наш труд. Мы думали, Мария Никитична не заметит, а она сказала: „Лола, надо, чтобы бином у тебя не на спине был, а в голове“».
Да, они умели доставлять своим учителям хлопотливые минуты.
В пятом их любимым развлечением было выбрасывать за окно мел и тряпку, чтобы сократить «нелюбимый урок».
В седьмом они подражали литературным героям. Саша Давтян объявил себя одним из четырех мушкетеров, и мальчишки нанесли в класс деревянные рапиры. Тогда близнецы Соня и Лола Диц, которых весь класс вечно путал, играли в «Принца и нищего», Мишка Хант читал всем отрывки из своей поэмы «Мцыри из школы номер пять». И только Ника Феноменов, бредивший алгеброй и физикой, заявлял, что его герои – «класса точности Эйнштейна или Циолковского».
В девятом на смену героям пришли героини и «двойки» в дневниках. Мальчишки влюблялись. В своих же соседок по партам, в тех самых, которых восемь лет они называли «гогочками» или «финтифлюшками». Все считалось тайной, и все знали, как кто-то из ребят пригласил в кино Соню Диц, а пришла Лола Диц и как еще кто-то хотел поцеловать Сильву и получил оплеуху «со звоном».
В десятом они сразу дали почувствовать в школе и дома, что стали совершенно независимыми. Иные родители должны были понять, что кашне в тридцатиградусный мороз так и останется распахнутым, иные учителя – что можно ставить «неуд», но незачем его комментировать.
…Вот здесь, перед грифельной доской ее принимали в комсомол. Вначале – Аллу Гриневу. Алке припомнили «историю с географией». Она никак не могла заучить названий японских островов и придумала на модный мотив песенку, которую и спела, вызванная к карте:
Кюсю, Хондо и Хоккайдо —
Это вам не островок,
А из меньших выбирай-ка:
Рюкю, Садо и Сикок…
Ребята прыснули, Мария Дмитриевна тоже не удержалась от улыбки и сказала:
– Есть чувство юмора, нет голоса, чувства стиха, знаний. «Неуд» у тебя пока остается.
В комсомол ее приняли: училась неплохо, вечера хорошие устраивала, дружить умела.
Когда принимали Сильву, комсорг школы сказал:
– Давай о себе. Биографию и прочее.
Она подумала: «Ну какая у меня биография?» До трех лет – ясли. Вот недавно их пригласили с Майкой на юбилей: эти ясли – в городе первые. Заведующая выступала. Говорила смешно так: они с Майкой – ясельные старожилы. С трех до семи – в детском садике. В свободное время играли во дворах в «казаки-разбойники». Об этом говорить, что ли? Родители у нее замечательные. Не хвастать же! В их доме революция молчаливо и строго жила в портретах. Сальма Ивановна редко об этом говорила и Сильву приучила к сдержанности.
– Биография короткая, – сказала Сильва. – Ясли, детсад, школа. В октябрятах была и в пионерах.
– Отметки? Что полезного сделала? – сыпал комсорг, читая какую-то бумажку. – Вот тут сообщили о тебе… Без подписи. На руку, говорят, тяжелая. Мальчика Тараньева избила… И взгляды у тебя, говорят, на Онегина не пролетарские.
Сильва ответила с возмущением:
– У меня по литературе «хор». Это государственная отметка, у нас же не частная гимназия, а государство у нас пролетарское.
– Ладно, ты о Тараньеве скажи.
– Можно, я сам скажу? – С задней парты поднялся Тараньев. – Было такое дело в пятом, двинула она меня. Только я вдвое сильнее, ребята: если б ни за что… В общем – было за что.
Ее приняли. Она пришла в этот день домой тихая, задумчивая.
– Мам, ты была в комсомоле?
– Сивка, пора бы уже знать… Комсомола еще не было, когда я вступила в партию.
Сильва увидела на столе цветы. Обрадовалась.
– Это мне? Ой, спасибо! А я еще мало чего полезного сделала. Но вся жизнь впереди. Правда?
– Правда, правда. Только дело в том, что нельзя откладывать все на «потом».
На «потом» они ничего не откладывали. Обсуждали все сразу.
На пороге выпуска случилось ЧП. Из школы ушла Варвара Ивановна. Десятый «а» прекрасно знал, в чем дело: Пигарева! Собственно, инспектор Пигарева осталась в стороне. Виноваты они. Вывесили газету, не показав учительнице, пропустили в статьях несколько грубых грамматических ошибок. Пигарева увидела газету, велела спешно принести ее на районный смотр и подписать имя ведущего преподавателя русского языка. А им была Бахирева. Ребята спохватились только тогда, когда комиссия из роно стала проверять работу Бахиревой, и она сочла за лучшее сменить и школу, и район.
Новый преподаватель литературы со смешной фамилией Гавот был молод, напорист, но его желание расшевелить ребят, влюбить их в литературу, которую они и без того страстно любили, не встречало в классе энтузиазма. Педагог нервничал.
И вдруг на уроке литературы появилась сама Бахирева. Послушала, как Давтян что-то мямлил об истории написания Горьким романа «Мать», как ни одна из сестер Диц не могла толком изложить идею фадеевского «Разгрома». Послушала и в конце урока сказала:
– Жаль. А я думала, что сумела зажечь в вас какую-то искорку. Не стоит переживать, Ипполит Сергеевич, они недостойны.
И с этим ушла.
Вот когда началась буря. Вот когда десятый «а» обрел самостоятельность.
Аркадий Шаров. Почему это мы недостойны?
Саша Давтян. Ша, мальчики! Мало ли и раньше было уроков, которые мы не готовили?
Сильва Воскова. Да ведь нас же считают пустыми головами.
Алла Гринева. Школа не должна была отпускать Бахиреву!
Миша Хант. Мы сами подвели ее с газетой.
Сильва Воскова. Так что мы – бастуем? Я и не знала. Я думала, мы учимся, что-то знать хотим.
Лола Диц. Мы и без уроков Гавота литературу знаем.
Саша Давтян. Чего-то знаем, чего-то нет!
Сестры Диц. А ты совсем ничего не знаешь!
Юра Будыко. Это уже не довод. Это личные счеты.
Сестры Диц. Сам ты счеты и еще клуб четырех коней.
Юра Будыко. Будем учиться, как положено, или нет? Надо же в даль смотреть, а не только под ноги.
Сильва Воскова. Лично я буду учиться. И даже извинюсь.
Сестры Диц. Мы тебя не уполномачиваем.
Сильва Воскова. А я не от вас. Я – от себя.
Ника Феноменов. О чем вы думаете? Дадут нам на выпускном сочинение: «Мать» Горького – запоете!
Миша Хант. И не в этом только дело. Вообще – стыдно. Раз подвели Бахиреву и второй.
Инна Шафран. Я считаю, что педагог переживает из-за нас, а не из-за себя, и это значит, что он оказался выше нас и благороднее нас.
Майя Ратченко. Ставлю на голосование. Кто за извинение и за комсомольское отношение к литературе?
Аркадий Шаров. Ставь раздельно!
Сильва Воскова. Только вместе!
Сестры Диц. А если мы…
Сильва, Майя и Миша. Только вместе!
Алла Гринева. Одобряю! Бузить – так бузить, отвечать – так вместе!
…Сальма Ивановна спросила у дочери:
– Ты почему сегодня такая веселая пришла?
Сильва ее закружила.
– Мама, я сегодня читала на уроке Блока: «И старый мир, как пес безродный, стоит за ним, поджавши хвост…» Потом разбирала. Товарищ Гавот был доволен.
– Что же в этом особенного, Сильва?
– Мама, ты же сама говорила… Нельзя откладывать все на «потом».
…А парты чистенькие, сверкают. Придут новенькие и угадают: «До нас здесь был десятый „а“».
– Сильва, ты здесь? – в дверях их классный руководитель. – Пора готовиться к вечеру.
Девочка растерянно поднялась из-за парты.
– Я и готовлюсь, Изабелла Юльевна… Я вспоминаю. А знаете, я не хочу уходить отсюда.
Учительница кивнула.
– Рада от тебя это слышать, Сильва. Но жизнь широка…
Сильва взволнованно заговорила:
– А что нас ждет, Изабелла Юльевна? Новая парта? Вот у моих родителей, у вас была героическая юность. Вы знали Котовского, помните первые бои за Советскую власть. А будет ли у нас поле боя? Или только чертежные столы, рейсфедеры, формулы…
Учительница улыбнулась:
– Пожалуй, день самый подходящий для таких раздумий. Что тебе сказать? Обычно мы, учителя, в таких случаях всегда говорим, что ваше поле боя – вдохновенный труд, и это тоже героика. Впрочем, я как-то слышала, ты это и сама говорила своим «ежикам». – Она помолчала. – Юность у вас еще только начинается, а небо над Европой и миром хмурится. Боюсь, что испытаний вам еще хватит по уши. Совсем не праздничный разговор, – сердито оборвала она себя.
Сальма Ивановна заметила в этот день, что Сильва молчаливая, задумчивая. Свернула географическую карту в трубочку, учебники рассовала по ящикам: и все это – будто отсутствует, будто руки работают, а мысль далеко…
– Что, Сивка, жалко школу оставлять?
Кивнула.
И все в этот вечер собрались непривычно тихие, серьезные. Куда только испарилось лукавство с худощавого лица Миши Ханта? Что же ты не распеваешь свои подслушанные у старших песенки, Алла Гринева? Когда мы услышим от тебя, Юра Будыко, что Капабланка должен был сыграть не на це-пять, а на аш-семь? Да что с тобой, десятый «а»? Что ты потерял?
Мы встретим много школ опять
И формул строй таинственный,
Но наша школа номер пять
Останется единственной.
Да, у десятого «а» и поэты свои есть!
После них на сцену поднимается директор школы. Она заметно волнуется. Какие найти слова – не для напутствия, а для вооружения юности?
– Мы уже сказали вам все, что могли. От души желаю вам счастья, ребята. А чтобы каждый из вас знал, что думает о нем школа, мы приготовили для вас вместе с аттестатами характеристики. О каждом. Они прозвучат только здесь.
Это ново! Это сюрприз! Они сидят в ожидании, настороже.
Сильва думает: «Сейчас вспомнят, как я здорово подсказывала в седьмом. И как в восьмом вытягивала Онегина из дворянского болота».
– Сильвия Воскова, – говорит директор, вручая ей аттестат. – Мы будем помнить тебя, как дисциплинированную, способную и умную ученицу. Как человека большой гражданской честности. Мы знаем, как дорого тебе все, что связано с нашей революцией, и какой бой ты задавала тем, кто на завоевания отцов смотрел, как на свою личную собственность. Пусть же исполнится твое самое заветное желание: найти когда-нибудь случай, чтобы проявить свою волю и свой характер. Будь счастлива, девочка.








